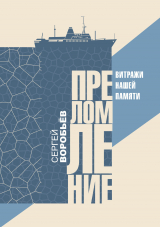
Текст книги "Преломление. Витражи нашей памяти"
Автор книги: Сергей Воробьёв
Жанр:
Сентиментальная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
У Ивана Афанасьевича Васильева
Я вспоминаю встречу с писателем и публицистом Иваном Афанасьевичем Васильевым в конце 80-х. Он жил тогда в добротном деревянном доме на окраине деревни Борки Псковской области, куда меня занесло волею житейских обстоятельств. Мне тогда не было ещё и сорока, а он, умудрённый жизненным опытом и немалым литературным грузом, обременённый двумя премиями в области литературы (Ленинской и Государственной им. Горького), подбирался к 70-летнему юбилею, который в итоге увенчал его жизнь. Писатель жил по-русски просто, убранство дома без излишеств, всё рационально, без стяжательных затей с ненужными вещами. В передней части дома-избы путь преграждали деревянные стеллажи со множеством книг, отгораживающие горницу с большим струганым дощатым столом. На столе были разложены начищенные дольки чеснока и четвертинки луковой головки. Писатель готовился к обеду. Это ощущалось по ядрёному запаху щей, доносившемуся из кухни.
Молодая, сбитая, пышущая деревенским здоровьем хозяйка с улыбкой на лице попросила меня немного подождать:
– Иван Афанасьевич отобедает и уделит вам несколько минут. Потом у него традиционный послеобеденный сон.
Я сразу почувствовал, что нарушил устоявшийся временем и привычками распорядок. Визит мой был неожиданным, не запланированным, притормаживал извечный ход вещей, разрывая их связи в этом уголке спокойного и налаженного быта.
Иван Афанасьевич указал на дальний закуток в лабиринте книжных стеллажей, где стоял добротный письменный стол. Это был его кабинет. Особой радости от моего появления на лице писателя я не заметил. Скорее, на нём отражался какой-то глубокий внутренний, ещё до конца не осознанный вопрос, с которым он и ушёл в свою одиночную трапезу. Ел он молча, не торопясь, с хрустом прожёвывая чесночно-луковичную приправу. Я мог только слышать и нюхать.
Пока Иван Афанасьевич обедал, мне приглянулись стоящие на полках Шекспир, Г. Манн, Гоголь, Эренбург. Снимаю томик, открываю наугад страницу.
Когда на броневых автомобилях
Вернёмся мы, изъездив полземли,
Не спрашивайте, скольких мы убили,
Спросите раньше, скольких мы спасли.
«А что я, собственно, от Ивана Афанасьевича хочу? – подумал я, определяя томик Эренбурга на своё место. – Чтобы он прочитал мои несовершенные и незаконченные литературные опыты? Дал оценку, рекомендации, советы? Я, случайный подмастерье, пришёл к Мастеру под избиение розгами? Или под поощрительный кивок головы? Или ещё для чего-то?»
Мои сомнения развеял сам писатель. Он вошёл в кабинет, расточая в воздухе луково-чесночные ароматы. Постучал ладонью по крепким вертикальным стоякам книжных стеллажей, изрезанных по торцевым частям мелкой неизощрённой резьбой, и произнёс густым горьковским голосом:
– Сам резал! – и он ласково посмотрел на дело рук своих: – Горжусь!
Было сразу заметно, что резьба по дереву – важнейшее дело его жизни. А всё остальное, даже свои писания, держал он в стороне как вторичный, необязательный труд. И, кстати говоря, резьба эта – именно она! – больше всего привлекала внимание в его доме. Остальное смотрелось чем-то второстепенным.
– Ну-с, – проговорил лауреат двух престижных в те времена премий, – с чем пожаловали? Небось, хотите дать мне на прочтение что-то своё?
– Примерно так, – пришлось согласиться мне с его проницательностью.
– Как вас, простите, величать? – поинтересовался писатель.
Я назвался.
– Да, имя обычное. Это хорошо. Надеюсь, псевдонимом не обзавелись? А моё вы что-нибудь читали? Хотя бы последнюю трилогию.
– К сожалению, нет, – признался я.
– К сожалению! – повторил он за мной. – А может быть, к счастью. Ну, хорошо, вы меня, «к сожалению», не читали. А почему я должен читать вас? Да это и не важно, прочту я или нет. Поверьте, от этого ничего не изменится. Вы отнимете у меня драгоценное время, а взамен абсолютно никто ничего не получит. Даже если я прочту ваше, даже если оно окажется гениальным. Что из того? Ни я, ни вы не можете повлиять на ход вещей. Если вам суждено стать мастером слова – это ваша судьба, и вы в любом случае добьётесь своего, и кривая вывезет на то место, где вас оценят. Или не оценят. Вы пришли в мой дом наподобие подмастерья, сделавшего табурет и предлагающего мне его купить. Но у меня уже есть табурет. На нём вы как раз и сидите. А лишних мне не надо.
– Оригинальное сравнение, – заметил я с лёгкой не обидной иронией.
– Именно так! Вы строгаете свои табуретки, я – свои. Если кому-то понадобятся ваши – идите ими торговать. Конечно, занять прилавок на этом рынке не так просто. Но, если постараетесь и докажете, что ваши табуреты самые крепкие, надёжные и долговременные, место само найдёт вас. И потом не забывайте, что этот условный табурет стоит денег. На него потрачен немалый труд. А любой труд тем или иным образом вознаграждается. Я, например, за гонорары от своих работ построил этот дом, в котором мы находимся. Дом – это храм. И душа храм. В этих обителях должно быть светло и спокойно. А если светло и спокойно, то и благостно.
– Но писать научить невозможно. А делать табуреты можно научить, – возразил я.
– Это глубокое заблуждение. Каждый должен заниматься тем, к чему более расположен. Можно привить только навыки. Если вы расположены к писанию и не можете не писать, то будете писать и в стол. Это не зазорно. И даже полезно. Готовую вещь всегда можно вынуть, огранить её, подчистить и поправить угловатое. Тогда можно и в ход пустить. Издревле создавались запасы на будущее, только нужно уметь их сохранить. А в нужное время – использовать. Вы уж извините меня за такие сравнения, но я человек сельский, у меня и аналогии соответствующие. А главное – умейте находить себя в том, что по душе.
Сказав это, Иван Афанасьевич опять с любовью похлопал ладонью по резным узорчатым торцам книжных полок. Он оказался не любителем читать всё подряд. Особенно те вещи, которые ему кто-то подсовывал. И это правильно. Когда вам навязывают товар, это всегда кажется подозрительным. Он научил и меня так же относиться к ненужному. Ну, если только что-то особенное затронет душу, тогда вчитываюсь, вдумываюсь, рассуждаю. Но это бывает не слишком часто. Особенно с возрастом.
Я благодарен судьбе за эту встречу. Подобные встречи помогли мне относиться к жизни не так, как придётся, а более взвешенно. И принимать всё не только в той полутьме, в которой отражена наша шершавая действительность, но и в свете постигаемой истины.
Борис Орлов
Бориса Александровича Орлова я повстречал в 2005 году. Зашёл «на огонёк» как сопредседатель рижского Союза литераторов. Он тогда был и до сих пор остаётся председателем Петербургского отделения Союза писателей России. Для многих фигура неоднозначная. Но для меня понятная и прямая. У него морская закалка. У меня тоже. Поэтому общаемся мы, как говорится, без переводчика: моряк моряка видит издалека. Хотя в званиях у нас большой разрыв: у него погоны капитана I ранга, у меня – старшины I статьи. Но на Северном флоте служили параллельно: он на атомной подводной лодке, я в базе подплава.
В обращении Борис прост и конкретен. Как старому подводнику, ему постоянно нужны цель и образ врага. И он находит и то, и другое. Врага чует нутром, определяет по слову, поведению и делам. Борется с ним жёстко и бескомпромиссно. Поэтому и врагов у него много. Под его горячую руку и крутой нрав лучше не попадаться. Молодые литераторы, коих в Петербурге не счесть, Орлова побаиваются и встают на дыбы: он редко их журит, в основном ругает и воспитывает, как матросов на военном корабле.
Стиль руководства его военный, но по-другому, пожалуй, нельзя. Литераторы народ ревнивый, амбициозный, нередко раздражительный, часто завистливый, эгоистичный, эгоцентричный – разный. Их может сплотить только военная дисциплина, даже если это сплочение направлено против самого руководителя. Поэтому-то питерское отделение СП России одно из самых многочисленных, и не распалось, и работает по сей день.
Я как-то говорил ему о том, что борьба эта может отвлекать от творчества, ослабить поэтический дар. А этот дар у него, безусловно, есть. На мой взгляд, он является продолжателем русских традиций, связанных с такими именами, как Сергей Есенин, Николай Клюев, Сергей Клычков. Поэзия Орлова проникнута болью за Россию, за русскую деревню, за наш флот – опору самостоятельности и независимости Родины. В нём не манерно, без надрыва проявляется русская самобытность и не израсходованная до конца богатырская сила. Его философское осмысление нашей жизни отражено, к примеру, в таких строках:
Шаг тяжёл. И постарело тело.
Чаще ждём нерадостную весть.
В детстве мир мечтаем переделать,
В старости – оставить всё, как есть.
Орлов прост в дружеском общении, даже иногда слишком прост, но найти и сказать вовремя резкое слово умеет. Бьёт всегда в точку, в цель, как при торпедной атаке. Похоже, враги ничуть не вредят его творчеству, а придают ему новый творческий импульс. Это держит поэта на плаву. Он сам признаётся в своих стихах: «Но знаю, что вам без меня – спокойней жилось бы и тише».
На мой посыл о «внутриполитической борьбе» в писательской среде и около неё он реагировал по-военному:
– Даже во время боевых дежурств, когда уходишь в поход, как на войну, я раскладывал чистые листы на атомном реакторе и писал. И то были не самые плохие стихи, а возможно, и лучшие. Так что состояние конфронтации для меня привычно. Это просто рабочая атмосфера.
Мне тут же припомнились строки из подаренной им когда-то книги стихов «Надо мной только вечер и Бог».
Кто-то дышит в затылок, толкает в кювет.
Жизнь – игра в догонялки и прятки.
Бьют за то, что родился на свет…
Я встаю. Всё в порядке!
У меня с Орловым в своё время тоже была «сцепка». Ему страшно не понравилось моё сотрудничество с его нелюбимым питерским альманахом, а скорее всего – с его редактором. Сколько было упрёков и укоров на мою голову!
– С кем ты связался?! – нападал он на меня. – Ты, вообще, знаешь, кто он такой?! На подлодке таких на пушечный выстрел не подпускают…
Я не защищался, а просто и доходчиво апеллировал, мол, твоих мотивов не знаю, воюй с ними сам и меня в эти военно-морские игры не вмешивай…
– Да ты знаешь… – продолжал Орлов.
Пришлось его прервать – не знаю и знать не хочу…
Какое-то время он имел на меня зуб. Это было видно по натянутому с его стороны отношению. Но поскольку я одеяло на себя не тянул и сохранял к нему прежнюю приязнь и уважение, он это почувствовал и постепенно оттаял.
Морскую службу знаю не понаслышке. Прослужите десять-пятнадцать лет на подводной лодке, и я на вас посмотрю. Моряк-подводник – это особый статус. На нём держится – говорю это без пафоса – мир на нашей планете. Когда субмарина приходит из дальнего похода, пробыв полгода под водой, моряков качает от ветра, а сами они похожи на бледнолицые привидения, до конца не осознающие реальность встречи с долгожданным берегом. Потом их здоровье восполняется обязательным отдыхом и почти месячным лечением в лучших санаториях Союза. Походите вот так хотя бы с пяток лет, вы по-хорошему заматереете, приобретёте навыки бойца и непримиримость к фальши и лжи. Всё это Орлов приобрёл, и у него этого уже не отнимешь.
С Борисом Александровичем всё просто и не просто. Понять его может только человек русской души.
Как-то в разговоре с одной петербургской поэтессой, чьи стихи привлекают внимание немалого круга читателей, речь зашла о Борисе Орлове. Поначалу она скептически отнеслась к этому имени, припомнив совместное выступление на одной из поэтических площадок. Её не привлекли ни форма морского офицера, ни чёткие «рубящие» строки его патриотических стихотворений. Да и говорили о нём в среде литераторов самое разное.
– Что есть стих? – спросила она не то у меня, не то у себя и продекламировала:
Поэта стих – обрывки разговора,
песчинки смеха-хрусталя…
Мне, к сожалению, пришлось её прервать:
– Я понимаю вашу поэтическую музыкальную стихию, но и вы постарайтесь понять его стихию – стихию моря, родной земли, стихию грусти и боли за свою Родину, стихию Богом данной нам жизни. И кстати, его стихи о России очень созвучны с вашими…
– Моими? – удивилась она. – Не может быть!
– Что-нибудь можете прочесть из своего? – спросил я.
– О России? Ну хотя бы вот это:
Я принимаю в дар
дыханье лёгкое полей,
медлительность
просёлочной дороги,
всеблагодатную
отверженность монастырей
и в прорези лесов —
глаза озёрной
глади-недотроги.
Смиренная,
приму смиренность ноября
и мерность времени
вне веденья полёта,
привычку матери —
калитку отворя,
перекрестить вослед,
оберегая от кого-то…
Всевышнего немилость,
Русь моих скорбей,
приму без слёз,
без вздоха укоризны…
Но золотых
всевластие цепей?
Как не вольна душа твоя в них,
бедная ОТЧИЗНА…
В ответ я открыл томик Орлова.
– Это вам наверняка понравится:
Скорее бы добраться до ночлега,
Пока в деревне люди не уснут.
Скрипит моя разбитая телега,
И щёлкает лохматым длинный кнут.
Живём на горе, а не на потеху,
Как двести лет назад… И грязь, и жуть.
Бежит лошадка там, где не проехать
Машинам – позабытый русский путь.
Смеркается. Но шаг лошадки пегой
Короток. Впереди слышна гроза.
Скрипят деревья. И скрипит телега.
И жизнь течёт, как двести лет назад.
– Это Орлов?! – спросила поэтесса с удивлением.
– Это Орлов! – подтвердил я.
– Да-а… – протянула она и тихо добавила: – Прав Фёдор Михайлович – широка русская душа.
Михаил Задорнов
На улице Альберта, дом 4 в Риге долгое время находилась библиотека имени известного советского писателя Николая Задорнова, которую открыл и содержал его сын Михаил Задорнов. Этот дом был построен в 1911 году в югендстиле по проекту Михаила Эйзенштейна, отца знаменитого советского режиссёра Сергея Эйзенштейна. Описывать дом не берусь. Здесь нужно знать не только архитектурные термины и приёмы, но и древнюю историю, геральдику, символику, предпочтения прошедшего века и многое другое – всё, что отразилось в художественной отделке как самого фасада, так и внутренних интерьеров.
Михаил Задорнов заработанные деньги от своих выступлений, концертов и книг щедро пускал на благотворительность: помогал людям, попавшим в трудную ситуацию, в одном из престижных кварталов Риги открыл упомянутую мной библиотеку, приглашал и привечал известных представителей литературы, кино и эстрады. Одним словом, был добрым малым.
В библиотеке, которую в народе окрестили «Задорновкой», в большом просторном холле мы собирались раз в месяц для творческих встреч. Сам хозяин библиотеки время от времени приглашал к себе светочей литературного бомонда России. Они, как правило, выступали в присутствии относительно небольшого круга заинтересованных лиц, оставляли в дар библиотеке свои книги, расписывались на стенах холла, фиксируя не только свою подпись, но и короткие пожелания или просто умные высказывания и выражения.
К сожалению, после ухода Михаила Задорнова библиотека в связи с прекращением финансирования перестала существовать. Не нашлось ни одного русского предпринимателя или общественного деятеля, который взял бы на себя бремя или часть бремени расходов на сохранение столь необходимого русского наследия в Латвии. Но не прошло и полгода, как ситуация всё-таки изменилась: библиотека Задорнова, слава Богу, начала новую жизнь, но уже в другом месте – под крышей «Дома Москвы» в Риге. Нашлись люди, которые возродили библиотеку. Было сделано главное: сохранён основной фонд, появилась моральная и материальная поддержка. Библиотека и сама идея выжили.
При жизни Михаила Задорнова в библиотеке, располагавшейся в историческом здании, выступали Евгений Евтушенко, Андрей Дементьев, Владимир Мединский, Дмитрий Певцов, Владимир Качан, Сергей Алексеев. Михаила Задорнова связывала с ними не только дружба, но и близость взглядов и мнений по вечным русским вопросам.
Как-то раз я оказался на встрече с Захаром Прилепиным. Круг приглашённых был довольно узким: холл вмещал не более тридцати человек. Цена за вход была почти символическая, всего 10 евро. Писатели могли говорить о таких вещах, которые не «прокатили» бы в других местах.
После традиционного вступительного слова Задорнова Захар Прилепин своё выступление начал с того, что однажды ему позвонил Никита Михалков, сказав мягким голосом мэтра: «Старик, ты – гений».
– После такой оценки, – с полуулыбкой на губах заметил Захар, – мне нужно было бы говорить какие-то умные вещи…
Особенно умных вещей он не сказал, но в итоге произвёл впечатление знающего, начитанного собеседника, имеющего свой твёрдый взгляд на процессы, происходящие в нашем обществе, в мире в целом и в литературе в частности. Было много вопросов, что всегда является индикатором интереса к автору. Но лично у меня создалось впечатление, что всё сказанное им было произнесено как-то отстранённо. Словно писатель находился не здесь, а где-то там – в атмосфере задуманного им нового романа. А наша встреча существовала для него как навязанная необходимость.
Тем не менее Задорнову понравилось его выступление, но особенно понравились нескончаемые вопросы слушателей. И он на ходу принял решение: на следующей неделе выступить самому, и притом бесплатно, в надежде услышать такие же «умные» вопросы.
– Зал не может вместить всех желающих, – сообщил он в завершение, – а мне хочется пообщаться именно с вами. Поэтому оставьте билетики на наш сегодняшний вечер, они будут пропуском на встречу со мной.
На встречу с Задорновым пришли тем же составом, свободных мест не было.
Он поблагодарил за интерес к его творчеству и после короткого вступительного слова сказал:
– Лучше спрашивайте. А я буду отвечать.
Я уже заметил, что для любой знаковой фигуры не обязателен даже «разогрев» публики для привлечения особенного внимания к своей персоне. Просто достаточно сказать: «Задавайте ваши вопросы». И всё. С интересным человеком встреча обязательно будет интересной и запоминающейся. Главное – это обратная связь, когда протягивается нить между аудиторией и выступающим.
После выступления около Задорнова собралась толпа не до конца удовлетворённых слушателей, и вопросы задавались уже тет-а-тет. Когда народу поубавилось, подошёл и я поблагодарить его и за выступление, и за библиотеку, и за возможность проводить в её стенах наши литературные семинары.
Пожав мою протянутую руку, он заметил:
– Такое рукопожатие пошло от масонов. У славян принято по-другому.
И он взял мою руку чуть ниже локтя, автоматически я сделал то же самое, в итоге наши руки сошлись в замок.
– Чувствуете разницу? Здесь проявляется настоящая славянская сила и единение.
Задорнов теме славян уделял особое внимание. На эту тему им написаны несколько книг: «Князь Рюрик. Откуда пошла земля Русская», «Слава роду! Этимология русской жизни», «Рюрик. Потерянная быль». Он пытался исследовать происхождение, язык и пути распространения славянских народов. На эту же тему им были созданы фильмы «Вещий Олег. Обретённая быль» и «Рюрик», в которых он возвращался к извечным вопросам истории.
После нашего рукопожатия по-славянски Михаила Задорнова я больше не видел. Пришёл только через год на его отпевание в церкви Святого Александра Невского. Народу было – тьма.
А я всё вспоминал то крепкое славянское рукопожатие от неординарного и светлого человека.
Вневист Алексей Филимонов
Алексей Филимонов – особая личность. Он живёт в каком-то парадоксальном мире символов, ощущений, в «творящем сознании запредельного бытия». Его взгляд постоянно устремлён в какие-то неведомые для нас дали. Речь наполнена нелепыми для «непосвящённого» смыслами. «Утрата осязаемого пространства здесь приближает Космос», – говорит он. И в этом весь Филимонов. Он смотрит на нас с вами будто с какой-то доступной лишь одному ему туманной вершины. Отсюда его идея о рождении нового течения «вневизм», которое он пестует и лелеет, пытаясь привить его к общему литературному древу.
Что мы знаем о вневизме? Ничего. В литературных кругах над ним посмеиваются, не принимают и отторгают. Филимоновым была сделана заявка на обстоятельный доклад по вневизму не где-нибудь, а в ЮНЕСКО. Основатель вневизма настаивает, что «вне» – это единственная «несубстанциональная субстанция», проявленная в человеке неземном, воскрешённом в духе нового тысячелетия перед вторым пришествием. Филимонов считает, что приставка «вне» приложима к любому существительному, поэтому, с его слов: «…вневолюция свидетельствует об опоре на подлинную традицию, когда символ, согласно вневизму, знаменует некое зияние, сквозную вертикаль духа, уводящую в безбрежье ради подлинного возвращения и присутствия здесь и теперь в материи ради её преображения, достигая, при человеческом участии, по словам современного поэта, некоего «всевидения извне».
Не обошёл Филимонов и Малевича с его чёрным квадратом: «…Мир дал трещину, и сквозь неё полезла паутина мистики, обволакивающая мутной ширящейся пеленой души и сознание. Удивительно, что сей эзотерический прорыв никоим образом не связан с формированием новой эстетики, более того, на ней вообще ставится крест, и здесь также тайно проступает Малевич в ипостаси маляра символики тоталитаризма!»
Маляр символики тоталитаризма! – вот определение Малевичу по Филимонову. Маляр! Но не художник.
Я не то чтобы увлёкся филимоновскими словоплетениями, но какое-то время в переписке с ним бесплодно дискутировал о смысле человеческого словотворчества, удивляясь нелепым идеологемам его языка, порождённым хаосом его мыслей. Переписка попала в руки главного редактора журнала «Второй Петербург», и он её ни-чтоже сумняшеся опубликовал в очередном номере. Что в итоге ввергло в ступор здешних литераторов, и далее посыпались реплики: «больно умные стали», «словечка в простоте не скажут». Последняя реплика, надо признаться, была вполне справедливой. Куртуазность и вычурность письма ещё не говорят о глубоком уме или интеллекте, а скорее свидетельствуют об обратном – манерности и раздутом эго.
Один серьёзный литератор сказал по этому поводу примерно следующее: «Здесь проявляется своего рода словоблудие, плетение слов-сетей. А сети-то дырявые. Создатель и идейный вдохновитель нового течения просто родил очередного идола, молится на него и ищет себе адептов. Странно, что на его удочку клюют».
Приведу для примера хотя бы несколько филимоновских строк из его поэтического опуса «Внецвели внезантемы»:
Внезантем лепестки манящи,
уронила звезда цветок
в глубину, в серафимость чащи,
притаившуюся меж строк.
О спросе на вневизм можно судить по следующему эпизоду.
Присутствуя на очередном ежегодном книжном салоне в Петербурге, я уютно расположился в павильончике Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России рядом с прозаиком и моим единомышленником Анатолием Козловым. Все книги, в основном питерских литераторов, были плотно разложены на столе-прилавке, и их авторы, время от времени подходя к нашему павильону, интересовались востребованностью своих творений. Среди творений лежала и небольшая книжица стихотворений вневиста Алексея Филимонова. Лежала она в первом ряду и была вполне доступна для собравшихся в манеже толп, жаждущих слова. Но за три дня работы салона никто не удосужился не то что поинтересоваться содержимым книжицы, но даже прикоснуться к ней взглядом.
Чтобы хоть как-то выделить книжицу нашего вневиста, мы с Анатолием положили её в центр стола, окружив бутербродами с красной икрой, сосисками, огурцами и дольками мандарина. Была надежда, что, оказавшись в центре натюрморта, она наконец-то привлечёт внимание читателя.
Борис Орлов, председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей и один из главных действующих лиц салона, проходя мимо и заметив «пиршество», сказал с ненавязчивым укором:
– Ребята, я всё понимаю, но так тоже нельзя…
Когда мы предложили ему выпить, он наотрез отказался:
– Сейчас не могу, на работе. У меня сегодня ещё три мероприятия.
– Так мы тоже вроде на работе, – согласился мой коллега, – а есть-то хочется. Никто нас не подменяет. Вот и решили, не отходя от кассы, так сказать.
– Ну, смотрите у меня! – дружески погрозил пальцем Орлов, видя нашу трезвость.
Когда мы приняли по третьей и на импровизированном столе осталось только два бутерброда, долька мандарина и огурец, к нашему павильону подошёл сам Алексей Филимонов.
– Как идёт продажа? – поинтересовался вневист, выискивая среди разложенных книг свою.
– Очень хорошо, – сразу отозвался Анатолий, – у меня «Закваски Фарисейской» только две книги осталось. Думаю, если не сегодня, то завтра всё уйдёт.
Когда взгляд Алексея Филимонова остановился на бутербродах с красной икрой, красиво разложенных вокруг его книги «Ночное слово», то поначалу вневист не знал, что и сказать, а только открывал рот, как вытащенная из воды рыба. Наконец, слегка заикаясь, произнёс:
– Это что ж такое делается? Почему на моей книге еда? И как всё это объяснить?
– Здесь всё очень просто, – начал объяснять Козлов, – чтобы хоть как-то обратить внимание на твою книгу, мы решили вытащить её на видное место и украсить сам видишь чем. Смотришь, книгу кто-нибудь и купит. А так она у тебя аж с 1999 года лежит где-то под спудом… А если и не купят, то хотя бы послужит она доброму делу – покрасуется как главная деталь натюрморта. Не зря, получается, печатал. Давай выпьем за твою книгу и за твой мудрёный вневизм. У нас ещё есть… – И наш прозаик, автор «Закваски», потряс плоской флягой из нержавеющей стали, и в ней забулькало.
У Алексея Филимонова лицо сделалось абсолютно симметричным, похожим на затвердевшую маску, носогубные складки разгладились, уши слегка ушли назад. Он вытащил из-под остатков разложенной закуски своё «Ночное слово» и среди бела дня опустил его в боковой карман пиджака. Не произнеся больше ни звука, наш вневист удалился с надмирной печалью, окутавшей весь его облик.
– Не понимает Филимонов, – сделал заключение Анатолий Козлов, – нашего дружеского к нему расположения. Вневист, он и есть вневист. Пора ему уже спуститься с небес на землю.








