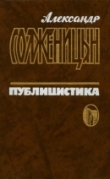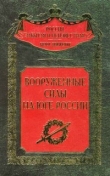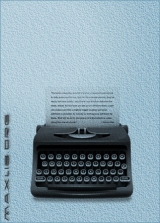
Текст книги "Статьи"
Автор книги: Сергей Волков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Россия не виновата
Ничто не вносит такую путаницу в сознание, как подмена названий, когда одним и тем же словом именуются разные до противоположности понятия. Когда нынешняя «российская» армия оказывается не в состоянии противостоять чеченским бандитам, а «российская» дипломатия соучаствует в отторжении от Югославии исконных сербских земель, нормальному человеку обычно бывает стыдно, «за державу обидно» – вот до чего, дескать, довели Россию. И напрасно. Потому что Россия здесь совершенно не при чем. Ее еще нет, как не было с 1917 года.
Отождествление с Россией того, что существует ныне в пределах РФ, не только неразумно, но крайне вредно для общественного сознания. Когда мы привычно говорим «Россия», «российский» применительно к сегодняшним реалиям, мы понимаем, что это условность, что это не Россия, а территориально вдвое урезанная Совдепия, но абсолютное большинство населения страны находится под впечатлением того, что когда-то была Россия, потом вместо нее существовал СССР, а теперь снова стала Россия.
Имя нашей исторической державы принимает на себя и все совершаемые нынешним режимом мерзости, и весь пласт остаточного советского наследия. Вот уж несколько лет мы привыкли к газетным заметкам такого, например, рода: «В уральском городе Ирбит торжественно открыт памятник Ленину. Шесть лет назад он был снят с пьедестала. Энтузиасты отреставрировали его и водрузили на прежнее место, снабдив новой ленинской цитатой: „Классовая борьба продолжается, и наша задача – подчинить все интересы этой борьбе“». Недавно вот во Владивостоке принято решение восстановить памятник Дзержинскому… Но в России никогда не поставят памятников ни Ленину, ни Дзержинскому. Страна, где они стоят, должна именоваться по-другому.
Год назад проводился опрос: «Согласны ли Вы с мнением, что члены Царской семьи должны быть причислены к лику святых мучеников?» (оставим даже в стороне вопрос, какую цену по такой проблеме может иметь мнение в большинстве неверующих и более чем на 90 % не воцерковленных людей). Более половины (51 %) были «несогласны», а еще 27 % затруднились ответить. Теперь представьте, как это звучит: «Народ России – против канонизации Царской семьи!» Но так не может быть, это население Совдепии – против.
Это не Россия предала сербов, признала отторжение своих окраин, клянчит американские займы. Все это творит обломок Совдепии, плоть от плоти ее во главе с советскими же людьми творит подобное. Особенно противоестественно выглядит сочетание «российская армия» – как будто так могут именоваться всякие войска, укомплектованные русскими людьми. И во времена Орды русские отряды участвовали в ее походах, и РККА состояла из русских, только ни золотоордынским ханам, ни советским вождям не приходило в голову называть свои силы этим термином. Нынешним правителям – приходит. Но неужели же этого достаточно, чтобы и нам так считать: была советская, стала – российская?
Помнится, как-то один из южноамериканских, с позволения сказать, кадетских листков обвинял «Нашу Страну» в том, что она, обличая военную советчину, ведет «антиармейскую кампанию». Ну да, если угодно, – антиармейскую (потому что Красная, Советская армия – это ни что иное, как именно армия). Только это та самая кампания, которую вели Колчак, Врангель и другие руководители Белого движения в годы Гражданской войны, бойцы Русского Корпуса двадцать лет спустя и белая эмиграция все последующие годы (почитайте-ка труды русских офицеров-эмигрантов хоть 30–х, хоть 60–х годов). Настоящим русским патриотам всегда было ясно, что Красная Армия – это не наша армия и ее победы, против кого бы они ни были одержаны – не наши победы. Эта армия разрушила Россию и в годы Второй мировой войны защищала не ее, а советский режим и коммунистический строй. Но всегда находились недоумки, которым очень хотелось выдать желаемое за действительное.
Недавно вот довелось читать в одной из газет, наиболее плохо относящихся к исторической России апологетическую статью о командующем группировкой на северо-востоке адмирале В. Дорогине, который «слывет на Камчатке философом, интеллектуалом» и собственноручно написал курс лекций для матросов по истории флота. Какого рода этот курс видно из сожалений адмирала, что «матросам рассказывают о Первой мировой войне, а потом сразу о Великой Отечественной» а гражданскую выпускают. Если кто-то подумал, что он собирается рассказать о ней правду, то сильно ошибется. Это он недоволен стыдливостью нынешней власти в воспевании красных героев, защитников дела Октября. Но дальше следует совершенно замечательный пассаж. Дело в том, что под началом адмирала находится и 22–я «Чапаевская» дивизия, в один из полков которой в 1922 г. был зачислен почетным бойцом «сам» Ленин, и в 1–й роте до сих пор стоит его кровать, регулярно заправляемая солдатами. После 1991 г. ее «естественно, пытались свергнуть». Но Дорогин отстоял, чем весьма горд и комментирует: «И пусть так будет!». Журналисты же пишут: «Дорогин вполне солидарен с тем, чего опасаются остальные офицеры, – действительно, если не „кроватка Ильича“, то что взамен? На каком примере воспитывать солдат?… Это совсем не праздный вопрос для нынешней армии. На примере воевавших в Чечне? В Афганистане?»
Такая вот, понимаете ли, проблема стоит в «российской армии», которой из всей своей истории нечего взять, кроме «кроватки Ильича». Попутно осуждается и «десяток лет реформ, ушедших во многом на то, чтобы сбросить за борт подобных Дорогину людей и сделать это расчищение одним из условий строительства жизни по-новому». А ведь точно – не выбросив их, российскую армию из советской не сделаешь.
Собственно, этого вообще нельзя сделать автоматически. Российскую армию можно создать, только распустив советскую. То есть, поступив примерно так, как поступали обычно в научных учреждениях, когда отдел или весь институт упраздняют, а потом объявляют конкурс на места во вновь созданном того же профиля, но берут туда не всех. Дело даже не столько в кадрах, сколько в самой сути армии. Абсолютное большинство нынешних офицеров вполне могли бы служить и в армии российской (тем более, что других взять неоткуда). Но бывший советский офицер должен знать, что он поступает на службу в совершенно другую, новую для него, российскую армию, основанную на иных традициях и принципах, чем, советская, которые он обязан принять, если хочет служить, – чтобы он туда не тащил советчину. В настоящее же время все происходит как раз наоборот: это его, советская армия и с какой стати он должен отказываться от ее традиций и принимать какие-то другие, менять Жукова на Врангеля и т. д.? Он их и не принимает, и чувствует себя «в своем праве». Но так эта армия никогда не будет российской.
В подобном же преобразовании нуждается и вся государственность, все законы, институты и учреждения РФ. Только тогда можно будет говорить без кавычек о российской государственности, российской власти, российской армии и т. д. Пока же их нет, Россия не виновата в нелепостях, глупостях и прямых преступлениях, совершаемых от ее имени самозванцами под русским флагом, и да не лягут они на ее доброе имя!
Руководство подлинной, исторической России, конечно, совершало в прошлом и будет, наверно, совершать в будущем различные ошибки. Но это были и будут российские ошибки, а не сознательные деяния чуждых и недостойных России людей.
1999 г.
«Цивилизованный патриотизм»
и современное политическое сознание
В ходе политических событий в России в начале 90–х годов для кругов, заинтересованных в противостоянии тоталитаризму, закономерно встал вопрос о поисках альтернативы коммунистическому реваншу или режиму национал-социалистского типа. В условиях совершенно определенно обозначившегося подъема патриотических настроений в обществе, все чаще стало встречаться обращение к понятию т. н. «цивилизованного патриотизма». Было, в частности, высказано мнение о том, что «единственной и наиболее действенной силой, способной противостоять и левому большевизму и правому социализму, является просвещенный либерально-христианский консерватизм».[44]44
Шушарин Д. Возвращение в контекст // «Новый Мир», 1994, № 7, С. 181.
[Закрыть] Теоретически это совершенно верно, поскольку объективно такой силой является вообще всякая идеология, опирающаяся на выверенные веками традиционные для данной страны ценности. Ликвидация традиционного правопорядка не приносила ничего хорошего в самых разных странах: ни в Афганистане, ни в Камбодже, ни в Германии. Однако применительно к современной России это положение звучит достаточно спорно: названная идея, будучи однажды лишена адекватного социально-государственного содержания, массами овладеть в принципе не может, а среды, способной внушить ее правителям, у нас нет. Более того, для той среды, чьи интересы менее всего совместимы с господством тоталитарного начала (т. н. «демократической интеллигенции»), консервативная идея, как противоречащая «прогрессивному развитию», непопулярна до такой степени, что в свое время даже принятие трехцветного российского государственного флага трактовалось как угроза возвращения «православия, самодержавия, народности». Похоже, что очень немногие представители этой среды догадываются, что в реальной жизни вопрос будет стоять не о выборе между «прогрессизмом» и патриотизмом, а о выборе между патриотизмом «цивилизованным» и «красно-коричневым».
В настоящее время разделение взглядов по политическим вопросам имеет в основе своей ориентацию на три основных более или менее общеизвестных типа государственности и культуры: старую Россию, Совдепию и современный Запад, каждый из которых обладает набором черт, отличающих его от остальных. Под «старой Россией» имеется в виду та Россия, которая реально существовала до переворотов 1917 года (с экономической свободой, но с авторитарно-самодержавным строем), под «Западом» – сочетание экономической свободы с «формальной демократией». Под «Совдепией» имеется в виду советский режим (пусть даже самого мягкого образца, допустим, 70–х годов) со всем тем, что было для него типично во все периоды и нетипично ни для Запада, ни для старой России, то есть, собственно, тоталитарный режим, основанный на коммунистической идеологии, не допускающий ни политической, ни экономической свободы и частной собственности.
К комбинациям этих трех образцов в разном порядке по предпочтению и сводятся, по большому счету, все возможные разновидности политических взглядов. Основных позиций существует, таким образом, шесть, среди которых две, условно говоря, «коммунистические» (ставящие на первое место Совдепию), две «либеральные» (предпочитающие Запад) и две «патриотические» (отдающие предпочтение старой России).
1) Предпочтительна Совдепия – неприемлем Запад. Типичный национал-большевизм или коммунизм сталинского типа. Такова советская идеология начиная с середины 30–х годов (особенно с 1943), с большими или меньшими изменениями просуществовавшая до 80–х. Сюда же относятся взгляды подавляющего большинства современных коммунистов КПРФ, Аграрной партии, а также наиболее красной части национал-большевиков типа Проханова, Антонова, Кургиняна, Володина (хотя некоторые из них в современных условиях предпочитают это скрывать и выглядеть более националистами).
2) Предпочтительна Совдепия – неприемлема старая Россия. «Досталинский» коммунизм и его предполагаемые модификации «с человеческим лицом». Такова идеология «детей Арбата» и всей горбачевской перестройки, а позже тех, кто был готов сомкнуться с коммунистами против пытавшего эволюционировать к «державности» ельцинского режима и Жириновского (наиболее полно представлена в «Общей газете» и отчасти в «Московских Новостях»).
3) Предпочтителен Запад – неприемлема Совдепия. Старый либерализм «кадетского» толка. Этот взгляд сейчас практически не представлен, хотя очень многие претендуют именно на эту политическую нишу, и в первую очередь Гайдар со своими сторонниками (взявшие эмблемой партии Петра I, но также готовые союзничать с красными против «российского империализма»). Наиболее адекватно его представлял, возможно, Б. Федоров со своим движением «Вперед, Россия!».
4) Предпочтителен Запад – неприемлема старая Россия. Новый советско-диссидентский либерализм. Такова реальная идеология большинства современных демократов, хотя многие из них хотели бы казаться относящимися к предыдущей категории.
5) Предпочтительна старая Россия – неприемлем Запад. Новый русский национализм. Это идеология всех нынешних национальных организаций (РНЕ, НРПР, «русских партий» и др.), а также менее красной части национал-большевистского спектра (Стерлигов, Руцкой, часть авторов «Нашего современника» и «Литературной России»).
6) Предпочтительна старая Россия – неприемлема Совдепия. Старый российский патриотизм. В настоящее время на политической сцене не представлен. Этой ориентации придерживается ряд организаций, считающих себя продолжателями Белого движения, но политической деятельности не ведущих.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что на практике разделение идет в зависимости не от того, какой образец ставится на первое место, а от того, какой ставится на последнее («абсолютное зло»), предмет наибольшей ненависти оказывается более значим, чем предмет наибольшего предпочтения. Хотя по идее, формально более близки друг другу две «коммунистические», две «либеральные» и две «патриотические» точки зрения, в реальной политике люди к конечном счете сплачиваются по общности «негативного идеала» (который, кстати, как и все «чужое», психологически воспринимается более однородным, чем идеал позитивный, в который каждый склонен вносить собственные «детали»). Нетрудно заметить, что обе точки зрения, для которых главным злом является Запад, принадлежат современному «патриотическому движению», или, как его обычно называют в демократической прессе, «красно-коричневому» – политически единому в борьбе с нынешним режимом, хотя, казалось бы, несовместимыми идейно. Современный демократизм (для которого старая Россия по предпочтительности стоит на последнем месте) выросший из диссидентства, в свою очередь, тесно связан с идеологией уничтоженного Сталиным «истинного марксизма». Обе же точки зрения, считающие наибольшим злом советский режим, принадлежат людям, составившим некогда Белое движение, но его различным крыльям: лево-либеральному (в том числе эсеро-меньшевистскому) и правому (в значительной мере монархическому), идейно далекими, но политически бывшими едиными в борьбе с большевиками.
Собственно, Белое движение и воплощало старый российский патриотизм во всех его оттенках, и отношение к нему современных идеологов разных лагерей чрезвычайно показательно. Насколько далеко находимся мы от «просвещенного консерватизма» можно судить хотя бы по отношению к наследию И. Ильина. На него любят ссылаться многие, одним нравится одно, другим – другое, но всё вместе – никому. Тут уместно напомнить, что именно взгляды Ильина наиболее адекватно выражают идеологию Белого Дела,[45]45
И. А. Ильин не только стал наиболее ярким апологетом Белого движения, но был организационно с ним связан, являясь официальным идеологом Русского Обще-Воинского Союза – организации, созданной ген. бар. П. Н. Врангелем и объединившей в эмиграции чинов всех белых армий. Характерно, что широко известные «Наши задачи» первоначально издавались руководством РОВС «только для единомышленников» – членов РОВС.
[Закрыть] в отношении к которому сказывается идейная суть современных властителей дум. Для людей, считающих созданный «Великим Октябрем» коммунистический режим вредоносным для страны, немыслимо ставить на одну доску тех, кто его утверждал и тех, кто против него боролся, как это у нас сейчас практикуется. Белое движение было представлено, в отличие от красного монолита, предельно широким спектром – от эсеров до монархистов, но между «белым» и «красным» уже не может быть ничего «среднего» – это та граница, за которой – безусловное признание правоты большевистского переворота. Поэтому тот на первый взгляд странный факт, что, несмотря на то, что все «демократы» тех времен, все кумиры нынешней «либеральной» интеллигенции все до одного были «белыми», Белое движение не удостоилось у нее доброго слова, пожалуй, наиболее убедительным образом свидетельствует об истинном цвете ее убеждений.
Нельзя не коснуться здесь той ненависти, которой пользуется в известных кругах само слово «империя», часто используемое для обозначения начала, полярно противоположного демократическому. Между тем, если допустить, что «европейской демократии» хотя бы двести лет от роду, очевидно, что свыше 80 % ее истории прошло при имперском строе. В противном случае (коль скоро до 60–х годов нашего века территорию половины мира составляли империи европейских держав), следовало бы считать, что «настоящая» демократия существует всего лет 30–40. Когда же имеется в виду империя Российская, то опасение сказать о ней доброе слово, или даже быть в этом заподозренным, стало в известных кругах столь обязательным, что если вдруг по какой-либо причине у кого-то и возникает в этом необходимость, то это делается с таким количеством оглядок и оговорок, что, право же, не оправдывает затраченных усилий.[46]46
См., напр.: Каграманов Ю. Империя и ойкумена // «Новый Мир», 1995, № 1.
[Закрыть]
Крайне враждебное отношение к Российской империи большевиков (со всем набором соответствующих пропагандистских измышлений) было унаследовано и современным либерально-интеллигентским сознанием с той только разницей, что одной из центральных идей комплекса демократических представлений стало отождествление старой России с Совдепией. Более того, доминируют еще и опасения, чтобы в результате подъема патриотических настроений она не вернулась на смену последней как еще большее зло. Подобного рода опасения, впрочем, столь же беспочвенны, сколь и неразумны, поскольку (к несчастью для тех, кто их высказывает) современный патриотизм имеет мало общего со старым.
Тот, старый, патриотизм предполагал, во всяком случае, некоторые вещи, совершенно необязательные для патриотизма нынешнего. Во-первых, безусловную приверженность территориальной целостности страны. И «западники», и «славянофилы», и либеральные, и консервативные русские дореволюционные деятели и люди, составлявшие цвет отечественной культуры – от Державина до Бунина были «империалистами», для которых осознание своего отечества как многонационального, но единого государства, было чем-то совершенно естественным. Равно как и вся русская эмиграция от Керенского до крайних монархистов если в чем и была едина (собственно, больше ни в чем, даже в отношении к советскому режиму было больше различий), так именно в этом. Даже по польскому вопросу, стоявшему совершенно особняком (это было единственное присоединенное национальное государство) большинство сходилось (весьма характерно здесь, например, единство Пушкина с Чаадаевым, совершенно по-разному оценивавших российскую историю); кстати, этот вопрос был решен еще до революции самой государственной властью – после Первой мировой войны Польша должна была получить независимость.
Во-вторых, непосредственно связанное с этой приверженностью отсутствие национализма в том понимании, которое общепринято в настоящее время; он никогда не носил в России «племенного» характера, а только «государственный». По иному и быть не могло, ибо, по справедливому замечанию Бердяева, «национализм и империализм совершенно разные идеологии и разные устремления воли. Империализм должен признавать многообразие, должен быть терпимым и гибким». Нынешний же патриотизм представлен почти исключительно «новым русским национализмом» либо национал-большевизмом. «Имперские» взгляды выражаются лишь в виде восстановления СССР, причем если они и примешиваются к идеологии «национал-патриотов», то только в той мере, в какой их взглядам вообще свойственна привязанность к советчине (но стремление коммунистов восстановить СССР не имеет отношения к российскому патриотизму, поскольку по сути своей есть лишь шаг к торжеству дела коммунизма во всем мире, вне чего коммунистическая идея бессмысленна).
Если в конце 80–х годов слово «патриот» было практически бранным (почти как в 20–х), то после 1991 г. все чаще стали говорить о необходимости «цивилизованного патриотизма» (собственно, «просвещенный консерватизм» и есть нечто подобное) – одни, сокрушаясь об отсутствии такового, другие – признавая его существование, но лишь в качестве некоторой абстракции, без привязки к конкретным политическим деятелям. Хотя никаких конкретных критериев «цивилизованного патриотизма» не называлось, логично предположить, что он должен был быть, во-первых, все-таки патриотизмом (то есть, чтобы историческая Россия не оказалась для его представителей наибольшим злом), а во-вторых, цивилизованным – чтобы наибольшим предпочтением не пользовался тоталитарный режим (то есть Совдепия). Этим условиям отвечает половина из приведенных выше шести точек зрения: третья, пятая и шестая; поскольку же большинство «соглашавшихся» на «цивилизованный патриотизм» отказалось бы считать таковым и ярое «антизападничество», то отпадает и пятая, и остаются только позиции, характерные главным образом для «досоветских» людей, понимающих патриотизм так, как он при всех различиях понимался большей частью старого российского общества.
Этот факт и объяснит нам, почему в современной политике «цивилизованного патриотизма» так пока и не обнаружено. Люди не те. Невозможно представить совместимость белых эмигрантов (см. заявление «Белая эмиграция против национал-большевизма», появившееся в конце 1994 г.)[47]47
В России его опубликовали, в частности, «Независимая газета» (25.10.1994), «Экспресс-хроника» (1.11.1994), «Новый Мир» (1995, № 1).
[Закрыть] с кем-либо из нынешних наших политиков. А вот совместимость друг с другом последних очень велика. Как это не покажется странным, но практически все они при известных обстоятельствах могут быть совместимы друг с другом, что уже не раз демонстрировали. Если не прямо – так через друг друга (допустим, Б. Федоров не может сотрудничать с Зюгановым, но может с Явлинским, с коим вполне, как не раз заявлялось, может сотрудничать Зюганов; Явлинский – не может с Жириновским, но с последним может Зюганов). Причем коммунисты как наиболее чистое воплощение советчины, выступают закономерно и как общепримиряющий фактор. Между советским демократом и советским коммунистом нет настоящего антагонизма. Это люди одной культуры, хотя и разных ее разновидностей.
Двух поколений, выросших при советской власти, оказалось более чем достаточно, чтобы представление о России было полностью утрачено. На фоне общего недоброжелательства даже те, кто искренне симпатизирует старой России, очень плохо представляет себе ее реалии. В сознании таких людей господствует мифологизированное представление о дореволюционной России, причем когда при более близком знакомстве с предметом обнаруживается явное несовпадение реальности с мифом, то реальность отвергается и мифологический идеал ищется в более ранних эпохах – в средневековье (т. е. периоде, о реалиях которого существуют еще более смутные представления), которые, однако, при еще меньшем объеме информации об этом периоде, позволяют более уютно разместить дорогой сердцу миф.
Подобное умонастроение подогревается мощным потоком коммунистической поддержки. Коммунисты, которым реально-историческая Россия (которую они непосредственно угробили и на противопоставлении которой их режим неизменно существовал), охотно хватаются за мифическую Россию (в качестве таковой выступает допетровская, благо про нее за отдаленностью можно говорить все, что угодно), которая якобы отвечала их идеалам, и выступают как бы продолжателями ее, т. е. настоящими русскими людьми с настоящей русской идеологией. Их проповедь тем более успешна, что среднему советскому человеку с исковерканным ими же сознанием реальная старая Россия действительно чужда. Причина вполне очевидна: революция, положившая конец российской государственности, отличалась от большинства известных тем, что полностью уничтожила (истребив или изгнав) российскую культурно-государственную элиту – носительницу ее духа и традиций и заменив ее антиэлитой в виде слоя советских образованцев с небольшой примесью в виде отрекшихся от России, приспособившихся и добровольно и полностью осоветившихся представителей старого образованного слоя. Из среды этой уже чисто советской общности и вышли теоретики и «философы истории» нашего времени всех направлений – как конформисты, так и диссиденты, как приверженцы советского строя, так и борцы против него, нынешние коммунисты, демократы и патриоты.
Эмиграция, в среде которой единственно сохранилась подлинная российская традиция, к этому времени перестала представлять сколько-нибудь сплоченную идейно-политическую силу и подверглась столь сильной эрозии (вследствие естественного вымирания, дерусификации последующих поколений и влияния последующих, уже советских волн эмиграции), что носители этой традиции и среди нее оказались в меньшинстве. Нельзя сказать, что в России совершенно нет людей, исповедующих симпатии к подлинной дореволюционной России – такой, какой она на самом деле была, со всеми ее реалиями, но это именно отдельные люди (обычно генетически связанные с носителями прежней традиции) и единичные организации, не представляющие общественно-политического течения. Поэтому при разложении советско-коммунистического режима, когда появилась возможность свободного выражения общественно-политической позиции, мы увидели какие угодно течения, кроме того, которое было характерно для исторической России. Вот почему современный патриотизм – это либо национал-большевизм (ведущий начало от «сталинского ампира»), либо «новый русский национализм».
В условиях утраты традиции старого патриотизма, в современной системе представлений под «цивилизованным» фактически пришлось понимать патриотизм, так сказать, «умеренный» – как бы не такой «страшный», как у пресловутой «Памяти», которой во второй половине 80–х годов пугали друг друга демократические публицисты. Претенденты на эту политическую нишу время от времени объявлялись, причем из наиболее заметных первым был Жириновский, назвавшийся не как-нибудь, а «либеральным демократом» и сумевший занять соответствующую идеологическую нишу сразу же после отмены статьи о руководящей роли КПСС. Поскольку «цивилизованным» считался такой патриот, который был бы одновременно и «демократом», а среди последних патриотизм тогда был совсем не в моде, то он сразу привлек к себе внимание и успел получить достаточно респектабельную известность до того, как раскрылся во всей своей красе (в противном случае его ожидала бы участь «Памяти»). Затем в этом качестве пытались выступать «сверху» А. Руцкой, а «снизу» – деятели типа Аксючица, Астафьева и др., которые, с одной стороны, были демократами «в законе» (один – как второе лицо установившегося демократического режима, а другие – как выходцы из «Демократической России» – основного политического воплощения демократии в то время), а с другой – заявили после августа 1991 г. о своих патриотических устремлениях. Они естественно тяготели друг к другу (в начале 1992 г., когда было образовано Российское Народное Собрание, Руцкой примеривался на роль его неформального лидера и покровителя), но и кончили одинаково: руководители РНС через пару месяцев бросились в объятия Зюганова, организовав «объединенную оппозицию», а Руцкой под красным флагом возглавил сопротивление Верховного Совета.
Но в любом случае и эти поползновения на «цивилизованность» не были преобладающим типом патриотизма. Будет ли иметь успех тенденция, представленная Б. Федоровым (успехи которого оказались более чем скромны), или найдутся ли во властных структурах люди, пожелающие всерьез примерить на себя мундиры дореволюционной России, еще совершенно неизвестно. В значительном числе такие могут обнаружиться разве что в новом поколении, не связанном с советским истеблишментом, тогда как окончательная консолидация режима и оформление его идеологии должны произойти не позднее середины следующего десятилетия. Поэтому пока что более оправданным будет исходить из того, что перспективы возрождения такого патриотизма, как в старой России, весьма сомнительны.
Но, не будучи империалистической, Россия может быть только националистической, а будучи националистической, демократической она уж никак не будет. Достаточно взглянуть, какими силами реально представлена национальная идея. В объективных же предпосылках перспектив этой идеи сомневаться тем более не приходится. Одно из самых смешных проявлений страусиной манеры демократического интеллигента прятать голову в песок – повторяемые как ритуальные заклинания и непонятно, на кого рассчитанные, сентенции о «многонациональности» и «многоконфессиональности» России. Старая Россия (в своих исторических границах), которую они признавать не желают, такой, положим, была, но нынешняя «Российская Федерация» – самое мононациональное из всех «государств бывшего СССР» (кроме, разве что, Армении). Собственно, многонациональна и многоконфессиональна любая страна, но при более, чем 80 % национально-однородного населения особо уповать на это обстоятельство не стоит (Казахстан является «государством казахской нации» при 40 % ее в населении). Если же, как многие настаивают, «отпустить» наиболее беспокойные «суверении» и переселить в пределы РФ хотя бы часть «соотечественников», то и подавно. Коль скоро новообразованные прибалтийские государства представляют собой этнократические диктатуры при 50–70 % «титульного» населения и пресловутой «европейской цивилизованности», то что, в принципе, мешает таковой быть России? Кстати, национал-патриотическая концепция примата интересов русского народа вполне допускает систему, при которой Россия будет окружена зависимыми от себя и служащими ее интересам территориями, жители которых не будут допускаться в Россию полноправными гражданами (как то пришлось бы делать при сохранении территориального единства исторической России, и против чего как раз и протестует национал-патриотическое сознание).
Едва ли можно сомневаться, что попытка политически «пристегнуть» Россию к «Западу» не удалась. Победа откровенно прозападного лидера из наших «настоящих» демократов практически невозможна, а любая другая власть в России, независимо от степени «рыночности», симпатий к западной культуре и личных отношений с западными лидерами, даже та, что придет с их благословения, неизбежно будет эволюционировать к «державной» политике. Она может быть «западнической», но не прозападной (какой, впрочем, и была при российских императорах). Но скорее всего она будет «антизападнической». Когда Россия окрепнет, «Западу» все равно рано или поздно придется выбирать между коммунистической Россией, стремящейся распространить свою экспансию по всему миру и Россией традиционной, вполне довольствующейся историческими границами и на переделку всего мира (в т. ч. и США) по своему образу и подобию не претендующую. Но это его проблемы.
Для внутренней же ситуации в стране существенно то, что, как уже говорилось выше, доминантой нынешней патриотической мысли является антизападничество именно в смысле отталкивания от европейской цивилизации как таковой, взгляд на «Запад» как на «онтологического» противника. И не видно, что бы могло помешать этому антизападничеству торжествовать в более или менее «красной» форме. Радетели «искоренения имперского сознания» могли быть довольны. Если бы не одно обстоятельство: в то время, как угрожающий желаемой ими однополярной картине мира российский империализм получил, возможно, смертельный удар, освобожденный от этого сознания, но смертельный для них самих русский национализм, расправил крылья и начал свое победное шествие. Приходится констатировать, что наибольшие шансы победить имеют ныне типы патриотизма, чуждые традициям исторической России. Рассмотрим их несколько подробнее.