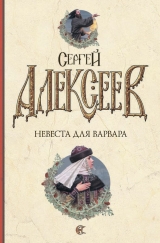
Текст книги "Невеста для варвара"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Ивашка присел на корточки и спрашивает:
– Теперь сказывай, кто наустил наш коч пограбить? Атаман хрипел, царапал руками горло, пытаясь сбросить удавку, – побагровел и глаза выкатываются.
– Отпусти… подобру… Спалим!..
– Кто наустил на дело разбойное? Пронка подтянул ремешок.
– Всех спалим… утопим!
– В мешок бы его, – сказал Булыга. – И с кормы за борт. Нехай водицы испьет.
– Давай, – согласился Головин.
Селиван вытряхнул из мешка смоленую паклю, вдвоем с Пронкой они связали атаману руки и принялись заталкивать в широкий посконный куль. Разбойник отдышался и теперь отчаянно сопротивлялся, но сладить с двумя молодцами оказалось не под силу: Брюс подбирал людей не только по уму. Когда атаман очутился в мешке, нижние чины подхватили его, хорошенько встряхнули, дабы уплотнить и завязать, – разбойник при этом стукнулся головой об пол и взмолился:
– Братцы, не губите! Вы же, чай, православные!
– Кто послал грабить? – спросил капитан.
– Нужда и страсть к зелью, – забухтел атаман из мешка. – Водку давно выпили, табак еще в Великий пост скурили. Мох смолим да репей… По всей Сухоне и Двине шаром покати! А время-то – распутье…
– Откуда узнали, что на коче товар имеется?
– Откуда? – замешкался тот. – Дак знамо дело – в Сибирь чалите…
– Кто сказал про Сибирь?
– Сами догадались.
– За борт сего догадливого!
– Становой сказал! Из Тотьмы коч снарядили, водки, табаку, пороху изрядно. Мол, половодные реки сноровисты, может льдом раздавить, а то на карчу* налетит и затонет. Столько добра пропадет даром…
– А он откуда узнал?
– Сие мне неведомо! У него и спроси!
Должно быть, становой получил указание воеводы и уж отписку заготовил, при каких обстоятельствах Брюсов коч затонул вкупе с людьми и товаром…
– Снимите с него мешок, – распорядился Головин.
Пронка с Селиваном выпростали атамана на пол, но рук не развязали. Он вскочил на ноги, отряхнулся от налипшей пакли, словно собака.
– Знать бы Где упасть, так ни в жисть…
– Ты кто таков будешь-то?
– Да кто я?.. Начальник артели, сволочи мы, на печорском как раз и промышляем. А в Котласе зимуем…
– С какой стати становой тебе государевы тайны доверяет?
Атаман уже был сломлен, посему стал откровенным и гнусным.
– Дело-то житейское, обыденное… Бывает, мы ему подсобим, кого на тот свет спровадить, беглого словить или что еще. Ну, а он к нам благоволит. Должно, узрел, как мы маемся без вина и курева, пожалел…
Подозрения оправдывались, но в тот миг Головин вдруг подумал, насколько предусмотрительным был Тренка, взявший сволочей на Юге-реке. Эти бы встретили на печорском волоке, однажды ночью всех перерезали и получили в награду коч с товаром…
Из сего следовало, что Екатерина отреклась от волеизъявления мужа своего, государя императора, не признала его распоряжений относительно югагиров и, по сути, объявила войну Брюсу и ему, Головину. А коли так, то теперь грамота Петра Алексеевича не поможет и весь путь до Индигирки придется идти сквозь засады и заслоны. Ивашке от таких мыслей тоскливо сделалось, и вместе с тем взыграла в сердце ярость супротив графа: что же он, будучи ныне в Петербурге, не в состоянии их защитить от дурного гнева государыни? Не может убедить ее, что сие предприятие – не его, Брюса, прихоть и не Головина затея, а прежде всего радение о государстве Российском и безопасности престола?
На палубе послышались громкие голоса, отвлекшие от тяжких мыслей. Оказалось, печорские сволочи требуют ответа своего атамана, дескать, пусть явится и скажет. Ивашка вынул пистоль и приставил его к груди разбойника.
– В сей час выйдем на палубу, и ты скажешь: водки и табаку нету. Пускай домой идут. А ты на коче останешься, покуда в Вычегду не войдем.
Артельный начальник глянул на бочки, подумал.
– Надей водки, дак скажу.
Головиным овладело омерзение, однако он сам налил разбойнику и поднес:
– Пей!
Тот жадно осушил чарку, еще раз по-собачьи встряхнулся и стал походить на человека – даже продольные бычьи складки на челе разгладились и между волосами и бровями образовалась полоска шириною в три пальца…
6
Тем временем Брюс тоже не сидел сложа руки.
По прибытии в Петербург он первым делом расспросил жену, Марию Андреевну, выслушал от нее все сплетни, слухи и предположения, бытовавшие при дворе, а также ее упреки и опасения – мол, он, граф, арестован будет, как только явится во дворец. Будто бы герцогиня Анна Курляндская призналась императрице, что своими глазами видела записку покойного императора Петра Алексеевича, его рукою писанную, а там давнее пророчество некоего Тренки, дескать, ежели царь сына своего первородного, Алексея, не помилует и впоследствии престол ему не оставит, то князь югагирский, Оскол Распута, весь род его изведет. Будто бы государь ей показал сию бумагу и тут же от свечи припалил и сжег, сказав при сем: «Вот и нет более пророчества!» И теперь, ежели граф Брюс способствует сему князьку – невесту высватал и отослал с Головиным на Индигирку, – то сие деяние суть измена. Будто бы государыня возмутилась невероятно, велела сыск произвести, а графа заключить под домашний арест.
Невзирая на это, граф, только платье сменив, в тот же час поехал к ее величеству. Напустив на себя вид виноватый, покаянный и одновременно независимый – все Брюсы умели это делать и потому так долго служили русским государям, – он явился во дворец и под напряженный шепоток в спину прошел коридорами в сени – приемную государыни. Однако впервые его способности не помогли, и, если при Петре Алексеевиче он мог входить без доклада и прочих церемоний, причем в любое время дня и ночи, то на сей раз дорогу в царские палаты преградил молодой, совсем незнакомый офицер:
– Ее величество государыня императрица впускать не велели!
Вероятно, Марта Скавронская, напуганная сплетнями, пьянствовала и имела вид непрезентабельный, то есть немыта, нечестна и в исподнем, либо тешилась с любовником. Но ни то, ни другое не было причиной не впускать графа, ибо гулящую жену государя приходилось ему зреть во всяких видах и очей его осуждающих она никогда не смущалась.
– Доложи: приехал генерал-фельдцейхмейстер Брюс! Секретарь ничуть не смутился и сделал вид, будто графа в лицо не знает:
– Вы и есть генерал-фельдцейхмейстер Брюс?
Несмотря на молодость, поведение его было вальяжным, взгляд невидящим: похоже, Марта высмотрела этого красавчика на каком-нибудь параде и велела посадить в свои сени. Он же решил, что уже бога за бороду схватил и держит. Проучить надобно было бы сего заносчивого глупца, отходить шпагой по спине, но Яков Вилимович умел проявлять и иные способности, например, изобразить край нее великодушие.
– Ты что же, братец, вчера только на службу призван?
– Есть приказ подвергнуть вас аресту, – огорошил тот.
– Вкупе с капитаном Головиным.
Это уж было сверх всякой меры, и уже руки чесались, но граф умел с достоинством встречать известия всякие.
– И кто же отдал сей приказ?
– Веление государыни императрицы, ее величества Екатерины Алексеевны. Прошу сдать шпагу!
– Ну, коли так, вызывай караул. – Брюс для виду шпагу снял. – Веление ее величества след исполнять…
Арестовывать генерал-фельдцейхмейстеров сему отроку не доводилось, и он на минуту растерялся, чем граф в тот же миг и воспользовался. Не вынимая шпаги, он несколько раз хлестко, словно кнутом, огрел секретаря ножнами и впридачу стукнул эфесом по затылку, когда тот по-мальчишески присел и заслонился рукой.
– Что же ты, голубчик, молчишь? – спросил при этом Брюс. – За науку след благодарить!
Офицер был перепуган, унижен и не мог совладать с собою. Следовало бы добавить еще, чтоб вызвать хотя бы злость и волю к сопротивлению, однако граф не спеша надел перевязь шпаги, оправил парадный камзол и шагнул к двери императрицы.
И тут секретарь опамятовался, отважно закрыл собою вход, но сказал умоляюще:
– Дяденька, не ходи! Впускать никого не ведено. – А в глазах тоска и страх ребячий.
– Ну, раз не велено, – просто рассудил Брюс, – тому и быть. А приходил я по важному делу государственному, ибо выявлена угроза престолу и царствующей семье. Коль ее величеству ныне недосуг выслушать, знать время еще не пришло. А как придет, так сама разыщет. Так и передай. – Развернулся и дверью хлопнул.
Если Марта не знала, по чьему указу граф невесту высватал чувонскому князю и посольство отправил, то уж во всяком случае, прежде чем пугать арестом и унижать, следовало выслушать его самого, а не доверять слухам и сплетням, тем паче распущенным Анной Курляндской.
Но теперь пусть она поволнуется, протрезвев и услышав доклад секретаря…
Однако же надобно было прояснить истинное положение вещей и состояние нынешних нравов при дворе – от Марии Андреевны по понятным причинам правду скрывали, а посему Брюс отправился искать Меншикова, дабы услышать все из первых уст.
Час был послеобеденный, а Алексашка в это время, еще с Турецкой кампании, любил отдохнуть, поэтому граф явился к нему во дворец и сразу же пошел на конюшню, где светлейшего князя и обнаружил спящим в стойле. Невзирая на нынешнее высокое положение, нравы и привычки у Александра Даниловича оставались прежними, и он частенько жаловался, что от спанья на перинах у него начинаются мигрень и ломота костей, да и заснуть, мол, трудно, всякая чепуха в голову лезет. То ли дело на шуршащем сене, под знакомый сладковатый запах конского навоза!
Внешне он ничуть не тяготился своим низким происхождением и даже, напротив, подчеркивал его, бросая вызов породистой аристократии, а порою потешаясь над нею тем, что рассказывал, будто какой-то доктор-немец установил, что люди, не выносящие навозного духа, страдают скрытым душевным расстройством, иначе, заболеванием психическим. Поэтому советовал королям и царям испытывать здоровье своих придворных, министров и сенаторов, приводя их, к примеру, на конюшню или в коровник. Коли зажал нос или, хуже того, стошнило – для государственной службы не годен.
Сам Меншиков годился хоть в императоры, поскольку преспокойно спал в яслях, словно новорожденный Христос, и добудиться его было не так-то просто. Однако же на сей раз, когда оторвал голову от охапки сена и смел труху с лица, в тот же час признал, кто перед ним.
– А я за тобой, Яшка, хотел караул высылать! – радостно известил он.
– Не хлопочи, Алексашка, я сам пришел.
– Ты куда это запропастился, шотландская твоя душа? – После сна Меншиков обыкновенно был благодушен и насмешлив.
– Долгий сказ… Сперва поведай мне, что за сплетни пустила Анна Курляндская? Чем испугала ее величество, что арестовать меня вздумала? А сам явился, так не приняла. Пришлось секретаря отхлестать.
– О, брат, Екатерина в гневе на тебя великом! – Наедине с графом Алексашка обыкновенно называл ее Мартой или вовсе Марей. – Долгонько придется тебе… грехи замаливать!
В его насмешливом голосе хоть и слышалось привычное пренебрежение к своей прачке, однако теперь к нему добавилось и некоторое уважение, какое вызывает шалавая собака, способная укусить.
– Распутица, – пожаловался Брюс. – Речки вскрылись… Не дорога – беда…
– Где тебя носило?
– Исполнял волю Петра Алексеевича.
– Слыхал кое-что! Говорят, ты ныне свахой стал и в деле том весьма преуспел!
– Положение мое смехотворно, да хоть ты не смейся. Или уж арестовывай, коль Марта велела.
– Ну, с арестом она поспешила! – снисходительно вымолвил Меншиков. – Измена ей чудится, особенно на голову похмельную.
– Тогда иди да слово замолви, чтоб допустила. А я уж оправдаюсь…
– Тебе что же, Петр Алексеевич велел дурочку высватать?
– Отчего же дурочку?
– Так ведь дочка у Василия Тюфякина блаженная. Всем сие ведомо… Ну, каков князь, такова ему и невеста!
– Про князя откуда известно?
– Государыня следствие учинила, – серьезно сказал Меншиков, и отряхнув парик, напялил его на голову. – В ярость пришла. И впрямь все указывает на измену, брат, даже на трезвую голову. Будто вы с Головиным супротив Екатерины козни строите, угождая некоему князьку юга-гирскому. Потому приказала взять вас обоих под арест, покуда под домашний.
– Глупость несусветная! Мне бы только к ее величеству попасть – в два счета докажу, что и в мыслях сего не было, а напротив…
– Прежде мне докажи, – жестко перебил его Александр Данилович, чем поверг в тревогу. – А я уж сам решу, как с вами поступить.
– Что же ты, Алексашка, мне не веришь?
– Ныне я никому не верю. Ложь кругом. – Он выбрался из яслей. – И вольница в суждениях… Отчего я не знаю, что тебе перед смертью Петр Алексеевич поручил? Почто он и словом не обмолвился в отношении сидельца в Двинском остроге? И только из следствия узнаю, что таковой имелся? За невестой своему князю пришел…
– Отчего мне поручил, сие мне не ведомо, – обреченно проговорил граф. – Позвал меня, удалил всех от себя и суть дела изложил…
– Почему – тебя? И сего безалаберного капитанишку Головина?
Меншикова одолевало скрытое неудовольствие, вызванное ревностью, и Брюс попытался сгладить возникшие между ними задоры.
– Теперь уж не спросить…
Князь не услышал.
– И отчего вы оба с ним вышли из повинования? Послания императрицы презрели! Волю ее не исполнили!
Брюс с тоскою отметил, как сильно переменился старый товарищ, с коим еще бывали в Потешном полку, а потом проводили ночи на Сухаревой башне, глядя на звезды, мечтая о грядущем, например, как супротив Софьи выступить…
Ныне же, гляди-ка, Марту уже императрицей величает Яшку, арестовать готов, забывши, что все они из гнезда единого!
– Мы с Головиным исполняли волю Петра Алексеевича твердо и холодно произнес Брюс. – А он пред кончиной своей был весьма обеспокоен и чуял угрозу престолу.
– Уж не от кандальника ли сего югагирского?
– От князя чувонского.
– Нуты сказал – князь! – зло засмеялся Алексашка. – Шаман ясачный! Да ведомо ли тебе, сколько таковых по Сибирским землицам? В каждом стойбище! И от каждого сего татарина опасности ждать, угрозы бояться? Всем княжон высватывать? Хоть и дурочек?..
– Прежние государи посылали невест югагирским князьям…
– Сами дураки, оттого и посылали!
– Тренка явился в год, когда царевича Алексея судили. – Брюс тереплив был и все еще хотел вразумить Меншикова. – Челобитную прислал, просил свидания, дабы упредить казнь и заодно невесту попросить. Как ты мыслишь, откуда неведомые миру чувонцы знают, что в Петербурге творится? Ежели они дикие люди с реки Индигирки?.. А сей Тренка назвал даже день, когда война со шведами кончится, и какого месяца и числа король Карл умрет. Как такое возможно, коли сие племя – варварское и темное?.. Петр Алексеевич разгневался тогда, заточил Тренку в острог, а перед смертью вспомнил. И сдается, пожалел о содеянном. От близости кончины разум его просветлился. Оттого и поручил мне сие дело…
Казненного Алексея Петровича граф упомянул умышленно, намекнув таким образом на причастность Меншикова к гибели единственного законного наследника престола: Меншиков подписался под приговором, а он, Брюс, нет…
На минуту задумавшийся было светлейший князь сделал вид, что стряхивает труху с камзола.
– Знать, Анна не солгала? И зрела записку с пророчеством?
– Откуда же мне знать? Мне Петр Алексеевич не показывал.
– Что ты говоришь сейчас, есть мистика! И домыслы досужие! Знаю я тебя!
– Эх, Александр Данилович, да нам ли с тобой судить о том? День и час кончины предсказал – сбылось… Меншиков что-то заподозрил и спросил с угрозой:
– Отчего же не нам?
Брюс мог бы сказать то, что думал, дескать, ты всего-то сын придворного конюха, а я, хоть и обрусевший, да иноземец, и никогда нам не уразуметь истинных причин, подвигающих сей народ и государей его на то или иное действо. Однако теперь отвечать так было нельзя, ибо строптивый и своенравный вельможа мог взбрыкнуть, словно жеребец необъезженный, да скинуть седока.
А въехать в покои Екатерины сейчас можно было лишь на нем…
– Да нам ли царей судить, Алексашка? – примиряюще сказал Брюс. – Божьих-то помазанников? Мы с тобой лишь присные их, и не более. Тем паче не ведаем, что нас ждет. – И пытливо на князя воззрился.
Меншиков притушил слегка горячку, как-то отвлеченно побродил по стойлу.
– Уж не хочешь ли ты сказать, что ясачные сии люди – провидцы? И знают, что сотворится?
Должно быть, светлейший много думал и о делах придворных, и о наследовании короны, и о положении царствующей ныне Марты Скавронской и, как человек, не лишенный здравого рассудка и крестьянского заднего ума, понимал, что вокруг российского престола происходит беззаконие и он, Меншиков, приведя свою бывшую прачку на трон, сам и совершает это беззаконие. А как многоопытный военачальник и полководец, ясно осознавал, что любая промашка в диспозиции и недооценка супротивника рано или поздно приведут к поражению. Ища выгоды, он всякий раз испытывал судьбу и, верно, чуял, что она уже трещит по швам, как рубаха, из коей давно вырос.
От всего этого он жил с предощущением близкой беды, а посему жаждал знать грядущее, дабы ее вовсе избегнуть либо умалить.
– У чувонцев календарь есть, по коему возможно изведать будущее, – потрафил его желаниям Брюс. – Все там прописано: когда и какой царь придет, отчего умрет, с кем и когда война случится, солнечные затмения, чума, неурожай, голодные годы либо, напротив, изобильные. Кто же овладеет сей книгой, тот сам прозорливым становится и способен всякому судьбу предсказать.
– Ну так уж и прозорливыми! – усомнился Меншиков, дабы скрыть жаркий, перехватывающий дыхание интерес.
– А вот скажи мне, Алексашка… Марта уговаривала тебя Марию за Головина отдать?
Светлейший князь подпрыгнул:
– Ты откуда знаешь?! Кто сказал?
– От югагира и знаю, от Тренки. Так все-таки уговаривала?
– Вспомнила, Петр Алексеевич наказывал выдать за сего капитана, когда тот камень приплавил, – нехотя признался Меншиков. – Вот и вздумала исполнить волю его…
– И ты согласился?
– Под кондиции, то бишь с условием… Но ныне сватовства не будет! Отменено, Головин государыню ослушался!
– Суть в том, Александр Данилович, что ваш с Мартой сговор в тот же час стал известен чувонцу Тренке.
– Ужель и про то в календаре писано? – изумился, Устрашился и все же не поверил светлейший.
– Про то не писано. Говорю же: кто прочитает его от копки до корки, сам сделается провидцем. Тренка прочитал.
– Не знаю, что и думать…
– Покойный государь поручил мне добыть сей календарь, – невозмутимо продолжал граф. – Вот я и сговорился с югагиром выменять его на невесту для князя их, Оскола.
– Знать, Головин ныне отправился за сей книгой?
– И не только за ней. Петр Алексеевич опасался, как бы чувонцы, владея календарем и зная грядущее, не вздумали бы полякам уподобиться и престола поискать. Головину поручено выведать их замыслы и по возвращении донести соответственно. А невеста – единственный предлог войти в сношение с их князем и его присными.
Светлейший ботфорты подтянул и уж бросился было к двери, но вернулся:
– Ты не врешь, Яшка? Не морок ли на меня наводишь свой чародейский?
– Вот крест тебе!
– Добро! Пойду матушке-государыне скажу! После такого известия она уж всяко опалу с тебя снимет и примете честью. – И опять дернулся к двери и назад. – И про Екатерину там прописано?
– Имени ее не названо, – мстительно проговорил граф. – Но сказано: «Взойдет на престол женка гулящая и станет блуд творить великий. И погрязнут в разврате все ее присные».
– Сего сказать ей не могу! Хочешь, так сам, ежели снизойдет и примет! Погоди, а каков срок ее царствования, известно?
– Два года.
– Два?! Всего-то два?!
– От разгула да пития безмерного и примрет.
– Так писано?!
– Сие очевидно, Алексашка…
Меншиков ослабленно сел на край яслей, но через минуту встрепенулся, спросил с тоской:
– А кто же придет? Анна? Елизавета?..
– Отрок несмысленный да мстительный и за отца посчитается…
– Петр Алексеевич? – выдохнул князь и осел, осыпался в кучу, словно конские яблоки, – Так и сказано?
Ничего подобного Тренка не предсказывал, если не считать его слов про Марту Скавронскую, женку гулящую; Брюс все измышлял сам, ибо уж не мог удержаться и не отомстить Алексашке за отступничество. К тому же Петрова внука поддерживали Долгорукие – враги Меншикова…
– Сказано: второй царь, именем Петр; отец коего отцом и погублен, – подтвердил. – Мол, по правде все образуется, но не по кривде. Кто еще ныне отрок несмысленный с сим именем?
У светлейшего засвербило в носу, возможно, от навозного едкого духа, источаемого отовсюду, – у графа давно уж слезы наворачивались, поскольку он терпеть не мог сего запаха, и это тщательно скрывал.
Наконец светлейший чихнул, утерся платком и спросил то, что до сей минуты таил:
– Про меня сказано что в календаре?
Брюс ощутил мгновение истинной мести, однако проговорил бесцветно:
– Довольно и про тебя прописано.
– Ужель и имя мое названо?
– По именам означены только цари, иные по-другому…
– А как я назван?
– Парий из конского рода.
– Что сие означает?
– Париями чувонцы молодых простолюдинов именуют. По-нашему «парень» будет.
Меншиков верил! Ежели не до конца, то в любом случае пророческие слова графа западали не только в слух, а и в душу ибо зубами скрипнул, а зубовный скрежет суть глас души…
– Ты говоришь так, словно сам читал…
– Не довелось покуда… Со слов Тренки знаю.
– И что же мне напророчено?
– Как отрок несмысленный сядет на престол, так удалит тебя в дали несусветные. И быть тебе в опале до часа последнего.
Светлейший снес это стоически, разве лицо стекло книзу и повисло тяжелой серой каплей.
– Ложь, – по-шмелиному низко прогудел он. – Брешут твои югагиры!
– Должно быть, брешут, – подтвердил граф. – Или ошибаются. Но Тренка день и час смерти Петра Алексеевича угадал. И что схоронен будет спустя сорок дней, и что женка гулящая придет. И много прочих событий предрек. К примеру, как ты с Мартой сговорился Марию за Головина выдать…
И все же лицо Меншикова не сорвалось и не пало на пол унавоженный, ибо приходилось терпеть удары похлеще.
– Дай слово мне, что сии откровения останутся между нами, – вымолвил он жестко. – Распустишь молву – к императрице допущен не будешь до самой смерти. Поверь уж мне… И самого так опалю – власы трещать будут!
– Добро, светлейший князь, – легко согласился Брюс. – Мы с тобою суть товарищи старые…
Зажавши нос, Александр Данилович почти выбежал из денника и уже от порога прогундосил:
– Ох, гляди, Яков Вилимович! Коль солгал мне – сам ответишь перед государыней! И перед Богом тож… Ну, тому и быть, сиди и жди. Выручу тебя, замолвлю слово перед Екатериной.
Брюс был уверен: приглашение Марта Скавронская пришлет немедля или уж в крайнем случае завтра утром, когда проспится и вспомнит, что поведал ей светлейший князь. И ничуть не сомневался, что Меншиков не станет передавать ей предсказания относительно срока царствования – попросту не посмеет, забоится. Поджидая посыльного, граф не стал переодеваться в домашнее платье и до глубокой ночи проходил в парадном мундире со всеми регалиями, изрядно от сего притомившись. Когда же стало ясно, что в столь поздний час Марта Скавронская наверняка уже пьяна и способна вести прием только гвардейских офицеров, с удовольствием разоболочился и сразу же лег в постель.
Приглашения не последовало и наутро, а посему граф отправился в Сенат, где заседал целых два часа и лишь к обеденному времени навестил Артиллерийский приказ, где за время отсутствия его накопилось множество дел. И между ними поспевал еще читать отписки, доносы и жалобы заводчиков, поскольку управлял, ко всему прочему, Берг-Мануфактур-коллегией.
Однако, без пользы прождав весь день, он встревожился: тишина была странная, пугающая, что сейчас творится при дворе – неведомо, и оттого мысли приходят всякие. Меншикова он знал вдоль, поперек и навыворот, мог без всяких способностей к провиденью предсказать, что тот подумает, как поступит и что скажет в ту или иную минуту. Отличался Александр Данилович великим терпением, сносил от Петра Алексеевича все что угодно, вплоть до публичной выволочки и палки, тайно плакал, а потом делал вид, будто ничего не случилось. По наблюдениям Брюса, происходило это от полного отсутствия гордости и чувства собственного достоинства, чем грешили все поднявшиеся из грязи да в князи. Однако, приведя Марту Скавронскую на престол, Алексашка при ней заметно переменился, и что, если, будучи в отчаянном положении, взял да и передал ей весь их разговор? Бывшая прачка тоже уже почуяла себя императрицей, а то бы откуда такой царственный гнев? И вот теперь они сидят и придумывают ему, Брюсу, казнь лютую, ибо тот уподобился оракулу и предсказал государыне скорую смерть.
Мысль сия не то чтобы напугала графа, но заставила искать выход, и он ничтоже сумняшеся, как говорили в старину, сел писать челобитную государыне, чему сам изумлялся, ибо ничего подобного при Петре Алексеевиче не делал. Изложив вкратце суть предсмертного поручения императора, Брюс подробно описал все свои предпринятые действия и для пущей убедительности не забыл указать, сколько своих рублев на сие израсходовал. И сделал это не из жадности либо мздоимства; всякое упоминание о денежных тратах переводило челобитную из покаянного письма в разряд делового отчета, некой даже обыденной процедуры, что непременно должно было погасить гнев и обиду Екатерины.
На следующее утро он отослал письмо с нарочным и как-то сразу успокоился. Однако вечером, по пути домой, встретился ему Василий Долгоруков – оба ехали в открытых колясках и остановились посередине улицы. Прежде бы мимо проехали, разве что кивнув друг другу; тут же князь Василий руками замахал, выражая крайнее дружелюбие. Он был склонен к философичности, скептически относился к иноземцам на русской службе, даже если они были в третьем колене, и этого не скрывал, поелику считал, что голландцам, шотландцам и всем прочим немцам никогда не понять души и нравов народа. Поскольку же они, немцы, весьма старательные, трудолюбивые и усердные сверх меры, то сии качества пойдут не во благо – во вред, ибо станут вызывать нелюбовь к себе. А Россия, полагал князь, суша исключительно на чувствах любви и сострадания. «Вот когда мужики пойдут с вилами на вас, – однако же смеясь при этом, говорил он, – тогда вы станете хороши русскому сердцу, с будут спасать от расправы, всячески вам помогать и жизни своей на то не пожалеют!»
Особое мнение в отношении иноземцев вовсе не мешало ему дружить с Остерманом.
– А скажи мне, Яков Вилимович, чем ты так испугал Меншикова? – заговорил князь Василий, не скрывая своей веселости. – Сперва арестовать тебя грозился и чуть ли не в Петропавловскую крепость заточить как государственного преступника. Ныне сей вельможа уехал в имение вкупе с семейством и вот уже два дня глаз не кажет. С позволения сказать, императрица с ног сбилась – ищет, великие страсти испытывает и утешения себе не найдет!
Супротивник у светлейшего князя был достойный, обладал умом ироничным и никогда не говорил грубых слов, подчеркивая свою глубоко аристократическую породу. И это обыкновенно бесило Меншикова.
То, что Алексашка укрылся в имении, новостью было неожиданной: или что-то замышлял там, или в самом деле потрясен был и от предсказаний грядущего оправиться не мог.
– Я имел неосторожность судьбу ему предсказать, – умышленно признался граф.
Князь Василий был человеком сведущим относительно магических опытов Брюса и посему ничуть не удивился, однако спросил с глубоким сожалением:
– Полагаю, судьба его печальна? Граф ответил уклончиво:
– Напротив, зело достойна и отпущена ему по заслугам.
– Ну?.. Любопытно, а долго ли ему в фаворитах быть?
– Считай, до часа смертного. Но отдел уйдет в расцвете славы, дабы поминали предки добрым словом. – Сказал так, что и уговор с Меншиковым не нарушил, и любопытство его супротивника удовлетворил.
Долгоруков намек понял.
– Да ведь нелегко жеребенку от сосца отпасть. Ну, благодарствую, Яков Вилимович, порадовал ты меня! – И кучера в спину толкнул.
А дома графа ждала иная весть: жена услышала при дворе, что Меншиков внезапно любовью воспылал к внуку покойного императора Петра, отроку Петру Алексеевичу, и, взявши его от матери, увез в свое имение, где прилежно с ним занимается воинскими науками и прочими развлечениями.
То есть Алексашка истолковал предсказания Брюса по-своему и не мудрствуя лукаво взялся пестовать будущего государя! И вряд ли передал суть их разговора Екатерине, а если и сказал что, то непременно извращенно.
Подобного Брюс не ожидал, и ничего не оставалось делать, как наблюдать, что же будет далее, когда «женка гулящая» прочтет челобитную.
Меншиков же, верно полагая, что граф томится в ожидании его ответа, явился к нему поздним вечером и стал жаловаться, как трудно ему было переменить у государыни гнев на милость, мол, только благодаря его красноречию императрица согласилась принять Брюса. Граф уловил фальшь, однако виду не подал, рассыпавшись в благодарности.
– Токмо не вздумай про срок сказать! – предупредил Меншиков. – Тут и я не спасу.
Секретарь в сенях теперь был другой – усатый могучий гвардеец с простоватым лицом.
– Ее величество ждет, господин генерал-фельдцейхмейстер!
Марта оказалась трезва, хотя стол уже был накрыт с винами и ромом. Бесшабашные пиры с питием и обильными закусками выдавали ее прошлое полуголодное существование, когда мечтою было вкусить до полной сытости и взалкать до помрачения ума. И вот свершилось давнее хотение, волею судьбы сбылось заветное, но насладиться своим состоянием мешало бремя власти, тягостной и ненужной, ибо Марта никогда о ней и не помышляла. Привязанный к ней узами неведомыми государь Петр Алексеевич в императрицы ее возвел лишь для того, чтобы в очередной раз польстить ей, хотя и в оной лести она не нуждалась.
За свободным от закусок концом стола сидел Меншиков и с видом самоуглубленным читал его, Брюса, челобитную.
– Яков Вилимович, – в тот час с ласковым укором заговорила государыня, – ежели бы сразу признались мне, не возникло бы недоразумений. Или отписали бы из Вологды и получили мое благословление. Да и невесту бы сему варвару я сама подыскала более достойную, чем девица князей Тюфякиных. Говорят, она блаженная.
– Отписать не мог, ваше величество, – по-военному сухо доложил граф. – Ибо доверять бумаге, а тем паче почтовым фельдъегерям тайны сии невозможно. На дорогах мздоимство и лихоборство невыносимое. Проезжих обворовывают на заставах, не взирая, чьи они люди. И я не был уверен, что отписка моя попадет в ваши руки. А я имел наказ и предостережение покойного Петра Алексеевича никоим образом не разглашать истинного назначения предприятия сего. И отважился донести до вашего величества лишь по возвращении в Петербург от великой к вам любви и доверия. Что же касаемо невесты, то сватовство по согласию взаимному происходило, без всяческого к тому принуждения.








