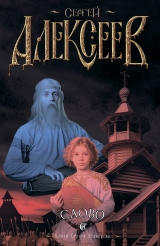
Текст книги "Слово"
Автор книги: Сергей Алексеев
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Вот дождусь Тимофея – подамся…
– Не поздно ли будет, Марья? – подобрел странник. – Погрязнешь во грехах, аки свинья в грязи. Людей вот пустила, из своей посуды кормишь, привечаешь. Они же – никонианцы из духовной академии.
– Откуда ты взял, Леонтий? – изумилась Марья. – Они ж и лба-то не крестят. Люди как люди – странники. Раз ходят по земле, значит, нужда у них такая…
– А чего они ходят – знаешь ли?.. Скверну и порчу наводить пришли, избу твою поганить, – Леонтий отвернулся. – А ты их пригрела, книги даешь читать…
– Мне мой Кирилла сказывал: коли пришли к тебе люди – прими, не отказывай, – заметила Марья. – Что же им, в лесу ночевать? Травой кормиться?.. Мы поморского толка, нам вера позволяет всяких людей привечать. Коли с добром люди идут – гнать, что ли, их?
– Неведомо тебе, Марья, какие они, – мягко сказал Леонтии. – Душа твоя слепа, потому и глаза незрячи. А я вижу: антихристом посланы твои странники! Истинно говорю! – Он перекрестился на иконы.
– Что же мне делать-то, Леонтий? – растерялась Марья. – Отказать неудобно. Я ж Анну проводила Тимофея искать…
– К иконам не допускай, книги читать не давай, – наставлял Леонтий. – И разговоров всяких не веди с ними. Они к тебе с разговором, а ты молитву в уме твори, отгоняй беса.
Марья поджала губы, вздохнула тяжко.
– Не отбивайся от Божьего стада, Марья, – странник встал. – Мне пора идти… С Петровичем-то, слыхала, что они сделали? Убить хотели. Топором по голове саданули, старик теперь мается, лежит.
– Так не нарочно же, – вступилась было Марья и замолчала.
Леонтий вышел во двор, посмотрел, как Иван колет дрова, заглянул на летнюю кухню.
– Книгу придется освятить, – сказал он, заворачивая Четьи-Минеи в полотенце. – Негоже оскверненную книгу в доме держать… И дрова потом – тоже. Приду к тебе, Марья, тогда и освящу. Не то всю зиму сатанинским теплом греться будешь… Не забывай, о чем мы беседовали, Марья.
Он поклонился ей и, сутулясь, пошел со двора. Марья стояла у калитки, сцепив руки на животе, и думала, что надо было бы полотенце-то взять, что же он, странник-то, и полотенце уносит? А оно старинное, еще с Поморья вывезенное.
– Кто это такой приходил? – спросил Иван, облокотившись на калитку.
– Странник он, – проронила Марья, глядя на сверток под мышкой у Леонтия. – Люди сказывают, откуда-то послан проверить, как мы тут живем, молимся ли… Божественный он человек. Чуть на порог – и уж на колени, к образам… Токо вот, – она замялась, – чудно мне. На чужие иконы-то у нас молиться нельзя. А он молится…
Леонтий пропал за поворотом улицы, и Марья встряхнулась, заморгала виновато, не зная, куда деть руки. Иван содрал с себя пропотевшую рубаху, швырнул ее на плетень и, схватив колун, начал крушить вязкие комлевые чурбаки…
Начальник милиции посоветовал Анне подождать дня три-четыре, пока он сделает телеграфный запрос в областной паспортный стол и отдел исправительно-трудовых учреждений. Если Тимофей живет на территории области либо находится в колонии, то ответ придет быстро, и тогда Анна сможет вернуться в Макариху уже с адресом Тимофея Белоглазова. Поэтому она отложила визит к Власову на следующий день, а вечером отправилась на почту звонить Аронову. Связь была плохая, в трубке шипело, стучало, сигналила морзянка, но и сквозь этот шум Анна слышала только длинные гудки: к аппарату в отделе никто не подходил. Тогда она попросила набрать номер домашнего телефона Аронова, но и там не отвечали.
«Куда же он пропал? – думала Анна. – Уехать со своей одышкой он никуда не мог. Да и странно, отдел будто вымер. Екатерина Ивановна обычно допоздна сидит…»
Домашний телефон не ответил и утром, но зато в отделе откликнулась Екатерина Ивановна.
– Ну как вы там? Живы, здоровы? – спрашивала она бесстрастным от помех и механического искажения голосом. – Все ли у вас ладно? А то мы тут волнуемся, переживаем…
– Где Михаил Михайлович? – кричала в трубку Анна. – У нас все в порядке! Дайте Михаила Михайловича!
– Они тут теперь редко бывают! – сообщила Екатерина Ивановна. – Они сейчас целыми днями по городу ездят, по начальству ходят. Все книги выручают! У этого, у Гудошникова!
– Ладно, я ему письмо напишу! Вы поняли? Письмо!
– Поняла, поняла! Ты, Аня, и домой напиши! А то мать недавно приезжала! Говорит, пропала куда-то!
Анна положила трубку и тут же, попросив на почте бумаги, села писать матери. Расписывать свои походы и несчастья не стала, чего доброго, напугаешь еще кержаками.
У нее представления-то о них литературные: фанатики, полудикие, полоумные лесные люди, которые не то что посторонних, а и себя на кострах и в избах живьем жгут. Рассказала, что поехала на лето в деревню за фольклором (мать знала, что это такое, по летней практике дочери), вернется в августе и сразу приедет домой в отпуск.
С почты она пошла к Власову. Это было интересно и неожиданно: появился старообрядец, который неизвестен даже самому Гудошникову, причем с таким фантастическим обилием книг. Однако внутри она чувствовала сомнение. Тут что-то было не так. Либо начальник милиции ошибся и принял за старинные книги какую-нибудь макулатуру, либо он склонен к преувеличению. Ведь вон как ругался и переживал за свою кобылу, а все обошлось, как в комедии: кто бы мог подумать, что кобыла ест сети?
Возле ворот дома, указанного встречной женщиной, Анна остановилась и, прежде чем постучать, глубоко вздохнула, прикрыла глаза…
На стук из избы вышел мужчина лет шестидесяти, лицо покрыто клочковатой черной бородой, на ногах опорки от валенок.
– Заходи, заходи! – весело позвал он. – Чего стучишь-то? Пришла – заходи!
Анна поздоровалась и спросила Власова.
– Я и есть Пимен Аверьяныч, – ответил хозяин, разглядывая гостью. – Заходи в избу. На дворе-то нынче ишь как печет!
«Неужели вчера начальник милиции предупредил? – шевельнулась мысль. – Как родню встречает…»
Власов пододвинул ей тяжелый табурет, пригласил сесть, а сам устроился на лавке у окна. В избе Пимена Аверьяновича было прохладно и пусто. Огромная русская печь с полатями, стол под вытертой и изрезанной клеенкой, лавки вдоль стен и полка, занавешенная пестрой ситцевой тряпкой, – вот и вся обстановка. Да еще из-за печи торчит высокая спинка деревянной кровати.
Анна украдкой осмотрела стены, углы: даже икон нет…
Власов сидел вполоборота к ней и поглядывал в окно, ерзая на лавке, словно нетерпеливо кого-то поджидал. Надо было начинать разговор, но Анна вдруг ощутила, что не знает, с чего начать. Тут не в Макарихе, у Марьи Белоглазовой, тут самой надо задавать вопросы…
– Откуда будете-то? – наконец спросил Власов совершенно равнодушно и будто невзначай.
– Из города я приехала, – ответила Анна, прислушиваясь к своему голосу. Казалось, говорил кто-то другой, она лишь открывала рот…
– Да-а, – протянул Пимен Аверьяныч и заерзал еще сильнее, по-прежнему косясь в окно. – И в городе у вас такая жарынь стоит?
– Жарко, – сказала она, чуя легкий озноб между лопатками.
– Во-во! – подхватил Власов. – Кругом, сказывают, нынче так… В газетах вон пишут тоже, будто в Бангладеш жара стоит, все колодцы пересохли…
– Где? – удивленно спросила Анна.
– Да в Индии штат такой есть – Бангладеш называется.
И надолго замолчал. Анну же этот бестолковый и банальный разговор о погоде лишь подхлестнул. Лучше уж выбросить все козыри сразу, выложить, что надо, только не сидеть и не тянуть резину. Разум еще барахтался, противился – не спеши, не злись, не гони коня – пропадет! Но вести пустой разговор уже не было сил.
– Я, Пимен Аверьяныч, к вам по делу пришла, – сдерживаясь, проговорила Анна. – Поговорить вот хотела…
– Ну ясно – по делу, – согласился Власов. – Без дела-то, поди, и чирей не садится… Дел нынче много у всех! Вот пишут, человек в космос полетел, Юрий Алексеевич Гагарин. Тоже дело… А у тебя какое?
– Я кержаков ищу, – ответила Анна. – Старообрядцев… Интересуюсь, как они живут.
«Боже мой, как глупо! – ахнула она, сжимая кулаки. – Ведь Аронов предупреждал: не называй их кержаками, обидятся…»
– Чего их искать-то? – спросил Власов. – «Ищу»… Вон они, кержаки, – кивнул он в сторону, – так и живут… А что? Вы из какой-нибудь организации или учреждения? Уполномоченные, что ль? – Власов насторожился и перестал ерзать.
– Да нет, – мягко сказала Анна. – Я из Академии наук, археограф.
– Вон оно что-о! – протянул Пимен Аверьяныч. – Из наук, значит, ученые академики… А чего кержаки-то тебе?
– Я книгами интересуюсь, – объяснила она. – Старыми… Их теперь уже нигде нет, а у кержаков сохранились.
– Ага! – догадливо сказал Власов. – Это в которых про Бога, что ль, писано?.. Ну интересуйтесь. Раз интерес есть – интересуйтесь. У меня тоже есть интерес, вот пенсию выхлопотать не могу. Вишь, девонька, у меня стажу есть десять лет, я лес валил… Ну, валил, как надо: сосенка к сосенке, нормы по две, бывало, делал, а в стаж для пенсии эти десять лет не хотят считать. Во какой интересный интерес!
Анна помолчала, стараясь выказать сострадание, и вновь о своем:
– Мне сказали, что у вас книги есть. Будто сохранились…
– Это кто же сказал-то? – удивился Власов и потеребил бороду.
– Люди сказали… – неопределенно ответила Анна.
– Ну и люди! – хохотнул он. – Да откуда у меня-то? Э-э-э… – Он махнул рукой и выглянул в окно. – У матери моей были. Мать и читать читала… А как помереть ей, куда-то все девала, не знаю.
Власов вскочил, отдернул занавеску на полке, снова сел.
– Может быть, вы поищете? – спросила Анна. – Не могла же она их выбросить.
– Как не могла? Могла… Могла и закопать, и отдать кому, чтобы люди не смеялись… Искал же вот, нету… – он потер локтем стекло, выглянул. – Нынче-то кто в Бога верует? Никто почти. И книги эти не нужны… Я еще молодым ходил, мать-то спрашивает: ты книги читать будешь или на гармони играть? Я, конечно, лучше на гармони, думаю. Гармонь себе купил. Во он, стоит, под кроватью. Хромка-однорядка… Голоса позападали, так не играю теперь.
– Да, жалко, – после долгой паузы проронила Анна.
– Жалко-жалко, – подтвердил Власов. – Как не жалко? Жалко…
– А у кого сохранились книги – не знаете?
– Нет, не знаю, – бросил Пимен Аверьянович. – Кто знает? Я никуда не хожу. Рази на работу токо… И ко мне не ходят. А живу один.
Несколько минут сидели молча, и Анна чувствовала, как пропадает последняя надежда. Нет, чуда не будет. Власов не достанет откуда-нибудь и не выложит перед ней ни листочка. Скорее всего у него и в самом деле нет.
– Ну что ж, извините, побеспокоила, – вздохнула она и встала. – Я пойду.
– Ничё, ничё, иди, – разрешил Власов. – Жарынь вот токо на дворе – спасу нету.
– До свидания, – сказала Анна, держась за скобку двери.
– Счастливый путь! – кивнул Власов, не вставая. – Головку-то ниже пригни, а то косяк низкий – ушибешь головку-то ненароком.
Ушла она совершенно обескураженной и долго не могла прийти в себя. На одной из улиц заметила скачущего всадника и сошла с проезжей части. Однако лошадь остановилась и заплясала, высоко поднимая ноги.
– Гуляете? – спросил начальник милиции и похлопал коня по шее. – А кобылка моя – видели? Одыбалась, родимая! – Он спешился и подошел к Анне.
– У Власова книг нет, – грустно сказала она. – Говорит, мать все куда-то унесла…
– Не может быть! – Глазырин рубанул рукой. – Мать у него лет восемь назад померла, а книги я видел весной! Ну-ка, идем в отдел!
В отделе милиции он вызвал к себе кого-то из работников и, поджидая, перебирал бумажки на столе. Вошел парень в гражданском, поздоровался и остановился у порога.
– Слушай, Клименко, мы ходили с тобой к Власову алиментщика искать? – спросил Глазырин.
– Ходили, товарищ майор, – подтвердил Клименко.
– Ты книги у него в кладовке видел? Ну, в кадках-то?
– Так точно.
– Вот, – сказал Глазырин Анне. – Если мне не верите.
– Видел, – еще раз подтвердил Клименко. – Штук двести или триста будет. Моим глазам свидетелей не нужно.
– Ну, ты подзагнул, – поморщился начальник милиции. – Может, штук сто только…
– Это в одной кадке только. А в других? – начал спорить Клименко. – Даже открывал, смотрел – написано не по-русски… А что такое, товарищ майор?
– Ладно, ничего, – буркнул Глазырин. – Иди, работай…
Клименко ушел. Начальник милиции склонил голову, уперся взглядом в стол, и Анна заметила, как краснота с его крепкой шеи медленно переползает на лицо…
Никита Страстный
Гудошников пробирался на Печору. После пропахших рыбой и лесом олонецких краев он с удовольствием вдыхал запах хлеба. Отовсюду только и слышалось:
– С хлебом нынче, с голоду не пропадем!
– Дал Бог, уродился хлебушек!
– Только бы голоду не случилось где! Не то выгребут опять…
Хлебом пахло в теплушках, в товарных вагонах, на постоялых дворах и вокзалах. Хлебом пахло от крестьян, встречающих поезда, от буржуев, теперь именуемых нэпманами, и красноармейцев, с которыми Гудошников ехал до Вологды.
Хлебом же пахло от беспризорников, кочующих на зиму в теплые края.
И везде ели. В вагонах, в базарных рядах, на станциях. Жевали этот самый хлебушек где с жадностью, где с наслаждением, и никто не смотрел на него равнодушно. В глазах рябило от жующих ртов, от рук, державших ломти и горбушки. В ушах стояли нескончаемые разговоры – хлеб, хлеб, хлеб… Словно вдруг вся Россия, оставив большие и малые дела, села за стол с караваями и стала наедаться за вчерашний голодный день, за сегодняшний хлебный и впрок, на завтра. Было в этом – что-то печальное и радостное одновременно.
В Вологде Гудошников пересел на открытую лесовозную платформу. Трое суток его болтало и продувало до костей, хотя состав тащился медленно и подолгу стоял на разъездах. Подъезжая к городку Печоре, Никита заболел. Кашель рвал легкие, обветренные губы потрескались, кровоточили, и стоило только чуть-чуть пошире открыть рот, как перед глазами возникали красные круги, тошнило.
В Печоре платформу загнали на запасной путь. Гудошников, едва спустившись на землю, сделал несколько шагов и упал на рельсы. Сознания он не терял, но встать сам не мог. Неожиданная слабость бесила его, Никита скреб ногтями мерзлую землю, упирался ногой в шпалы, но сил хватило лишь на то, чтобы сползти с насыпи.
– Эй! – как во сне донеслось откуда-то. – Здесь инвалид упал, убери-ка его с путей!
Черный человек склонился над Гудошниковым, взял его под мышки и легко, словно подростка, понес в сторону от полотна. Никита сопротивлялся, кричал, что пойдет сам, однако все больше обвисал на руках несущего. Возле будки стрелочника его посадили на кучу шпал и привалили спиной к стене.
– Отдохни малость, – погудел над ухом окающий говорок. – Эк тебя лихорадит-то.
Гудошников рассмотрел перед собой грузного, краснолицего человека в суконной поддевке и скуфейчатой шапке. Человек положил к ногам Никиты его котомку и сел рядом.
– Чай, заболел, огнем весь горишь.
– На платформе продуло, – едва слышно проронил Гудошников, ощущая тепло и покой. Сквозь прикрытые веки ему мерещился солнечный свет, хотя было пасмурно, перед глазами стояла неясная краснота, пылали щеки.
– Пойти-то есть куда? – спросил человек. – Аль не здешний?
– Из Питера я. – Никита сделал попытку встать – не вышло.
– Ойда-ко в избушку, – решительно сказал человек. – Я тебя на топчан положу.
Гудошникова завели в будку стрелочника и уложили на постель. Затем, в полусне, он что-то пил, горячее и безвкусное, кому-то отвечал на вопросы и прежде, чем заснуть окончательно, успел рассмотреть два маленьких образка на грубо сколоченной божнице.
Проснулся он только утром, от лязга буферов и вагонного грохота. Подскочил, огляделся.
– Где я?
В будке пахло хлебом и печеной картошкой.
– На станции, – сказал краснолицый человек.
– А ты кто?
– Я-то? Да стрелошник я, – махнул рукой хозяин будки. – Питье тебе поспело, на-ко испей, странничек…
Никита взял из рук стрелочника солдатскую кружку, обернутую холстиной, отхлебнул. Горечь связала рот, защемило в скулах.
– Пей-пей, – подбодрил хозяин. – От лихоманки-то другого зелья и не нужно. Терпи и пей. Пропотеешь – всю хворь как рукой…
Обжигаясь, Гудошников выпил отвар и откинулся на подушку. Почувствовав некоторое облегчение, он осмотрелся. Отстегнутый протез лежал на котомке возле топчана, шинель висела в углу, рядом с хозяйской поддевкой и какой-то черной, бесформенной одеждой. Стены будки побелены, кругом чисто, убого и светло. Взгляд Никиты снова остановился на божнице.
– Ты случайно не из монахов? – спросил Гудошников. Стрелочник насторожился, брякнул посудой у печурки и, отвернувшись, вздохнул тяжело.
– Из монахов и есть… А ныне стрелошник…
– Расстрига?
– Расстригли, – бормотнул стрелочник. – Был Ипатом, в иночестве, а ныне опять Макаром Окоемовым зовут, бумагу выписали.
– Согрешил, поди? – улыбнулся Никита. – Перед Богом провинился?
– Нынче все грех творят, всех расстригают… Ох господи!
– А в каком монастыре был? – спросил Никита. – В какой крепости сидел?
– В Северьяновой обители был, – снова вздохнул Ипат-Макар. – Светлая наша обитель была, тихая. Разве что паломники-богомольцы захаживали.
– Так я иду в Северьянову обитель! – обрадовался Гудошников. – Четвертую неделю из Олонца добираюсь!
– Уж не паломник ли, часом? – поинтересовался бывший монах, и Никита уловил легкую иронию.
– Да нет, не паломник, – мирно улыбнулся Никита. – Я по другому делу.
– И то вижу – по другому… – подтвердил стрелочник и покосился на шинель. – Нынче паломники в Северьянову не ходят. – В кармане шинели, вспомнил Гудошников, лежал маузер. Значит, пока он спал, бывший инок проверил, может быть, и в котомке пошарил…
– Между прочим, по чужим карманам, Ипат… или как тебя… лазить грешно, – сухо сказал Гудошников. – Хоть в иночестве, хоть в миру.
– А как же? – не согласился стрелочник. – Должен я поглядеть, что за человека взял? На полотне подобрал? А ну, коли ты бы преставился тута? Мне потом перед властями ответ держать. За комиссара-то люто бы спросили…
– Ладно, – махнул Никита. – Спасибо, что подобрал.
– Что же я, не понимаю: хворый на рельсах упал – не бросать же его? Да еще инвалид. Мне-то все одно: комиссар не комиссар, человек, божья тварь на железке лежит…
– Слушай, Макар! – оживился Гудошников. – А есть у вас в Северьяновом иеромонах Федор?
– Был Федор, – стрелочник снял чугунок с печки, вытряхнул картошку на стол. – Был, да вот недолга…
– Умер?!
– Да живой, поди… Что ему сделается? Шестидесяти не было… Чай, тоже где-то мытарится. Не стрелошник, конечно. Это я в стрелошники попал…
– Что? У вас и иеромонахи расстригаться начали?
Бывший инок вскинул голову, покраснел еще больше и, видно, хотел ответить зло и решительно, но сдержался, тихо проронил:
– Сами обитель закрыли, теперь смеетесь…
– Разве Северьянов монастырь закрыли? – удивился Никита, приподнялся в постели и сел.
– Нынче весной и закрыли, – после паузы сообщил стрелочник. – Нас вот по округе расселили. Кто на лесоразработки угодил, кто на сплав… Девяносто душ братии было. Немощных на попечение отдали, молодым… Так и живем теперь…
Макар собрал несколько картофелин в плошку, посолил, сбоку положил горбушку хлеба и подал Гудошникову. Никита поблагодарил, однако есть не стал. Бывший чернец помолился на образа и принялся за трапезу. Ел он медленно, нежадно, задумчиво глядел куда-то мимо хворого гостя и время от времени вздыхал.
– Где же все-таки Федор сейчас? – тихо спросил Гудошников.
– Что ты спрашиваешь так? – прожевав, поинтересовался Макар. – Родня он тебе или как?
– Родня, – сказал Гудошников. – Кровная родня… Так где же он?
– Нынче все пошли родню искать, – сказал стрелочник. – Нынче токо за родню и надо держаться… Ишь ты, как вышло-то? Ты комиссар, а родня – иеромонах, тоже навроде комиссара… А где он – один Бог ведает. Игумену нашему, владыке, указ из епархии пришел в Казань подаваться. Он, вишь, дворянского роду, его на чугунку не пошлют. Везде на теплом месте будет… А Федор-то, родственник твой, с ним собирался, да что-то не взял его игумен. Отца Василия взял, а его не взял…
– Так куда же он делся? Федор? – Никита схватил протез, повертел в руках, бросил на котомку.
– Не знаю… – проронил стрелочник. – Сказывали, будто он на острове остался, с Петром, при пустой обители жить… Другие сказывали, все ж таки с владыкой в Казань подался… Не знаю. Нынче человека отыскать труд-но-о… Все перемешалось.
Никита стиснул зубы: новости обескураживали, бывший монах прав – где его теперь искать, Федора, с рукописью? Хорошо, если он на острове остался, при монастыре, а если нет?
– Нас, Божьих людей, на чугунку работать послали, – продолжал Макар. – Тут гремит все, вонь экая, огонь кругом… Ад, и только…
– Ты сам посуди, Макар, – тряхнув головой, сказал Никита. – В стране революция, наш лозунг: «Кто не работает – тот не ест!», а вы там, в монастыре, дармоедами сидели на государственной земле. Все люди работают, добывают хлеб, вы же у этих людей на шее сидели. Это не по-Божески, верно?
– Я на чужой шее никогда не сидел! – отрезал инок-стрелочник. – Я в обители работал, рыбачил круглый год, у меня коросты с рук не сходили! А ты говоришь – дармоед… И теперь свой хлеб зарабатываю, по миру не хожу и не прошу.
– Значит, игумен ваш барином жил! – Никита снова взял протез и начал пристегивать. – На него работали.
– Я за других не знаю, – смиренно ответил Макар. – Я за себя говорю… Не нами-то заведено, на все воля Божья…
– Ага, как чуть – так воля Божья! Любую несправедливость можно на нее списать. Сам-то ты как думаешь? Есть у тебя голова?
– Голова-то есть…
Чернец умолк и перестал есть. Гудошников надел сапог, подковылял к шинели.
– Куда вывезли имущество из монастыря? – спросил он, не глядя на хозяина.
– Кто его знает? – вздохнул стрелочник. – Сначала братию вывезли, потом уж имущество… А куда – неведомо. Слыхал токо, гроб со святыми мощами в казну пошел. Гроб-то серебряный был, тридцати пудов весом. Мощи вытряхнули, гроб – в казну.
– А книги? Библиотеку монастырскую?
– Не знаю… – равнодушно сказал Макар. – Я книг не читал, я рыбачил… Это родственник твой, Федор, книжник был. С него и надо спрашивать про книги. Вот сети и невод в рыболовную артель отдали, и соль с бочками туда же увезли, говорят. Сети хорошие были, новые еще, сам вязал… Ты что же, так прямо и пойдешь в Северьянову?
– Так и пойду, – сказал Никита, надевая шинель. – Пойду искать.
Монах глянул на него с интересом.
– Ты про имущество спросил… Клад какой, что ли, ищешь?
– Клад.
– Напрасно токо мучения терпишь, – уверенно сказал стрелочник. – Новая власть до тебя там пошарила… А что игумен попрятать успел, так не сыщешь. И Федор, родственник твой, навряд ли знает…
Никита резко повернулся, ухватился за косяк.
– Что прятал игумен?
– Золотишко, верно, с икон да из ризницы, – спокойно сказал Макар. – Сказывали, оклады-то еще до закрытия пропали…
– Ты об этом говорил местным властям?
– А то как же – не говорил? Власти сами спрашивали, от них и узнал.
– Ну ладно, Макар, – помолчав, сказал Никита. – Привыкай к новой жизни, привыкай… А я в Северьянов монастырь пошел. Спасибо тебе за хлопоты.
Макар потрепал худосочную бороду, посмотрел жалостливо.
– Ты в обители-то остерегайся… Сказывают, нехорошо там стало, как закрыли, будто зло творится. Ты хоть и комиссар, а остерегайся…
Мимо будки с грохотом прокатился состав. Мелко зазвенела посуда на столе, задрожало стекло в окошке. Гудошников открыл дверь и очутился на улице.
Ветер ломал голые верхушки деревьев, в воздухе пахло снегом…
Разузнать что-либо об участи библиотеки Северьянова монастыря и о судьбе иеромонаха Федора Гудошникову не удалось. Одни говорили, что книги вывезли, поскольку при закрытии монастыря был какой-то представитель из Усть-Сысольска, который интересовался библиотекой, и якобы он ее вывез в неизвестном направлении, может быть, даже взял книги себе, другие уверяли, что их выбросили в реку и они уплыли, поскольку Святое Писание в огне не горит и в воде не тонет, а иконы будто порубил и сжег Петро Лаврентьев, единственный нынешний житель острова, где стоит монастырь. А иеромонаха Федора будто недавно видели в этих краях, но точно не узнали – он или не он, поскольку раньше он был тучным и достаточно молодым мужчиной, встречали же худого и старого, но похожего.
Из Печоры Гудошников выехал на второй день с хлебным обозом, который шел в поселки лесозаготовителей. Обоз охраняли четверо красноармейцев с винтовками, однако и сами обозники ехали с ружьями, берданками и шомполками: говорили, что в окрестностях ходит банда…
С утра подстыло, но к полудню дорогу развезло, и телеги, груженные мешками с мукой, тонули по ступицы. Возчики, проклиная все на свете, распрягали коней, разгружали телеги и вытаскивали их на себе. Коней жалели, себя – нет. Шестнадцать подвод растянулись на версту, хотя красноармейцы-охранники то и дело задерживали передних, чтобы подтянулись отставшие. На следующий день ударил мороз, дорогу сковало, и повозки нещадно тряслись по ухабам и шишкам. Гудошников лежал на мешках, прикрытый ямщицким тулупом, и каждый толчок болью отдавался в теле. Раз по пять в день мужики-обозники развязывали котомки с припасом и начинали есть. Ел каждый отдельно, на своем возу, но часто кто-нибудь из возчиков догонял телегу Никиты и совал ему краюху пахучего ржаного хлеба, кусок горьковатого, прошлогоднего сала, луковицу, огурец. Никита отказывался, хотя знал, что брать надо. Мужики предлагали от чистого сердца, они жалели его, как жалеют на Руси всех инвалидов и убогих. Некоторые подсаживались, и начинались расспросы о городском житье. Чаще всего интересовались: почем хлеб на базаре, надолго ли объявлен нэп и что это за хреновина такая, если буржуям снова позволили стать буржуями, и что будет дальше, после нэпа.
Особенно домогался с вопросами Милентий – маленький, тщедушный мужичок в рваной шинели. Возчики над ним посмеивались, разыгрывали, но звали ласково, как зовут дурачков в деревне – Милеша. Глупым же Милентий не был и, судя по тому, какие вопросы он задавал, мог бы, пожалуй, при случае заткнуть за пояс любого обозника. Милеша забирался на воз к Никите, складывал ноги калачиком и, выставив куцую бороденку, начинал балагурить.
– А верно, – спрашивал он, – будто такой аппарат уже придумали, на котором можно летать чуть ли не на луну?
Обозники рассказывали о нем, что он лодырь несусветный, что от лени уже все углы у своей избы на дрова обрубил, что в хозяйстве у него – шаром покати, но считается самым богатым в деревне, поскольку у него одиннадцать ребятишек, все парни, и земли он получил больше всех. В рассказах своих они жалели его жену, которая пахала, сеяла и убирала вместо Милеши: «Ломит лучше иного мужика, в нужде вечно, но в дурне своем души не чает…»
Гудошников слушал Милешу вполуха, изредка отвечал на вопросы, а сам думал о своем: где монастырская библиотека, куда пропал иеромонах Федор, нынешний владелец языческой рукописи? Если книги вывезли вместе с имуществом, то поездка в монастырь ни к чему. Лучше бы отлежаться у того же инока-стрелочника, а уж потом отправляться на поиски Федора. Но даже если книги остались в монастыре, то среди них вряд ли удастся отыскать рукопись Дивея. Федор знал ей цену. Скорее всего он взял ее с собой либо спрятал там, в Северьяновой обители.
Но побывать рядом с монастырем и не проверить – такого Никита себе позволить не мог. Во сне, в минуты короткого забытья на трясущейся телеге, Гудошникову снился один и тот же кошмар: он медленно подползал к неведомой, скованной железом двери книжного хранилища, с трудом открывал ее и видел на полу растерзанную рукопись. Ветер трепал харатьи, крутил их в маленьком смерче, а он, Никита, пытался прочесть, что там написано. Буквы были знакомые, хоть и не похожие на кириллицу, но не складывались в слова. Если же Гудошникову удавалось что-то понять, то неведомые знаки тут же переворачивались, искажались, и приходилось читать снова…
Перед селом Спасским, куда шел обоз, Милеша неожиданно затосковал.
– Эхма, – вздохнул он тяжело. – Мужики-то все пытают тебя, чего там дальше будет, как жить станем. А я вот что скажу тебе, товарищ Микита: тосклива жизнь наша пойдет. Ох, тоскливая-а…
– Отчего же? – спросил Гудошников.
– А погляди сам. Нынче-то мы, слава богу, хлебушка досыта поели, можа, и на зиму хватит. На будущий год еще больше будет. А что, если мы хлебом-то, как песком, завалимся? Ну, придет такое времечко?.. Мне вот, когда брюхо полное – спать страсть как охота. Все потому, что при полном-то брюхе тоскливо делается. Но спать-то сколь можно? Высплюсь – начинаю думать, думать… Ведь негоже это – людям, как медведям, в берлоге лежать? Человеку всегда какое-нибудь занятие нужно. А занятие наше крестьянское известно – хлебушек сеять. Ну а если брюхо сытое и занятиев больше нету?
– Учиться пойдешь, Милентий, – сказал Никита. – Грамоту знаешь?
– Э-э, товарищ Микита, – мужичок погрозил пальцем и рассмеялся. – Учиться… Если мы-то выучимся – хлеба еще больше будет… Я вот что думаю: видно, нельзя, чтобы народ всегда сытый был. Надобно его чуток недокармливать, как собаку перед охотой не кормят. Ты думаешь, почто наш народ такие войны выдюжил, такие беды пережил? А?.. Во! Потому что всегда в брюхе ворчало. Когда под ложечкой сосет – чего хочешь пережить можно. Революция пролетарская от этого и пошла… А почто мы гидру капитализма одолели? Да сытая она была, гидра! На ходу дремала. Вот если и мы тоже сытые шибко станем, то нас кто-нибудь одолеет. Так что нам никак нельзя много хлебушка. – Он постучал по мешку. – Надо, чтобы его чуток не хватало. Все наши грехи и беды от сытого пуза будут. Вот поглядишь и меня вспомянешь… Я говорил нашему продкомиссару, так он, дьявол старый, хохочет надо мной и не понимает текущего момента. Тоскливая жизнь пойдет, зря мужики радуются… А потом, смотри: в бою в живот ранят – сытый пропадет, это я по германской войне знаю, а голодный выживет! Я сам выжил, когда меня в брюхо ранило. Доктор так и сказал: тебя, Милентий, голод от смерти спас.
Гудошникову почему-то вспомнился красноармеец, лежавший с ним в одном тифозном бараке. Никита тогда уже шел па поправку, а тот красноармеец бредил в беспамятстве, орал бессвязно, хрипло, но когда приходил в себя и боль отпускала, будил Гудошникова и просил поговорить с ним. «А что будет, когда всех врагов революции перебьем и всю Антанту разнесем? – спрашивал он, шурша пересохшими губами. – Скучная, поди, жизнь начнется. Ни боев тебе, ни драки».
Врагов разбили, Россию очистили от контрреволюции, но скучно не было…
– Возьми меня с собой? – вдруг попросился Милеша. – Пойду и я книжки искать. Жизнь у тебя – не мед, в сон не потянет. А я бабе своей передам через мужиков, они и коня моего ей угонят, а?








