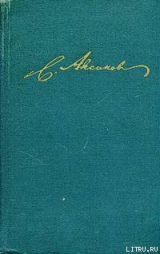
Текст книги "Литературные и театральные воспоминания"
Автор книги: Сергей Аксаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Через месяц опустела Москва от приезжих гостей. Двор, дипломатический корпус, министерства и гвардия воротились в Петербург, и Москва приняла свой обыкновенный, будничный характер. Я нанял себе большой дом на Остоженке, и мало-помалу начала устроиваться моя городская жизнь.
В продолжение этого времени я почти ежедневно бывал в театре и виделся с Кокошкиным, Загоскиным и Писаревым. Князь Шаховской недели две был болен и не выезжал из своей квартиры. Все трое моих приятелей, в том числе и Кокошкин, которого кн. Шаховской, как известно моим читателям, некогда бранил беспощадно, были с ним очень дружны и хотели немедленно повезти меня к нему; но я решительно отказался и объявил, что не намерен сближаться с Шаховским. Все думали, что я сержусь на него за петербургскую нашу встречу, случившуюся за десять лет при постановке на русскую сцену «Мизантропа», – но это было совершенно несправедливо. Я вовсе был неспособен к злопамятности, да и дело того не стоило. Мне даже досадны были слова Кокошкина, который не один раз говорил мне: «Нет, милый, ты все сердишься на Шаховского за меня. Поверь, что он это так. Он ведь пребешеный и когда взбеленится, то сам не помнит, что говорит; а злобы у него никакой нет, и он предобрый, он всех нас любит от всего сердца, хотя при случае, осердясь, и укусит». Загоскин, который о других судил по себе, у которого все были прекрасные люди, распинался за честность и доброту князя Шаховского. Даже Писарев, которого суд об людях был скорее строг, чем снисходителен, уверял меня, что кн. Шаховской – раздражительное, но добродушное дитя, что у него много смешных слабостей, что он прежде в Петербурге находился под управлением известной особы, что за нее прогнали его из петербургской дирекции, где заведывал он репертуарною частью, и что, переехав на житье в Москву на свою волю, так сказать, он сделался совсем другим человеком, то есть самим собою. Но предубеждение мое против князя Шаховского было слишком сильно. Он имел множество врагов в Петербурге, которые составили ему весьма дурную славу в обществе. С самых молодых лет я привык считать кн. Шаховского притеснителем Шушерина, интриганом, гонителем великого таланта Семеновой, ласкателем, угодником людей знатных и сильных и, наконец, заклятым врагом Озерова, которого он будто бы преследовал из зависти и даже, как утверждали многие, был причиною его смерти. Вследствие таких-то предубеждений и слухов, которым я более или менее верил, сколько меня ни уговаривали, я не поехал к Шаховскому; когда же он выздоровел, я старался не встречаться с ним, и как этого совершенно избежать было невозможно, то я отделывался учтивым поклоном. Общие приятели наши наговорили много доброго обо мне Шаховскому, и он еще до моего приезда желал коротко со мной познакомиться и подружиться. При первой встрече у Кокошкина он, как хозяин, должен был познакомить нас с Шаховским. Не упоминая о нашей прежней, довольно близкой встрече, мы отрекомендовались друг другу, как люди, которые видятся в первый раз в жизни. Шаховской впился было в меня со всею ласковостью своей забавной болтовни, но скоро моя сухость и холодность укоротили его неумолкаемый язык, и он должен был оставить меня в покое. При следующем свидании вторичная попытка князя Шаховского сблизиться со мной также была неудачна. Я упрямился, хотя видел, что такое положение огорчало всех моих приятелей, что оно нарушало согласный строй дружеских собраний всего нашего круга. Шаховской приставал с расспросами к Кокошкину, Загоскину и Писареву: что значит мое отчуждение? и они были в затруднении, что отвечать на такие вопросы. Наконец, Писарев решился поступить прямо и откровенно; он сказал Шаховскому, что я, наслышавшись много дурного о нем, не хочу с ним войти в приятельские отношения. Шаховской огорчился и в свою очередь поступил так же прямо: он приехал ко мне сам и рассказал мне искренно и добродушно всю историю своей службы при Петербургском театре; рассказал мне несколько таких обвинений против него, каких я не знал, и, опровергнув многое положительно, заставил меня усомниться в том, чего опровергнуть доказательствами не мог. Я был побежден, протянул руку Шаховскому – и не имел причины раскаиваться. С каждым днем узнавая короче этого добродушного, горячего до смешного самозабвения и замечательно талантливого человека, я убедился впоследствии, что одну половину обвинений он наговорил и наклепал сам на себя, а другая произошла от недоразумений, зависти и клеветы петербургского театрального мира, оскорбленного, раздраженного нововведениями князя Шаховского: ибо при его управлении много людей, пользовавшихся незаслуженными успехами на сцене или значительностью своего положения при театре, теряли и то и другое вследствие новой системы как театральной игры, так и хода дел по репертуарной части. К этому должно прибавить, что князь Шаховской, не видя никакой возможности переучить или переделать на свой лад людей старых и даже не старых, но уже закоренелых в старой методе сценических традиций, выбрал несколько молодых людей и образовал их по-своему. Правда, однакож, и то, что он был пристрастен к ним и видел в них великие таланты, тогда как они имели от природы мало дарований. Впрочем, тем более чести им. Они, под руководством более светлого, истинного взгляда на искусство, переданного им князем Шаховским, умели сделать из себя таких артистов, которые долго были украшением петербургской сцены и пользовались в свое время громкою славою и полным сочувствием снисходительной и благодарной петербургской публики. Это поучительный пример для людей с положительным талантом, блистательно начинающих и потом от лени, неуважения к труду, от непонимания искусства переходящих в жалкую посредственность. Я знаю, что и теперь, назвав актеров, любимцев князя Шаховского, по имени, я вооружу против себя большинство прежних любителей театрального искусства; но, говоря о предмете столь любезном и дорогом для меня, я не могу не сказать правды, в которой убежден по совести. Эти актеры были: Брянский, Сосницкий, г-жи Валберхова и Ежова. Первые трое, лично ни в чем не виноватые, возбуждали только зависть; но последняя госпожа была самою главною причиною дурной славы князя Шаховского. Имея на него большое влияние, она умела раздражать его, а в раздражении Шаховской бывал иногда несправедлив и на словах и на деле. Всего хуже было то, что Шаховской, несмотря на свою вспыльчивость, проходившую мгновенно, не умел, не смел и не мог обуздать неизвинительных поступков этой женщины; все это падало на князя Шаховского, и, конечно, все имели полное право обвинять его.
Возвращаюсь к моему рассказу. К общему удовольствию нашего круга, объяснившись, мы сошлись с Шаховским очень скоро и сделались короткими приятелями. Почти весь наш круг был составлен из людей, служащих при театре, пишущих для театра, и театралов по охоте. Присутствие кн. Шаховского, поселившегося в Москве на неопределенное время, первого драматического писателя, первого знатока в сценическом деле, преданного ему всем существом своим, еще более всех одушевляло. Хотя Кокошкин сам очень любил ставить пиесы на сцену, но он благодушно признавал превосходство кн. Шаховского, называл его «первым сценическим мастером» и уступал ему свои права. Это время можно назвать одним из лучших для Московского театра: Щепкин, в полной зрелости своего таланта, работая над собою буквально и день и ночь, с каждым днем шел вперед и приводил всех нас в восхищение и изумление своими успехами. Может быть, публика этого и не замечала; но мы, страстные любители театра и внимательные наблюдатели, видели, что с каждым представлением даже старых пиес Щепкин становился лучше и лучше. Блестящий, ослепительный и увлекательный талант Мочалова развивался, без его ведома, всегда неожиданно и не там, где можно было надеяться этого развития. Он приводил нас то в восторг, то в отчаяние. Сам князь Шаховской впоследствии боялся давать ему советы и часто говорил: «Беда, если Павел Степаныч начнет рассуждать; он только тогда и хорош, когда не рассуждает, и я всегда прошу его только об одном, чтобы он не старался играть, а старался только не думать, что на него смотрит публика. Это гений по инстинкту; ему надо выучить роль и сыграть; попал, так выйдет чудо; а не попал, так выйдет дрянь». И такое определение было совершенно справедливо. Сабуров и Рязанцев, особенно последний, оба имели драгоценное и редкое качество на сцене: веселость. Впрочем, Рязанцев был гораздо выше по таланту; в его игре была такая простота, такая естественность, какой тогда еще не видывали. Он имел один недостаток, мало заметный по комическому характеру его ролей: игра его была холодновата; но говорят, что впоследствии, уже в Петербурге, у него начинала проявляться теплота и одушевление представляемого лица. Если это правда, то Рязанцев должен был достигнуть степени великого артиста. Отчетливая, умная, благородная игра Синецкой, которой вредили иногда советы Кокошкина, свежее дарование Репиной, прекрасная старуха и баба-хлопотунья – Кавалерова, Лавров, Степанов и другие, менее замечательные дарования, – не говорю о богатых надеждах театральной школы, иногда появлявшихся на публичном театре, – все это вместе придавало московской сцене высокое достоинство. Водевили Писарева разыгрывались с неподражаемым совершенством. Публика горячо сочувствовала и сочинителям и актерам, и в партере театра было так же много жизни и движения, как и на сцене.
Загоскин, с таким блестящим успехом начавший писать стихи, хотя они стоили ему неимоверных трудов, заслуживший общие единодушные похвалы за свою комедию в одном действии под названием «Урок холостым, или Наследники»
[После блестящего успеха этой комедии на сцене, когда все приятели с искренней радостью обнимали и поздравляли Загоскина с торжеством, добродушный автор, упоенный единодушным восторгом, обняв каждого так крепко, что тщедушному Писареву были невтерпеж такие объятия, сказал ему: «Ну-ка, душенька, напиши-ка эпиграмму на моих «Наследников»!» – «А почему же нет», – отвечал Писарев и через минуту сказал следующие четыре стиха:
Комический давнишний проповедник
«Наследников» недавно написал
И очевидно доказал,
Что он Мольеров не наследник.
Громкий смех и одобрение встретили эту импровизированную эпиграмму, и можно себе представить, как был озадачен Загоскин. Писарев особенно отличался необыкновенной находчивостью, быстротой своих эпиграмм, сказанных или написанных часто в одну минуту, без всякого приготовления. Вот еще случай в доказательство моих слов: после одного из предварительных заседаний Общества любителей русской словесности при Московском университете, в котором было читано переложение нескольких псалмов М. А. Дмитриева, члены стали хвалить их, но Писарев молчал. Спросили его мнения, и он, взяв лежащий перед ним листок бумаги, написал следующее:
Шатров и Дмитриев, Полимнии сыны,
Давида вызвали из гроба.
Как переводчики, хоть тем они равны,
Что хуже подлинника оба.]
– решился написать большую комедию в четырех актах, а именно: «Благородный театр». Мы были с ним очень дружны, и он первому мне открылся в своем намерении. Эта комедия долго его занимала. Он имел возможность сделать много наблюдений по предмету ее содержания и заранее придумал множество забавных сцен и даже множество отдельных стихов с звучными и трудными рифмами, до которых он был большой охотник, – а между тем твердого плана комедии у него не было; я убедил его, чтобы он непременно написал, так сказать, остов пиесы и потом уже, следуя своему плану, пользовался придуманными им сценами и стихами. Загоскин послушался меня, писал несколько дней – и ничего не написал. Рассердился, разбранил меня за мой совет, себя – за то, что последовал ему, и решился засесть за работу без всякого плана и писать что ему придет в голову. Трудно себе вообразить, каких тяжелых усилий стоил ему каждый стих. Вот была поистине египетская работа. У Загоскина не было музыкального уха, и он никак не мог различить пятистопного стиха от семистопного и, пожалуй, от восьмистопного. Часто приходил он в бешенство, когда в написанных им стихах, стоивших ему продолжительной работы и которыми, наконец, он был очень доволен, – вдруг находил я то пять с половиною стоп вместо шести, то семь вместо шести с половиной, то неправильное сочетание рифм, то цезуру не на месте… Часто горячился он, сердился и даже не верил мне. Нередко случалось, что не было другого средства убедить его, как разделить стих черточками на слога и стопы. Даже при таком очевидном доказательстве иногда Загоскин спорил, и, наконец, я уговорил его призвать на помощь еще Писарева, которому в этом отношении он совершенно верил и с которого взял честное слово не открывать никому секрета, как он пишет комедию. Нельзя поверить, читая его прекрасные, звучные и свободные стихи, чтобы они выковывались так медленно, и так тяжело, и таким человеком, который был совершенно лишен музыкального уха для стихов. Загоскин писал свою комедию с лишком год, и она явилась на сцене только 29 декабря 1827 года. – Кокошкин также начинал писать большую комедию в стихах, под названием «Воспитание», и еще до моего приезда перевел комедию Делавиня «Урок старикам», которая давалась с большим успехом на сцене. – Писарев переводил водевиль «Дядя напрокат» для бенефиса капельмейстера Шольца; водевиль этот должен был идти в первых числах генваря наступающего 1827 года; но Писарев уже чувствовал, что пора приняться за что-нибудь более серьезное, более достойное его таланта, «пора перестать набивать руку», как он сам говаривал, «на водевильных куплетах», хотя они очень нравились публике. У него был задуман план большой комедии «Христофор Колумб». Он постоянно обработывал его и уже написал пролог.[20]Note20
Писарев успел написать только один акт этой комедии, который и был напечатан после его смерти, в 1830 году, в «Московском вестнике», выходившем тогда сборниками.
[Закрыть]
– Князь Шаховской и подавно не оставался праздным. Кроме большой комедии-водевиля «Притчи, или Езоп у Ксанфа», подражание французскому, он задумал написать трагедию «Смольяне», которая и была впоследствии написана и даже сыграна, но никакого успеха не имела.
Весь пыл полемических схваток Писарева с издателем «Телеграфа» происходил без меня; тем не менее враждебность была и теперь в полной силе в обеих сторонах. Прекратились выходки Писарева в остроумных куплетах на Полевого и кн. Вяземского, возбуждавших страшный шум в театре, который выражал борьбу двух партий; но не прекратилось взаимное ожесточение и росла взаимная неправость обеих сторон. Круг людей, в котором я жил, был весь против Полевого, и я с искреннею горячностью разделял его убеждение. Теперь можно хладнокровно рассуждать о прошедшем и находить даже пользу в существовании «Московского телеграфа» – пользу отрицания. Отрицание было необходимо, и Полевой, имевши много русской сметливости, ловкости, не лишенный даже некоторого дарования, служил выражением этого отрицания. Он ничего почти не сказал нового, своего; все было более или менее известно во всех кругах образованных обществ, обо всем этом говорили и спорили московские литераторы; но Полевой первый заговорил об этом печатно, и заговорил с тою решительною дерзостью, к которой бывает способно самонадеянное, поверхностное знание дела и которая в то же время всегда имеет успех. Очень приятно низвергать с высоты почетные имена, ломать давно утвердившиеся репутации – и жадно бросается молодость на такой строгий суд, совершающийся во имя правды! Самые те люди, которые давно уже, хотя, может быть, не ясно, не положительно, имели подобные мысли, обрадовались, увидя их в печати, и даже сочли новыми. Об остальной публике нечего и говорить. Большинство было на стороне Полевого; но торжество «Телеграфа» еще более, и законно, раздражало его противников и доводило ожесточение до крайних пределов. Впрочем, должно сказать, в извинение им, что тяжело, оскорбительно было видеть, как самоуверенно судил Полевой часто о таких предметах, о которых он не имел надлежащего понятия. Самая правда, которую он все же иногда высказывал, как человек умный, была под его пером так же невыносима для его противников и так же раздражала. Я не намерен распространяться об этой полемике, которая впоследствии вышла из всяких пределов приличия и сделалась вовсе не литературною. Я сам был, к сожаленью, одним из наиболее раздраженных, следственно и не всегда справедливых, деятелей и неохотно вспоминаю об этом времени; притом же еще нельзя говорить обо всем откровенно: еще живут многие, принимавшие горячее участие в этой борьбе или слишком близкие к бойцам, погибшим рановременно.
Шестнадцатого декабря, в бенефис актера Воеводина, была дана комедия-водевиль кн. Шаховского, о которой я уже говорил: «Притчи, или Езоп у Ксанфа». Содержание пиесы, совершенно чуждое нашей жизни, мало имело достоинства, и только уменье кн. Шаховского все приладить к русской сцене, сообразно со средствами актеров и актрис, дало успех этой комедии, или водевилю. Разумеется, Щепкин играл Езопа и с большим искусством читал басни в стихах, взятые у Езопа французскими и немецкими баснописцами и от них уже перешедшие в русскую литературу. Тут были басни Хемницера, И. И. Дмитриева и Крылова, о высоком достоинстве которых говорить не нужно. Еще с большим искусством передавал Щепкин лукавство раба, который изобрел притчу как средство выражать перед своим властелином свою потаенную мысль, которую прямо сказать нельзя. Много работал над этой ролью Щепкин, чтоб по возможности скрыть себя, свою горячность и свои приемы под личиною Езопа. Кн. Шаховской и все мы с восхищением смотрели на этого истинного артиста, который трудился неутомимо. Но Шаховской не был им вполне доволен и уверял меня, что петербургский актер Брянский в этой роли гораздо лучше. Впоследствии я видел Брянского в Езопе и не согласен с Шаховским. Точно, у Брянского было больше простоты, ибо Щепкин никогда не мог отделаться вполне от искусственности, которая была слышна в самой естественной игре его; точно, некоторые басни Брянский читал гораздо лучше; но уже во всем остальном не было сравнения: зритель не видел и не слышал в нем, несмотря на покорную наружность, – хитрого, тонкого, лукавого раба, кипящего внутренним негодованием. А в этом-то и был превосходен Щепкин. В том же декабре было два бенефиса: Мочалов дал «Поликсену», трагедию Озерова, а Синецкая – большую комедию в стихах, в пяти действиях, сочинения Головина, под названием «Писатели между собой». Обе пиесы не имели успеха. Синецкая была не Клитемнестра, да и Мочалов не Ахиллес, хотя некоторые порывы и страстные движения были выражены им прекрасно. Не помогли и блестящие стихи Озерова, тогда еще всех приводившие в восхищение. Так называемая классическая трагедия начинала уже колебаться и сходить со сцены. Комедия же Головина вполне доказала, что один набор слов и мыслей, высказанных в довольно гладких и бойких стихах, еще ничего не значит. В октябре 1826 года вышел драматический альбом с нотами, изданный Верстовским и Писаревым.
Собственно с 1827 года началась в Москве эта изумительная театральная деятельность князя Шаховского. В прошедшем году он поставил на московскую сцену также довольно пиес, но уже игранных на Петербургском театре. Замечательнее других были опера «Сусанин», водевили: «Ломоносов», «Пурсоньяк-Фалелей», «Ворожея» и «Феникс, или Утро журналиста», а из комедий – «Пустодомы» и «Аристофан». В 1827 же году он беспрестанно писал и ставил новые пиесы. Эта напряженная деятельность, эта беспрерывная работа во всех родах драматических сочинений, без сомнения, были вредны цельности таланта и правильности его развития. Отчасти это проистекало от добродушного и легкого характера: Шаховской не мог отказать никому из актеров или актрис, которые, разумеется, во зло употребляли его снисходительность. Он беспрестанно сочинял, переводил или переделывал для их бенефисов оперы, водевили, комедии, трилогии, романтические зрелища и проч. и проч. Довольно проследить с точностью его авторскую производительность только в 1827 году;[21]Note21
В генваре 1827 года, в бенефис г-жи Борисовой, Шаховской поставил новую свою пиесу под названием «Керим-Гирей, трилогия», написанную по большей части прекрасными стихами. Содержание он взял из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина и даже местами удержал его стихи. В том же генваре, в бенефис г-жи Синецкой, он поставил комедию-балет в трех действиях, подражание Шекспиру, под названием «Батюшкина дочка, или Нашла коса на камень», и сцены: «Ермак, представление, взятое из сочинений И. И. Дмитриева». В апреле, в бенефис сирот Рыкалова, были даны в первый раз «Буря, волшебное романтическое зрелище в трех действиях, из Шекспира» и «Адвокат, или Любовь-живописец», водевиль в двух действиях, подражание Мольеру. Обе пиесы принадлежали кн. Шаховскому. В мае месяце, в бенефис двум танцовщицам, Е. Ивановой и Заборовской, нисколько не замечательным, опять были даны две пиесы кн. Шаховского: «Урок женатым», комедия в одном действии в вольных стихах, и «Бенефициант», комедия-водевиль в одном действии. В июне, в бенефис г-на Баранова, актера вовсе бесталанного, но выбранного в прошлом году кн. Шаховским для выполнения роли Казнодара Клеона в комедии «Аристофан» и каким-то чудом сыгравшего эту роль очень удачно, написал и поставил кн. Шаховской «Восковые фигуры, или Волшебная механика», интермедия-водевиль. В этом же июне, в бенефис Сабуровых, была дана новая и очень забавная комедия в одном действии кн. Шаховского «Фальстаф», заимствованная из Шекспира. В августе, в бенефис самой ничтожной актрисы Баранчеевой, игравшей наперсниц в трагедиях, кн. Шаховской поставил (конечно, из одной жалости) свою новую пиесу под названием «Привидение, или Разоренный замок». В ноябре, в бенефис Сабуровых, опять шла новая пиеса Шаховского «Молодая мать и жених в 48 лет, или Домашний спектакль», комедия-водевиль в четырех действиях, перевод с французского. Наконец, 1 декабря, в бенефис Мочалова, была дана огромная комедия в пяти действиях кн. Шаховского под названием «Судьба Ниджеля, или Все беда для несчастного», взятая из известного романа Вальтер-Скотта. Эта пиеса была точно несчастная. Она была так длинна и скучна, хотя многие отдельные сцены были прекрасны, что в четвертом действии зрители начали разъезжаться. Убедительное доказательство, что превосходный роман, облеченный в драматические формы, может быть скучен до невероятности. – Итак, вот сколько разнородных пиес написал и поставил на сцену кн. Шаховской в один год!
[Закрыть] из этого можно будет сделать посылку на все прежние годы его петербургской деятельности. Какой замечательный и даже серьезный талант не растратится на такие мелочные и часто пустые произведения! Чтобы сделать бенефисные пиесы заманчивыми для публики, Шаховской прибегал к помощи музыки, танцев, декораций и даже превращений. На упреки за такую смесь он обыкновенно отвечал: «Все искусства – братья и должны помогать на сцене один другому».
Чтобы иметь о князе Шаховском полное понятие, надобно было видеть, как он ставил на сцену пиесу, свою или чужую – это все равно. Я беспрестанно это видел и всегда с любопытством и удовольствием. Конечно, если бы перенесть человека, чуждого театральному делу и равнодушного к театральному искусству, на сцену или в одну из боковых зал, где идет репетиция пиесы при кн. Шаховском, то он бы расхохотался и счел его за сумасшедшего; даже я, тогда еще страстно любивший театр, иногда не мог удерживаться от смеха; но зато часто я восхищался Шаховским. Весь проникнутый любовью к искусству, не чувствуя ни жара, ни холода, не видя окружающих его людей, ничего не помня, кроме репетируемой пиесы, никого не зная, кроме представляемого лица, – Шаховской часто был великолепен, несмотря на свою смешную, толстую фигуру, свой длинный птичий нос, визгливый голос и картавое произношение. По вспыльчивости своей он часто выходил из себя; но бешенство его не всегда и не вдруг обнаруживалось неистовыми криками, воплями или бормотаньем никем не понимаемых слов; нет, нередко сначала оно скрывалось под напряженным спокойствием, равнодушием, шутками, и потом уже следовал взрыв и полное самозабвение; в этих-то принужденных шутках подавленного бешенства Шаховской был неподражаемо забавен. Можно было бы рассказать множество истинных происшествий в доказательство справедливости моих слов; но эти анекдоты потеряют много в рассказе, потому что никакое точное описание не может дать настоящего понятия о личности незабвенного кн. Шаховского: эти анекдоты надобно разыгрывать, а не рассказывать. Я попытаюсь, однако, передать моим читателям одну из бесчисленных выходок нашего комика, которая случилась именно в этом году. В Москву приехала из Петербурга г-жа Ежова, чтобы сыграть несколько раз в пользу московской дирекции и потом получить бенефис, как это обыкновенно водилось, да и теперь водится. В репертуаре г-жи Ежовой, между прочим, назначена была небольшая опера «Любовная почта», уже несколько лет сочиненная кн. Шаховским и давно не игранная на московской сцене. Сочинитель ее думал, что г-жа Ежова – совершенство в этой пиесе, и непременно требовал, чтобы ее сыграли. Актеры подучили свои роли, назначили репетицию, и мы с Писаревым отправились в театр вместе с кн. Шаховским. Он с самого начала был уже недоволен плохим знанием роли и вялым ходом репетиции; она шла на сцене Большого театра. Сначала кн. Шаховской несколько раз вскакивал с своих кресел, подбегал то к тому, то к другому актеру или актрисе, стараясь ласкою, шуткою и собственным одушевлением оживить, поднять тон действующих лиц; так, одному говорил он: «Василий Петлович, ты, кажется, устал; велно, позавтлакал и хочешь уснуть. Ведь ты не слыхал, что тебе сказал Федор Антоныч. Ведь он тебя обидел, а ты не сердишься…» Тут Шаховской начинал повторять прерванную речь из роли Василья Петровича, немилосердно коверкая и совершенно перевирая слова собственной своей пиесы. – Трудно было удержаться от смеха. – Молодая актриса, игравшая роль любовницы, говорила с спокойным видом, как показалось кн. Шаховскому, о своем весьма затруднительном положении. Шаховской вспыхнул: «Дусенька, – закричал он, – ну как же тебе не стыдно, как же тебе не глешно, ведь тебе совсем не жаль человека, который тебя так любит, ты, велно, забыла о нем, ведь ты подумала, что сказываешь урок своей мадаме,[22]Note22
Актриса была из театральной школы.
[Закрыть] а ты вообрази, что это N. N.», – и он назвал по имени человека, к которому, как думали, была неравнодушна молодая актриса… Тут уже никто не мог удержаться от смеха. Вялое пенье хора, тогда как он должен был выражать живое и горячее волнение, окончательно взбесило Шаховского. Он бросился в толпу хористов, передразнивая то того, то другого, называя их блинниками, сапожниками и показывая собственным примером, как надобно петь и выражать живое сочувствие к тому, что поешь. Это было уже до того смешно, что мы с Писаревым уходили хохотать за кулисы. Наконец, видя безуспешность своих стараний, Шаховской присмирел, впал в немое отчаяние и уже не говорил ни одного слова. Репетиция тянулась по-прежнему вяло. Игрою Катерины Ивановны Ежовой кн. Шаховской также был недоволен и тихо бормотал, что не узнает ее. Вдруг пришла сцена, в которой Ежова должна была петь какую-то длинную арию. Актриса несколько раз ошибалась. Шаховской, сидя в креслах, только кланялся ей при всякой ошибке; он молчал, но лицо его выражало такую комическую скорбь, что поистине было и жалко и смешно смотреть на него. Хотя г-жа Ежова коротко знала автора по петербургской сцене, привыкла к его безумным вспышкам и, будучи неуступчивого нрава, никогда ему не покорялась, а, напротив, заставляла его плясать по своей дудке, но в Петербурге она была дома, как будто в своей семье, – здесь же совсем другое дело; она сама приехала в гости в Москву, и сцена Большого Петровского театра, полная разного народа, казалась ей чужой гостиной. Ежова, видимо, сконфузилась наружным спокойствием Шаховского, зная, что это тишина перед бурей, забыла роль и, когда опять пришлось ей петь, запела стихи из другой оперы… Кн. Шаховской незаметно сполз с своих кресел, стал на колени и повалился ей в ноги. Репетиция остановилась. Шаховской долго не переменял своего положения, бормоча самым жалостливым, пискливым голосом: «Господи, за что ты меня наказуешь! Помилуй меня, грешного! Покорнейше благодарю, матушка, Катерина Ивановна…» и вдруг, вскочив с бешенством разъяренного тигра, завопил диким, нечеловеческим, каким-то калибановским голосом: «Так это свои-то? свои-то… Сначаля! До завтра, сначаля!..» Это, наконец, становилось уже не смешно. На сцене было холодно, все были в шубах, в шляпах или шапках; Шаховской в одном фраке и с открытой головой; лицо его горело, слезы и пот катились по щекам, и пар стоял над его лысиной. Тогда мы все бросились к нему, стараясь его успокоить – и как легко это было! В одну минуту прошло его бешенство, он просил прощенья у всех и сам первый смеялся над своими выходками. Никто не сердился, охотно простили авторскую горячность, возобновили репетицию сначала, и она сошла гораздо лучше. Одна Катерина Ивановна не простила и целый день при нас язвила своим неумолимым языком смирного уже, как овечка, жалкого кн. Шаховского. – Таков был этот человек, на которого так много наклеветали добрые люди и который, конечно, более всех наклепал на себя сам. Я слыхал на него обвинения в том, что всегда было противно его чувствам и убеждениям. Я слышал, например, что Шаховского называли неверующим, а он был не только верующий, но очень богомольный человек, даже немножко ханжа, что не мешало, впрочем, проявляться иногда его невинному детскому кощунству, – остаток недавней эпохи, уже исчезавший. Я сам сначала, заметив его некоторые выходки, не хотел верить, что он так богомолен. Один раз Писарев спросил меня: знаю ли я, отчего у Шаховского на лбу коричневое пятно? Я отвечал, что не знаю, и Писарев рассказал мне, что кн. Шаховской каждый день, особенно по ночам, по нескольку часов молится богу, а как ему по толщине почти невозможно кланяться в землю, то он обыкновенно стоит на коленях и даже иногда лежит врастяжку и, крестя свой лоб, стукается им об пол. Я посмеялся и сказал, что это выдумка; но в непродолжительном времени вот что я увидел своими глазами: Шаховской любил в коротком приятельском обществе играть в карты; мы с Писаревым – тоже. У нас образовалась карточная приятельская игра. К нам пристали Загоскин, Кокошкин и другие. Обыкновенно мы играли в «мушку»; главным интересом игры была горячность Шаховского и Загоскина; нередко они до того ссорились, что, казалось, и помириться нельзя; но чрез несколько минут они были друзья по-прежнему. Один раз заигрались мы часов до двух утра. Простившись поспешно с хозяином, мы разъехались в разные стороны; со мной был Писарев; недалеко отъехав, я вспомнил, что забыл у Шаховского в кабинете нужную мне книгу; я воротился; по обыкновению, никого не нашел в лакейской, а также и в зале; заглянул к хозяину в кабинет и увидел, что он буквально лежит врастяжку, шепчет молитву и стукается лбом об пол. Я не захотел его встревожить, без книги воротился к Писареву и сказал ему, что он совершенно прав насчет коричневого пятна.
Мне пришел теперь на память очень смешной случай, почти современный сейчас мною рассказанному, который мог бы соблазнить всякого доброго человека, не коротко знавшего кн. Шаховского, насчет его православия. Я уже говорил, что Мочалов то восхищал, то огорчал нас своей игрой. Один раз, когда давали комедию «Пустодомы», кн. Шаховской как-то опоздал и приехал в директорскую ложу Кокошкина к концу первого акта. Мы поспешили ему сказать, что сегодня Мочалов бесподобен, и Шаховской сел так, чтобы его не было видно. Зрителей было мало; Мочалов играл, как говорится, спустя рукава, и был неподражаемо хорош. Какая натура, какая правда, простота, тонкость в малейших изгибах, в малейших оттенках человеческой речи, человеческих ощущений! Мы были просто поражены совершенством его игры. Чтоб не смущать Мочалова, Шаховской не показывался, а мы решились даже не ходить на сцену во время антрактов, как это обыкновенно бывало. В продолжение всей комедии кн. Шаховской то бесновался от восторга, то умилялся до слез. По окончании пиесы мы поспешили в уборную, где переодевался Мочалов, и восхищенный автор едва не бросился перед ним на колени. Шаховской обнимал, целовал в голову удивленного, недовольного собою Мочалова и дрожащим от радости голосом говорил: «Тальма? – какой Тальма! Тальма в слуги тебе не годится: ты был сегодня бог!» – Через несколько дней после этого спектакля, когда Шаховской находился еще в упоении от игры Мочалова в роли князя Радугина, приехал в Москву из Петербурга какой-то значительный господин, знаток и любитель театра, давнишний приятель князя Шаховского. При первом разговоре о театре петербургский гость выразился как-то с неуважением о таланте Мочалова. Шаховской вспыхнул, превознес московского актера похвалами и, чтоб совершенно убедить своего старинного приятеля, упросил Кокошкина повторить комедию «Пустодомы». Зная хорошо Мочалова, мы скрыли от него причину скорого повторения комедии и, чтобы лучше обмануть и не смущать его, Шаховской даже не поехал на репетицию. В день представленья мы все собрались у Кокошкина в ложе; петербургского гостя усадили на почетном месте; Шаховской был весел, но вдруг смутился, когда кто-то прочел вслух афишу: вместо Ширяева, который очень хорошо играл роль Радимова, дебютировал в ней переходивший из Петербурга на московскую сцену актер Максин-старший. Шаховской очень поморщился, потому что не жаловал этого актера, и пробормотал себе под нос: «Боюсь, боюсь я его плоповеди». Но Кокошкин поспешил его успокоить, уверяя честным словом, что Максин будет лучше, что он сам им занимался. Но, увы, беда произошла не от Максина: Мочалов как-то узнал, что его будет смотреть значительная особа из Петербурга, узнал, что Шаховской хочет похвастаться его игрою, и – постарался … Он был невыносимо дурен. Шаховской бесился, приписывая эту перемену новому актеру, который, правду сказать, был очень нелеп в своей роли. Каждое его слово и движение осыпал Шаховской бранью и проклятием. Наконец, совершенно вышел из себя и, когда Максин подошел поближе к директорской ложе, Шаховской, будучи уже не в состоянии говорить, начал высовываться из ложи и дразнить языком бедного актера. Кокошкин, схватив его за руки, усадил в кресла, в глубине ложи, и умиленным голосом произнес: «Помилуй, князь! Что ты делаешь? За что ты его обижаешь и конфузишь? Ведь он прекраснейший человек!» – «Федоль Федолычь, – бормотал, дрожа от бешенства, не помнивший себя Шаховской, – я лад, что он плекласнейший, доблодетельнейший человек, пусть он будет святой, – я лад его в святцы записать, молиться ему стану, свечку поставлю, молебен отслужу, да на сцену-то его, лазбойника, не пускайте!..» Ну, что должен был подумать о религиозности князя Шаховского человек, не совершенно близко его знающий? Конечно, чрез минуту Шаховской уже крестился и вопил: «Господи! плости мое соглешение!» И мы уже знали, что он мысленно клал на себя эпитимью из нескольких десятков лишних поклонов!








