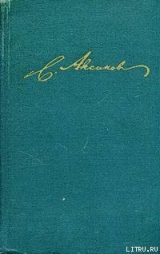
Текст книги "Воспоминания (Очерки)"
Автор книги: Сергей Аксаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Сбросив с плеч спор о мистических книгах, к которому я решительно приготовлялся, как будто к ученому диспуту, я стал свободнее располагать своим временем, чаще бывал и дольше сидел у Балясникова, где каждый раз находил Алехина, а иногда встречал и других наших казанцев. Все мы были большие любители театра, и у нас сейчас начались чтения разных драматических пиес и даже разыгрыванье их, разумеется без костюмов и декораций. Таким образом, в числе других разыграли мы трагедию Княжнина: «Вадим Новгородский». Она пользовалась большою славою не только потому, что была запрещена, но и потому, что заключала в себе, по общему мнению, много смелых, глубоких мыслей, резких истин и сильных стихов, – так думало тогда старшее поколение литераторов и любителей литературы. Надобно признаться, что и мы, молодые люди, были увлечены таким мнением, а в самом же деле вся эта трагедия – пустой набор громких фраз и натянутых чувств, часто не имеющих логического смысла.
Рана Балясникова находилась все в одном положении, нельзя было заметить, чтобы пуля спускалась книзу. Между тем деньги вышли; Алехин доложил о том Аракчееву, и вновь были выданы триста рублей. Балясников жил так привольно, как никогда не живал. Прежде, живя одним жалованьем, он должен был во многом себе отказывать; теперь же, напротив, у него была спокойная, прекрасно меблированная квартира, отличный стол, потому что хозяйка и слышать не хотела, чтобы он посылал за кушаньем в трактир; он мог обедать или с нею, или в своих комнатах, пригласив к себе даже несколько человек гостей; он ездил в театр, до которого был страстный охотник, уже не в партер, часа за два до представления, в давку и тесноту, а в кресло; покупал разные книги, в особенности относящиеся к военным наукам, имел общество любимых и любящих его товарищей, – казалось, чего бы ему недоставало?.. Ему недоставало дела, ночных переходов, бивачных огней, холода и голода, порохового дыма, свиста пуль и грома пушек; ему недоставало опасностей боевой жизни. Туда рвалась его душа. Не имея возможности убедить докторов вынуть пулю из его ноги и не имея терпенья дожидаться времени, когда она выйдет из костей, Балясников через два месяца воротился в армию. С тех пор я уже более не видал Балясникова. Он умер, как известно моим читателям, в двенадцатом году. Конечно, не все предсказания сбываются; но кого ни встречал я из знавших коротко Балясникова, и статские и военные, все единогласно говорили, что будь Балясников жив, он был бы фельдмаршалом. – В нескольких словах я доскажу его историю. Когда кончилась Шведская кампания, Балясников перешел из гвардии в армию, командиром конно-артиллерийской роты. В два года с половиной он довел ее до такого совершенства, что многие военные люди, охотники и мастера своего дела, приезжали полюбоваться ею. Перед началом турецкой войны Балясникову дали другую артиллерийскую батарею и перевели его, по собственному его желанию, в действующую армию. Тяжело было ему расставаться с ротой, и еще тяжеле было расставаться с ним его подчиненным. Не говорю уже о товарищах его, которые все смотрели на Балясникова как на будущего, славного полководца и горячо его любили, – каждый рядовой артиллерист так был предан, так любил его, что прощанье ротного командира с ротою походило на расставанье самых близких и горячо любящих друг друга родных. Только что успел Балясников сдать роту, приехал какой-то генерал для произведения инспекторского смотра, который и был назначен на другой же день; когда роту вывели на плац, Балясников приехал уже как посторонний зритель. Будучи приятельски знаком с новым командиром, он вместе с ним внимательно осмотрел людей, лошадей, орудия и всю амуницию. Он сделал какое-то замечание старому фейерверкеру, который почти со слезами сказал ему: «Эх, ваше высокоблагородие! Покажите сами роту генералу. Прокомандуйте нами еще в последний раз!» Балясников с минуту подумал и отвечал: «Хорошо, старый товарищ». Он переговорил с новым командиром, который охотно на это согласился, и, когда приехал инспектирующий генерал, Балясников подъехал к нему вместе с новым командиром роты и сказал ему: «Генерал! Я командовал этой ротой два с половиною года и вчера только сдал ее другому командиру. Я прошу позволения у вашего превосходительства, с согласия нового начальника, командовать бывшею моею ротою на инспекторском смотру. Рота привыкла ко мне, и не только люди, лошади знают мой голос!» Генерал отвечал, что он согласен, если новый командир роты этим не оскорбляется. Новый командир подтвердил, что он желает этого, что не хочет пользоваться славою за чужие труды и что только при прежнем командире рота может быть показана во всем ее блеске. Генерал согласился, и Балясников вылетел перед роту на своем бешеном коне, которого он сам выездил и на которого, кроме него, никто сесть не смел, скомандовал своим громозвучным голосом: «Смирно!» – и вся рота, люди и лошади вздрогнули и окаменели. Мне рассказывал достоверный самовидец, опытный артиллерист, что он во всю свою жизнь не видывал, да и не увидит, того, что делали на этом смотру люди и лошади. В таком же духе, в самых похвальных выражениях, был отдан приказ инспектирующим генералом. Когда Балясников, кончив военное построение, подъехал к роте и сказал: «Спасибо, ребята! Утешили вы меня, прощайте…» – то в ответ ему раздался не крик: «Рады стараться», – а всхлипыванье и рыданье. Балясников сам не мог удержаться от слез и ускакал как сумасшедший. – Боже мой! Чего нельзя сделать с таким народом, который способен так любить и быть благодарным!
Балясников и в Турецкой армии заслужил себе такое же уважение в начальниках, дружбу в товарищах и любовь в подчиненных. Он отличался везде, где только был к тому случай. Война кончилась. Славный мир был торжеством воинского искусства князя Кутузова, будущего Смоленского. Известно, что наша Турецкая армия, под начальством Чичагова, встретила бегущего Наполеона с остатками его армии на берегах реки Березины. Балясников был убежден, что можно было не допустить переправы неприятеля, он приходил в отчаянье от распоряжений главнокомандующего, которые давали возможность спастись Наполеону. Когда же опасения его оправдались и Наполеон, переправясь через реку, ушел, Балясников, в исступлении от гнева, по колени в грязи и в воде, целый день и даже вечер громил из своих орудий остатки великой армии. Он простудился и через несколько дней умер от горячки. Так рановременно погиб этот замечательный человек, память которого живет во всех переживших его товарищах.
Анна Ивановна была права: Лабзин мне не отдал визита, и я более к нему не поехал. По моим соображениям и по некоторым словам Анны Ивановны я догадывался, что старик Рубановский так много наговорил обо мне Лабзину дурного в смысле моей безнадежности для их братства, что великий брат и начальник охладел в своем желании сделать меня своим прозелитом. Тем не менее, однако, я получил от него приглашение, через Мартынова и Черевина, участвовать в спектакле, который они намеревались составить. Я, по моей смертной охоте играть на театре, согласился. Но как скоро узнала об этом Анна Ивановна, то поспешила напомнить мне мое обещание – исполнить ее просьбу: она просила меня отказаться от участия в спектакле у Лабзина. Меня очень удивило ее желание. Дав слово, я должен был его держать; да правду сказать, это и не было для меня большим пожертвованием. Деспотизм всегда был для меня ненавистен, а попав в притворные актеры, я неминуемо был бы его свидетелем, если не над собой, то над другими. Отказ мой произвел, однакож, большой эффект, и Рубановский с Черевиным и Мартыновым изломали головы, отыскивая причину моего, как они называли, каприза. Они так и остались в неведении; но мое недоуменье, для чего Анна Ивановна потребовала от меня этой жертвы, как она сама говорила, скоро разрешилось: в пиесе, которую хотели играть, Черевин занимал роль любовника Катерины Петровны; Анна Ивановна боялась, чтобы театральная любовь не превратилась в настоящую, и, предполагая, что мой отказ от главной роли помешает представлению пиесы, заставила меня отказаться. Но увы, так хитро придуманное ею средство не имело успеха – мою роль отдали другому, и пиеса была сыграна, но я уже не был приглашен в спектакль притворных актеров. Надобно сказать, что все подозрения и опасения Анны Ивановны были неосновательны: Черевин и не думал об Катерине Петровне, да, может быть, и Лабзин не думал женить его на своей воспитаннице. Впоследствии Черевин, поехав в Москву для свидания с родными, увидел там девушку, которая ему понравилась, и женился на ней.
Я продолжал постоянно посещать семейство Рубановских и каждое воскресенье обедал у них. Старик, потеряв надежду обратить меня на истинный путь, стал смотреть на меня снисходительнее, как на доброго молодого человека, сына старых друзей его, увлеченного вихрем мирской суеты. Моя горячая любовь к литературе, к театру, к изящным искусствам, как выражались тогда, была в его глазах такою же мирскою суетою, как балы, щегольство, карты и даже разгульная жизнь. Во время случившейся со мной довольно сильной болезни Рубановский несколько времени навещал меня ежедневно и с этих пор как-то стал со мною гораздо ласковее. Если в разговорах, как-нибудь нечаянно, речь доходила до мартинистских книг или до масонских лож и я высказывал мое нерасположение к ним, старик Рубановский обыкновенно прекращал разговор такими словами: «Ну, да это не ваше дело, тут вы ничего не понимаете: это не при вас писано». Признаюсь, что это было мне всегда досадно слушать, и эта досада была причиною моего легкомысленного и дерзкого поступка, к чему в свойствах моего нрава не было никакого расположения. В Комиссии составления законов, где я служил переводчиком, был один чиновник, русский немец, по фамилии Вольф. Это был человек тихий и работящий, но постоянно задумчивый и больной. Директор Комиссии Розенкампф ему покровительствовал, и он имел маленькую квартирку в доме Комиссии. Вдруг узнаем мы, что Вольфа нашли мертвым в его квартире. Такая страшная новость, разумеется, всех заняла и встревожила. Из записки, найденной на столе умершего Вольфа, было очевидно, что он помешался и уморил себя голодом. Он исполнил это довольно затейливо: он не ел несколько дней сряду и, чувствуя, что начинает слабеть, рассчитал и отпустил своего наемного слугу, сказал своим соседям, что на три дня уезжает, запер снаружи свою комнату и, точно, ушел перед вечером; но в ту же ночь воротился и заперся изнутри. Сторож, ничего этого не знавший, сказывал после, что на другой день мнимого отъезда Вольфа видел в окошко, как он беспрестанно ходил по своей комнате, около стен, и в каждом углу кланялся, как будто молился. Когда по прошествии нескольких дней хватились Вольфа и разломали дверь его квартиры, то нашли труп несчастного самоубийцы, лежащий посреди комнаты. Замечательно, что во всех четырех углах, на столах и стульях нашли по нескольку нетронутых белых хлебов. Очевидно, что жалкий страдалец подвергал себя ужасному испытанию голода и выдержал его. Он был безродный сирота; все его имущество, книги и бумаги были опечатаны, но говорили, что Розенкампф, прежде опечатанья, взял себе его письменные сочинения. В первое же воскресенье после этого печального происшествия, обедая у Рубановских, я рассказывал как ужасную новость все, что знал о смерти Вольфа. Мне в голову не приходило, чтоб он был мартинист или знаком с мартинистами; но старик Рубановский, выслушав мой рассказ, с горестным увлечением сказал: «Боже мой! Можно ли было этого ожидать! Иван Федорович Вольф был хотя лютеранин, но шел по истинному пути: он был человек добродетельный, кроткий и тихий; где мог он почерпнуть силы для совершения такого страшного, мученического подвига? Без сомнения, эти силы были дарованы ему свыше». Я с удивлением слушал дикие суждения моего хозяина. Старик с живостью обратился ко мне и убедительно стал меня просить, чтоб я достал у Розенкампфа посмертные сочинения Вольфа, говоря, что это дело очень важное. Я отвечал, что это очень трудно сделать, что я не так близок к директору, чтоб мог заговорить с ним о таком щекотливом предмете и тем менее мог просить себе бумаг покойного Вольфа, взятых Розенкампфом тайно и незаконным образом. Я прибавил, что даже сомневаюсь, правда ли это? Но старик Рубановский так убедительно стал просить меня, что я не мог отказаться и обещал употребить все старания достать бумаги. Правду сказать, я дал это обещание только для того, чтоб отвязаться от докучливых просьб Рубановского, в полной уверенности в невозможности их исполнить.
На другой день, однако, я спросил одного из наших чиновников, бывшего моим товарищем в Казанской гимназии, А. С. Скуридина, которого Розенкампф очень любил: «Правда ли, что у нашего директора есть какие-то сочинения умершего Вольфа?» Скуридин сначала запирался, говорил, что ничего не знает, а потом под великим секретом открылся мне, что это правда, что он видел эти бумаги, писанные по-русски и самым неразборчивым почерком, что сам Розенкампф ни прочесть, ни понять их не может, что Скуридин кое-что переводил ему на немецкий язык, что это совершенная галиматья, но что Розенкампф очень дорожит бреднями сумасшедшего Вольфа и ни за что на свете никому не дает их. В следующее воскресенье я передал Рубановскому все, что знал о бумагах Вольфа, и всю безуспешность моих стараний, не называя, однако, по фамилии Скуридина. Против моего ожидания, мой рассказ не охолодил, а еще более воспламенил старого мартиниста. Он до того пристал ко мне, что не было другого средства отвязаться от него, как вновь обещать похлопотать о сочинениях Вольфа. Несколько воскресений сряду Рубановский, час от часу с большею неотвязчивостью, приставал ко мне с одними и теми же просьбами. Это ужасно надоело мне. Ломая голову, как бы мне отбиться от докук старика, я напал на мысль: сочинить какой-нибудь вздор, разумеется в темных, мистических выражениях, и выдать этот вздор за сочинение Вольфа. К этому присоединилось желание испытать, как Рубановский будет находить смысл и объяснять то, в чем нет никакого смысла. Мне захотелось самому вполне, так сказать наглядно, убедиться в совершенном произволе и ложности его толкований, к которым прибегал он во время наших споров, при нашем общем чтении мистических книг, – и я решился на поступок, совершенно мне не свойственный. Смутно понимая, что это все-таки поступок нехороший, я никому не открылся в своем намерении. Я написал девять отрывков. Все они состояли из пустого набора слов и великолепных фраз без всякого смысла; но в то же время я постарался придать написанному мною некоторую внешнюю связь и мистическое значение. Приемы же я заимствовал из сочинений Экартсгаузена, Штиллинга и самого Лабзина. Сначала я сказал Рубановскому, что есть надежда списать кое-что, и, наконец, принес так давно желанные им отрывки из мнимых сочинений Вольфа. Я приехал часа за два до обеда, мы заперлись с стариком в его кабинете, и я, не без внутреннего волнения и упреков совести, прочел ему листов шесть написанного мною вздора. Во время чтения я несколько раз останавливался, говоря: «Какая дичь, какая бессмыслица, какая галиматья!» Но старик с сожалением улыбался, повторяя любимые свои выражения, что «это не при вас и не для вас писано». – Я попросил его растолковать мне – и он толковал целый час. Мне стало так совестно, что я едва не признался ему в обмане. Наконец, кончилась эта тяжелая для меня пытка: нас позвали обедать. Я предложил Рубановскому, чтоб он оставил мой список с мнимых бумаг Вольфа у себя, говоря, что он мне не нужен. Но старик на это не согласился и попросил только позволения снять собственноручно копию. За обедом хозяин был очень весел, а я, напротив, смущен, как будто сделал дурное дело. Анна Ивановна очень это заметила, и после обеда я выдержал строгий допрос: она хотела знать, что происходило в кабинете между мной и ее супругом. Я отвечал, что мы читали одно мистическое сочинение, которое Василий Васильевич старался мне растолковать, а я, к досаде моей, ничего не понял. Мне показалось, что хозяйка как-то недоверчиво и лукаво на меня посмотрела, и я подумал, что уж не знает ли она как-нибудь настоящей сущности дела, хотя муж ничего ей не хотел говорить и мне запретил.
Через неделю Рубановский возвратил мне мою рукопись, которую я при первой возможности бросил в пылающий камин. Он сказал, что она была читана людьми, понимающими это дело, которые ее достойно оценили. Я покраснел до ушей: я хорошо знал, кто это – эти достойные люди; мне стало совестно дурачить целое общество, члены которого, при всем своем одностороннем ослеплении «ли увлечении, были люди умные, образованные и почтенные. Я не мог по-прежнему спокойно смотреть в глаза Черевину и Мартынову, которые в тот день обедали вместе со мною; мне казалось, что они все знают и что некоторые их слова были намеком на мой бессовестный поступок; я был так смущен, так странен, что они необходимо должны были спросить меня, что со мною сделалось, здоров ли я? А такие естественные вопросы казались мне неопровержимым доказательством, что старик Рубановский сказал, от кого получил список с мнимого сочинения Вольфа, и что они отгадали, кто настоящий сочинитель: одним словом, я был мученик, – я был достойно наказан за мою дерзость. В самом же деле все мои опасения и все мои подозрения были совершенно несправедливы: старик Рубановский хранил строжайшую тайну, и никто ни в чем не подозревал меня. Насилу дождался я времени, когда можно было, не нарушая принятого порядка, уйти от Рубановских. На улице я вздохнул свободнее, но долго не мог совершенно успокоиться. Я дал себе честное слово никогда ничего подобного не делать и, конечно, сдержал его.
В следующее воскресенье я по какой-то законной причине не поехал обедать к Рубановским. Я заехал к ним в субботу поутру, чтобы сказать заранее, что завтра не буду. Я знал, что старика нет дома и что он до самого обеда сидит в своей конторе. Мне хотелось удостовериться, не слыхала ли чего-нибудь Анна Ивановна? Не знает ли она, что происходило в тот вечер у Лабзина, когда читали мою несчастную пародию? Я и прежде с удивлением замечал, что Анна Ивановна знала все, что делалось в доме у Лабзина и у Черевина. Какие она имела для этого средства, я не знаю, только и в этот раз она знала все, кроме имен сочинителя и того человека, который доставил Василию Васильевичу это драгоценное сочинение. Анна Ивановна знала, что Василий Васильевич сам читал его вслух, в присутствии многих членов, и что все очень его хвалили и даже положено было напечатать его в «Сионском вестнике», если он опять будет позволен. Анна Ивановна знала даже и то, что между Лабзиным и Н. Н. Новосильцевым шла секретная переписка об этом журнале и что эту переписку читает государь. Довольный полученными мною сведениями, я поспешил уйти, покуда не воротился Василий Васильевич. Мне надобно было еще несколько времени не встречаться с ним, чтобы взглянуть на него с меньшим смущением.
Пришло опять воскресенье. Я нашел у Рубановских Черевина и обоих Мартыновых. Мартынов военный, то есть Павел Петрович, никогда еще при мне не обедал у Рубановских, и я очень удивился и обрадовался ему, потому что в его присутствии легче было не допускать разговора до предметов отвлеченных. Все обстояло благополучно. Я убедился, что никто не смотрел на меня особенным образом, что никто не думал о посмертном сочинении Вольфа и что никто не подозревал моего участия в этом деле. Я совершенно успокоился и был необыкновенно весел. Анна Ивановна заметила это и сказала мне, что она всегда бы желала видеть меня в таком расположении духа. Вовсе неожиданно для всех, по крайней мере так говорила «братья», приехал после обеда Лабзин. Он был так же умен, любезен и разговорчив, как и в первый раз, когда я познакомился с ним у Рубановских, но со мной он обошелся, как с человеком вовсе ему незнакомым. Все обратили на это внимание и с любопытством смотрели на меня. Вероятно, все думали, что такая перемена неприятно озадачит и смутит меня; но я внутренно так был ею доволен, что сделался еще веселее и болтливее. Когда гости разъехались, Анна Ивановна дала мне секретную аудиенцию и, глядя на меня с улыбкою, сказала: «Каков актер наш игумен? – так называла она иногда Лабзина. – Ухаживал, ухаживал за вами, да вдруг и перевернулся, как будто знать не знает вас, как будто никогда не видывал! Ну, да и вы хороши! Умели скрыть свою досаду и даже виду не показали». Я постарался уверить Анну Ивановну, что я не досадовал, а радовался такой перемене. Анна Ивановна была очень довольна, что не допустила меня попасть в западню и сделаться лакеем Лабзина, какими, по ее мнению, были ее муж, Черевин, Мартынов и множество других. Я благодарил ее, оставляя в приятном заблуждении, что ей одной обязан своим спасением.
Успокоенный в моих опасениях, уверенный, что моя насмешка над мартинистами не может открыться, я решился доверить мою тайну одному из моих друзей, человеку уже пожилому и необыкновенно скромному. Тайна тяготила меня, и, по природной моей откровенности, мне необходимо было кому-нибудь ее доверить. И. И. Р-га называли могилою секретов, и ему-то я открылся во всем. Я думал, он посмеется; но, к удивлению моему, он пришел в ужас. «Не сказывал ли ты кому-нибудь об этом?» – спросил он меня. Я отвечал, что никому не сказывал. «Ну, так и не сказывай. Сохрани тебя бог, если ты проболтаешься! Я сам в молодости моей был масоном. Мартинисты – те же масоны. Если они узнают твой обман – ты пропал. Даже мы с тобой никогда уже говорить об этом не будем». Признаюсь, я был порядочно испуган и, точно, долго об этом никому не рассказывал, кроме задушевного друга моего, А. И. Казначеева; мы оба молчали до тех пор, пока время сделало открытие моей тайны уже безопасным.
Скоро я уехал в Оренбургскую губернию, и, воротясь через год, нашел почти всех уже в другом положении.
1858 год, Декабрь, Москва








