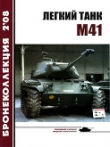Текст книги "Товарищ сержант"
Автор книги: Сергей Мацапура
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Когда уже возвращались к лесу, откуда-то справа ударил тяжелый немецкий пулемет. Из ложбины ему ответили наши пулеметчики. Поднялась стрельба и в деревне. Пришлось нам поспешить в лес, к лошадям, и убраться отсюда, как говорят, не солоно хлебавши.
Однако этой поездкой наши приключения не кончились. Через несколько дней вызвал меня комбат опять. В его землянке сидел старший сержант из дивизионной разведки. Комбат попросил его:
– Расскажи еще сержанту Мацапуре.
Разведчик рассказал, что километрах в шести отсюда в тылу немцев, в деревне, стоят их резервы – до роты пехоты и минометная батарея. Лошадей фашисты держат в большом сарае. Лошади, видимо, колхозные, но есть и немецкие битюги. Сарай находится у самой деревенской околицы, и подходы к нему хорошие – лес рядом.
Нужда в лошадях в нашем артдивизионе была большая. Комбат сказал, что разрешение командования он получил, дело за нами. Снарядились мы в дорогу, решили идти на лыжах. Пошли вчетвером, в том числе и дивизионный разведчик. Он показывал дорогу. К утру были на месте, в расположении противника. Весь день наблюдали из леса за сараем и избой, что поблизости. Фашисты бегают по морозцу, задают лошадям корм, поят их, громко переговариваются. По нашим подсчетам, в избе человек десять гитлеровцев. Местных жителей нет. Может, выгнали их, может, и расстреляли. На следы фашистских зверств мы уже нагляделись, когда проходили освобожденные деревни и села.
К вечеру на крыльце избы появился часовой. Службу он нес так: постоит на крыльце, полоснет из автомата пару коротких очередей в сторону леса и уходит в сени, оставляя дверь открытой. Но и там мороз его пробирает, слышно, как топчется и сапогами стучит. Минут через сорок его сменил второй часовой, закутанный в шерстяной платок. После третьей смены, когда часовой, постреляв, ушел в сени, мы перебежали к избе. Все было договорено заранее: Кобылин – к сараю, к лошадям; старший сержант-разведчик залег в готовности прикрыть нас огнем, мы с Ивановым снимаем часового. Избы в этих местах строят с высоким крыльцом – взрослый человек уместится под ним, если немного пригнется. Забрались мы с Гришей под крыльцо, думаем, как часового с крыльца сманить. Случай помог. Слышим, хлопнула дверь, ведущая из сеней в горницу. И топать фашист перестал. То ли погреться ушел, то ли сменщика разбудить. Вскочили мы в темные сени, приготовились. Дверь долго не открывалась, потом вышел гитлеровец. Сняли его без шума. Иванов остался в сенях, подпер дверь какой-то колодой, я пошел к Кобылину. Он уже сделал лошадям общую связку, ждет у сарая. Вывели лошадей, гляжу, Кобылин тянет в поводу громадного, с куцым, хвостом немецкого битюга. Говорю:
Зачем этот слон? Он за троих ест.
А Кобылин серьезно так отвечает:
– Сами его съедим.
Мы отвели лошадей в лес, подожгли избу и конюшню, тронулись в обратный путь. Шли бездорожьем, чащобой. И хорошо, что так сделали. Когда изба запылала и в деревне начался переполох, фашисты первым делом открыли сильный минометный огонь по дороге, которая вела к передовой. К утру мы были уже дома. Сдали 16 лошадей, позавтракали и заснули как убитые.
Несколько дней спустя, вечером 8 марта, во врем вражеского артналета меня легко ранило и сильно контузило. Запомнил я эту дату потому, что был Международный женский день и с утра к нам приехала Федорова, наш дивизионный военфельдшер. Привезла мужу, комбату, подарок – мешочек сухарей, немного колбасы, две пачки махорки. Скудное было время, и комбат разделил подарок жены на всю батарею.
А нам этой замечательной женщине и подарить было нечего. Ведь и подснежники в лесу еще не появились. Когда меня ранило, она той же ночью отправила меня в госпиталь.
После месячного пребывания в госпитале направили меня в запасной стрелковый полк Калининского фронта. Закончил курсы командиров пулеметных расчетов, овладел второй военной специальностью. Все лето сорок второго года пулеметная рота, в которой я служил, была в боях. Нас часто перебрасывали с места на место, и эти бои в памяти запечатлелись не очень четко. Помню только некоторые населенные пункты – Ветошку, Сиреневку – да бесчисленные переходы. Катить «максим» за собой на марше не положено, поэтому и тело пулемета, и щит, и станок, и коробки с боеприпасами, и шанцевый инструмент – все несли на плечах. Хорошо, если по твердой дороге. Но дорог тут мало, а топких болот и заболоченных лесов в избытке. Ребята шутили, что бог создал землю, а черт, ему в пику, – эти места. На всю пулеметную роту была у нас одна лошадка, но она возила котел для варки пищи, продовольствие, запас коробок с пулеметными лентами.
В конце августа приехали на передовую командиры-танкисты. Стали отбирать людей, умевших водить машину. Я до службы в армии водил в колхозе трактор, поэтому взяли и меня. Отправили нас в Торопец. Здесь, в ближних колхозах, мы недели две косили сено, потом поехали дальше. Когда эшелон стоял в Калинине, я встретил первого своего комиссара.
Пошел к вокзалу с четырьмя котелками за горячей водой. Налил кипятку, иду обратно. Впереди меня командир, походка знакомая. Обогнал его. Да, это он, мой комиссар Максим Степанович Лемицкий. Только тогда, в сорок первом, под Великими Луками, у него в петличках было два кубика, теперь – шпала. Я быстро сунул в теплушку котелки, вернулся. Иду ему навстречу строевым шагом, останавливаюсь, хочу доложить, а язык словно присох. Лемицкий как крикнет:
– Мацапура, ты?
Мы обнялись, он повел меня к себе в вагон. Оказывается, ехали мы одним эшелоном. Максим Степанович – командир отдельного зенитного дивизиона – направляется в Москву со своими командирами и сержантами – формироваться и получать боевую технику.
До Москвы я, с разрешения старшего нашей команды, ехал с Лемицким. Обо всем переговорили, вспомнили всех друзей-товарищей. Он предложил мне идти к нему в дивизион, это можно было легко оформить. Думал я целые сутки. Очень хотелось опять воевать вместе с ним, однако давнишняя мечта стать танкистом оказалась сильнее этого желания. Когда приехали в Москву, набрался я духу, говорю:
– Простите, Максим Степанович, хочу фашистских гадов танком давить.
На прощание подарил ему свой мундштук, он мне – авторучку. Ту авторучку я хранил до сорок пятого года, до Альтдама, под которым был тяжело контужен. В бою у меня обгорел комбинезон, сгорел и подарок моего первого комиссара.
Начались уже октябрьские заморозки, когда наша команда прибыла в маленький городок Горьковской области. Я попал в 46-й учебный разведывательный бронеавтомобильный полк, в группу механиков-водителей. В полку готовили экипажи для новых разведывательных бронемашин БА-64. Занимались мы около шести месяцев. В начале апреля 1943 года наша группа сдала экзамены, прибыла в Горький. Думали, вот-вот получим бронемашины – и на фронт. Однако случилось иначе. Фашистская авиация, не считаясь с потерями, каждую ночь бомбила автозавод. Особенно сильно пострадал токарный цех. Естественно, что на какой-то срок завод сократил и выпуск бронемашин.
Остались мы вроде бы не у дел. Ждем неделю, другую, третью. Как-то вечером мой друг Саша Беляев из Ижевска говорит:
– Ликуй, Сергей, приехала комиссия. Будут отбирать желающих водить автомашины.
– Обыкновенные бортовые?
– Ну да. Да ты не смущайся, нам бы только на фронт. А там переберемся на бронемашину.
– А если не переберемся?
Стал он горячо убеждать меня, однако не убедил. Конечно, без шоферов, которые денно и нощно везут на передовую продовольствие, боеприпасы, горючее и прочее, тоже много не навоюешь. Я это понимал, но хотел только на боевую машину.
Утром нас построили во дворе казармы. Подошел незнакомый командир, спрашивает:
– Есть желающие на автомашины? Беляев шепчет:
– Пошли!
Да так сунул мне локтем в бок, что я едва из строя не выскочил. А сам он шагнул вперед. Вышло еще человек 10–15, не более. Командир их всех переписал, построил отдельно и опять спрашивает:
– Есть желающие в танковые войска?
Весь строй, а было нас сотен пять, дружно шагнул вперед. Гляжу, мой Саша бочком-бочком – и к нам. Однако командир зорок:
– Товарищ Беляев, встаньте в строй! А Саша этак жалобно:
– Я в строю, товарищ командир.
Но пришлось ему все-таки вернуться на место – к водителям автомашин. Когда мы расставались, он сказал:
– А ты хитрый! Ох и хитрый!
А чем же я хитрый?
Нас вывели в лагеря, где стоял 10-й учебный танковый полк, стали учить трудному искусству механика-водителя танка. Подружился я с Федором Головней. Он был с Днепропетровщины. Рослый, сильный парень, красноармеец кадровой службы. Воевал в танках еще на финской войне, потом в Великой Отечественной. В учебный полк попал из госпиталя. Танк знал как бог. Материальная часть машины, мотор и прочее давались и мне без особого труда. Но вот с электрооборудованием я просто «плавал». Головня раз десять залезал со мной в учебный танк Т-34, заставлял все пощупать своими руками, гонял по вопросам электрооборудования даже после отбоя.
Двигатель танка преподавал нам старший сержант Тараненко. Одновременно он был также инструктором вождения. Кисть правой руки ему сильно покалечило на фронте осколком снаряда, но, несмотря на это, машину он водил замечательно. Самые сложные вопросы умел излагать коротко и ясно. Тараненко говорил нам:
– Не всегда прямая дорога самая короткая. Это сказано про нас, механиков-водителей. Дадут тебе ориентир – не иди на него по прямой. Осмотрись. Есть впереди ложбинка, бугор, посадка деревьев, пусть даже дохлая, – используй все. Маневрируй. Прикрывай борта. Учись делать паузы в движении. Артиллеристы противника видели, как ты проскочил в укрытие, ждут, что тут же выскочишь. А ты погоди малость, дай им время поволноваться. Они ведь тоже живые люди, с нервами. Пусть перегорят и засуетятся, пусть пальнут в божий свет как в копеечку. В борьбе танка с противотанковой пушкой выигрывает тот, у кого крепче нервы.
Тараненко научил нас множеству тактических и технических уловок. Он, например, садился в танк, заводил двигатель тридцатьчетверки, говорил:
– Слушай внимательно: слышишь разницу в работе мотора?
– Слышу.
– Так вот: я копирую двигатель немецкого танка Т-III. Понял, как это делается? Запоминай. В бою пригодится. Особенно, если будут сумерки, ночь или просто туман.
Он настойчиво учил нас слушать «говор» танкового мотора, определять на слух ту или иную неисправность. Любимая поговорка старшего сержанта Тараненко была такая: «Глаза держи на дороге, уши – на моторе».
Простые его советы я крепко запомнил, взял себе в спутники, а потом передавал и молодым механикам-водителям. До конца войны я сменил четыре машины. Каждую из них не раз выводили из строя огонь вражеской артиллерии и противотанковые мины. Однако экипаж в подавляющем большинстве случаев оставался цел и невредим или отделывался легкими ранениями. Считаю, что наставления старшего сержанта Тараненко сыграли здесь не последнюю роль.
В декабре курс нашего обучения был завершен, наступила пора экзаменов. Первый из них – по вождению танка. Подошла моя очередь, я сел за рычаги. Рядом со мной – незнакомый офицер-танкист, экзаменатор. Перелистал он мою зачетную книжку, а там по вождению две четверки, остальные – пятерки. Командует:
– Заводи!
Запускаю мотор, офицер дает мне первый ориентир. Веду машину. По указаниям экзаменатора меняю направление движения, скорость. Преодолел несколько препятствий. Все как на учебном танкодроме, кроме одного: местность совершенно незнакомая. Идем, конечно, с закрытым передним люком, весь мой обзор ограничен триплексом, попросту говоря – смотровой щелью, смонтированной на крышке люка. А экзаменатор не щадит. Он ведь последняя инстанция, которая решает, готов ли я, механик-водитель, к фронтовым передрягам. Он командует и командует. Ориентироваться надо мгновенно. Трудно. Пот меня прошиб. А излишнее напряжение, скованность – тоже, как известно, плохой помощник в любой работе.
Короче говоря, не заметил я занесенной снегом траншеи, не смог с ходу преодолеть это простое препятствие. Танк сунулся носом в траншею, триплекс засыпало снегом. Ничего не вижу. Хорошо, что не растерялся, не позволил мотору заглохнуть, вывел машину. Других заметных ошибок на маршруте у меня как будто не было (с моей точки зрения, конечно). Однако и одной этой оказалось достаточно, чтобы экзаменатор поставил мне тройку по вождению.
Огорчен я был очень. Мои командиры и преподаватели тоже. Но старший сержант Тараненко сказал:
– Не горюй. Все твое останется с тобой. Водить танк ты научился. Теперь учись извлекать уроки из собственных ошибок. И запомни: фронт будет экзаменовать тебя в каждом бою и на каждом марше. И ты хорошо сдашь эти экзамены. Я уверен.
Год с лишним спустя, уже в Германии, перед Берлинской операцией, я получил письмо от Тараненко. Он узнал из газет о том, что мне присвоено звание Героя Советского Союза. Сердечно поздравил, а письмо закончил так: «Не задирай нос. Экзамен продолжается. Последнюю отметку получишь в Берлине».
Из нашей группы сформировали маршевую роту, отправили на танковый завод. Здесь, в цехах, мы проработали около месяца. Занимались сборкой танков под руководством опытных специалистов-инженеров, мастеров, рабочих. Этот месяц на танковом заводе помог нам досконально освоить тридцатьчетверку, узнать ее, как говорится, с азов. Мы работали своим экипажем: башнер (заряжающий) Иван Воробьев из Ленинграда, слесарь с Кировского завода, радист Степан Перенесенко с Украины и я. Оба моих новых товарища – бойцы кадровой службы, фронтовики. Командир машины не был еще назначен.
Вместе с нами трудился на сборке и выпускник танкового училища техник-лейтенант Павел Орешкин. Он тоже получил назначение в маршевую танковую роту, дневал и ночевал на заводе, осваивая все виды ремонтных работ на тридцатьчетверке. Дело в том, что в училище их готовили для другого типа машин и ему пришлось срочно переквалифицироваться. Совсем юный, но очень вдумчивый и энергичный человек, он много преуспел в своей профессии и скоро делом доказал это на фронте. С той поры, пройдя в одной танковой бригаде всю войну, мы и дружим с Павлом Яковлевичем Орешкиным – ныне полковником, профессором военной академии и доктором технических наук.
В декабре 1943 года маршевая рота получила на заводе новые танки. Мы отстрелялись на полигоне, погрузились в эшелон и выехали на запад, к фронту.
От Белой Церкви до Ясс
Эшелон с танками шел из города Горького на фронт очень быстро, днем и ночью. Но уже на Украине движение замедлилось, мы часто и подолгу стояли на полустанках и разъездах. Фашистская авиация ожесточенно бомбила железнодорожные узлы. Правда, эшелон наш ни разу не попал под бомбежку, но следы ее, причем недавние, мы видели на всем пути к Киеву. Железнодорожники Дарницы, например, приняли и отправили наш эшелон дальше в тот момент, когда станция еще горела и на ней шли восстановительные работы.
Во второй половине января 1944 года, миновав Киев, эшелон прибыл в Белую Церковь. На станции нас встретили представители командования 107-й танковой бригады. Она входила в состав 16-го танкового корпуса 2-й танковой армии, часть соединений которой дислоцировались в районе Белой Церкви, в резерве 1-го Украинского Фронта.
С места разгрузки маршевая рота своим ходом двинулась в расположение 107-й бригады. Здесь нас распределили по батальонам. Большая часть вновь прибывших экипажей пополнила роты 3-го батальона. Мы попали во 2-ю роту этого батальона вместе с экипажем, где механиком-водителем был мой друг Федор Головня.
Командир батальона капитан А.Н.Кульбякин обошел строй, осмотрел машины, задал несколько вопросов технику-лейтенанту Орешкину, который уже получил назначение помощником по технической части командира 2-й роты. Предварительное знакомство с комбатом заняло не более 10–15 минут. Он видел, что мы утомлены дорогой, поэтому просто сказал:
– Поговорим потом. А сейчас, – он обернулся к своему помощнику по хозяйственной части, – немедленно в баню. Помоются, накормите поплотнее – и отдыхать.
Хорошего командира старый солдат отличает с первого взгляда, с первых его слов. Хороший командир всегда знает день и час, когда нужно жестко невзирая на трудные обстоятельства с тебя спросить. Однако он же всегда и вовремя о тебе позаботится. Капитан Кульбякин был именно таким командиром, и дальнейшая боевая служба под его началом только утвердила наше первое о нем впечатление.
После бани, обеда и отдыха комбат подробно расспросил каждого новичка: где и в каких частях воевал, имел ли ранения и награды, где семья? Потом нас собрал начальник политотдела бригады подполковник Д.И.Цыган. Я его сразу узнал, он меня тоже. Говорит мне:
– Лихачество – не тот признак, по которому определяется мастер вождения танка. Понятно, товарищ старший сержант?
Отвечаю:
– Понятно!
А товарищи смотрят с недоумением: почему он выговаривает мне за лихачество?..
Еще утром, когда эшелон прибыл в Белую Церковь, встретившие нас на станции офицеры 107-й бригады предложили, чтобы выгрузку танков произвели их механики-водители. Дескать, новички могут и оплошать, повредить новую технику. Нам это показалось обидным, а техник-лейтенант Орешкин даже разгорячился. Он твердо заверил офицеров, что мы сведем танки с платформ как по ниточке. Так оно и вышло. Когда танки уже двигались в город, я увидел в открытый люк подполковника-танкиста. Он стоял на тротуаре, внимательно наблюдал за нами. Захотелось показать ему, что мы, новички, тоже не лыком шиты. На перекрестке я резко, слишком резко развернул машину. Правая гусеница вырвала камень из булыжной мостовой, и он снарядом ударил в забор, проломив его. Подполковник – это был Дмитрий Иосифович Цыган – внушительно погрозил мне пальцем. Об этом случае он сейчас и напомнил.
Беседуя с нами, начальник политотдела рассказал о боевом пути бригады, о Сталинградской битве и Курской дуге, о воинских традициях части и ее героях. Мы поняли: чтобы встать вровень с ветеранами 107-й танковой, нам придется здорово потрудиться. Учеба есть учеба, а война есть война.
Подполковник Цыган рассказал также о наших прямых и непосредственных начальниках. 107-й танковой бригадой командовал полковник Т.П.Абрамов, 16-м танковым корпусом – генерал И.В.Дубовой, 2-й танковой армией – генерал С.И.Богданов.
Командиром нашей машины был назначен лейтенант Семен Алексеевич Погорелов. Ему было около тридцати лет. Немногословный сам, не любил многословия и у других. Едва мы познакомились, он повел меня к танку. Осматривая машину, задавал короткие вопросы. От них меня в конце концов пот прошиб, я понял, что в технике лейтенант Погорелов разбирается отлично – специалисту-ремонтнику не уступит. Уже потом я узнал, что он до войны закончил автодорожный институт.
Боевое крещение в составе 107-й бригады мы приняли в первых числах февраля, когда войска 1-го и 2-го Украинских фронтов окружили корсунь-шевченковскую группировку гитлеровцев. Ночью нас подняли по тревоге, двинули из Белой Церкви на юг, к месту сражения. Этот марш стал серьезным испытанием для молодых механиков-водителей.
Была сильная распутица, дороги развезло, падал густой мокрый снег. На некоторых участках маршрута танки буквально плыли в грязи, полируя ее своим днищем. Моторы от такой нагрузки быстро перегревались. Конечно, опытный механик-водитель и в самой сложной обстановке, непрерывно работая рычагами, успевает следить и за дорогой и за показаниями приборов, однако нам, новичкам, это было трудно. Внимание как бы раздваивалось. Забываешь иногда взглянуть на приборы, а их стрелки ползут к красной черте, к той критической точке, за которой перегрев мотора грозит аварией. Чтобы исключить подобные неприятности, командир роты капитан Карпенко приказал командирам машин каждые пять минут требовать от механиков-водителей доклада о температуре воды и масла, о давлении масла в двигателе. Так нас, молодых, приучали постоянно видеть приборный щиток и тотчас реагировать на его показания.
Марш прошел успешно, в роте не было ни одной аварии. Уже вблизи передовой мы узнали причину столь поспешной переброски бригады. Фашистские танковые дивизии, пытаясь деблокировать корсунь-шевченковский котел, нанесли сильный удар по советским войскам на внешнем фронте окружения. Навстречу противнику в числе других соединений и частей была выдвинута и 107-я танковая бригада.
Ночью, в сильный туман, мы вошли в деревню Петровка и с десантом на броне двинулись далее, к селу Вотылевка. Начался встречный бой – танки против танков. Наш батальон пробился уже на окраину села, но тут получил приказ отойти обратно в Петровку. Отошли, замаскировали машины. Самое время перекусить: поздний ли это ужин, ранний ли завтрак – солдату не до формальностей.
Достал я продукты, вылез из верхнего люка. Гляжу, идет от своей машины Головня. Говорит:
– Сергей, поделись с нами. Есть охота – спасу нет. Спрашиваю:
– А куда свой паек дели?
Он только рукой махнул: дескать, не знаешь, что ли, нашего обжору? Я, конечно, знал. Был у них такой – в должности заряжающего. Только отвернись – один слопает паек всего экипажа. Потом кается, грешит и опять кается.
Над обжорами принято смеяться. Однако если подобная личность станет членом вашего экипажа, членом коллектива, где все – жизнь, смерть, каждый сухарь – делится поровну, ручаюсь, вам будет не до смеха. Танкист очень часто и надолго отрывается от походной кухни и регулярного довольствия. Живет и воюет на сухом пайке. Поэтому иметь соратником человека с волчьим, без всяких тормозов, аппетитом – сущая беда.
Поделился я с Федей консервами, сухарями, сахаром. Говорю:
– Ступай к замполиту, расскажи ему. Он головой качает:
– Неудобно. Было бы дело, а то обжора. На всю бригаду ославимся. Как в зоопарк, ходить к нам будут.
Начал я его убеждать – не убедил. Не нашел нужных слов, чтобы доказать другу, как он не прав в ложном своем представлении о чести экипажа. И от этого сам я еще больше разгорячился. Говорю Феде:
– Не пойдешь ты к замполиту, пойду я. Все расскажу. И точка!
– Пока что запятая, – отвечает он. – Надо вздремнуть до рассвета. Утром бой.
А несколько часов спустя и надобность в разговоре с замполитом отпала. Дело было так.
На рассвете мы приготовились к атаке на Вотылевку. Она раскинулась за широким ровным полем. По левому краю поля от Петровки к Вотылевке тянулась дорога, обсаженная старыми вербами. В боевом построении батальона (он был двухротного состава) наш взвод оказался на левом фланге, то есть у дороги на Вотылевку.
Сидим в танке, ждем сигнала. Выбираю маршрут движения. Сперва поведу машину огородами. Отдельные хаты и голые вишневые сады Петровки, вытянувшиеся вдоль дороги, не очень-то надежное прикрытие, но все же!.. Дальше старые вербы, а там и рывок к Вотылевке.
Командир машины лейтенант Погорелов командует:
– Вперед!
Взревел мотор, двинулись. Справа ведет танк мой друг Головня, еще дальше в поле мчатся другие машины. Проскочили вербные посадки, впереди уже близко дворы и хаты села. Где-то справа часто бьют немецкие танковые пушки.
Одолев косогор, через какой-то проулок врываемся в Вотылевку. Танк Головни несколько обогнал нас. Сделал короткую остановку. Выстрел. Теперь и я вижу его цель. Это немецкий танк «пантера». Он не успел развернуть башню в нашу сторону. Федя подвел свою тридцатьчетверку почти вплотную. Выстрел, еще выстрел! Ствол пушки «пантеры» беспомощно клюнул землю. Это бывает, когда поврежден уравновешивающий механизм орудия. Экипаж, может, и остался жив, но танк выведен из строя.
Обходим «пантеру», ведем машины вдоль улицы. Головня свою – по правой стороне, я – по левой.
– Внимание, «фердинанд»! – командует по переговорному устройству лейтенант Погорелов.
Впереди, метрах в ста, подмяв плетень, задним ходом пятится со двора на улицу бронированная громадина. Оба наших танка ударили в правый борт и моторную группу «Фердинанда». Тяжелая самоходка вспыхнула.
Пока что боевая удача нам сопутствовала. Видимо, противник проглядел прорыв двух наших танков в Вотылевку со стороны дороги. Все его внимание поглощено борьбой с главными силами батальона, наступающими с фронта, через поле. Однако вскоре занялись и нами. Мой танк сотрясли два близких разрыва снарядов. Фашисты били откуда-то с тыла.
– В укрытие! – командует Погорелов.
Увожу машину во двор, за хату. Это противник должен видеть. Делаю бросок по огородам. Это он уже вряд ли видит. Головня тоже ставит свой танк в укрытие – за сарай на противоположной стороне улицы.
Других наших машин поблизости все нет и нет. Мне видна часть поля между Петровкой и Вотылевкой. Там горят две тридцатьчетверки. Неужели атака батальона отбита? Но сейчас думать об этом некогда. Пока у нас в тылу прячется еще один «фердинанд» (судя по звуку выстрелов, это именно «фердинанд»), мы скованы в своих действиях.
– Наблюдать! – приказывает Погорелов.
Наблюдаем. Я в свой триплекс на переднем люке вижу улицу и краешек поля. Воробьев приник к башенной щели. Круговой обзор только у командира. Его оптический прибор смонтирован на крышке верхнего люка, но и лейтенант никак не может обнаружить затаившийся «фердинанд».
А вражеские самоходчики засекли место, где поставил свой танк Федор Головня. Открыли огонь. Снаряд 88-мм пушки «фердинанда», очевидно, пробил сарай, мы услышали сильный взрыв. Черный дым потянулся из-за сарая. Надо немедля помочь товарищам! Но в этот момент в дальнем конце улицы показался немецкий средний танк Т-III. Он продвигался медленно, стрелял наугад, так как все вокруг нас заволокло дымом. Горели «пантера» и «фердинанд», горела тридцатьчетверка Головни, горел крытый соломой сарай. Мы подпустили вражеский танк поближе, лейтенант подбил его со второго выстрела.
Но теперь противник обнаружил нашу засаду. Он открыл прицельный огонь и с фронта и с тыла, снаряды ложились все ближе, а мы уже израсходовали почти все боеприпасы. Лейтенант Погорелов по радио доложил обстановку в батальон. Комбат приказал отойти из Вотылевки. Обойдя сарай, мы увидели почерневшую, с пробоиной в борту тридцатьчетверку. На снегу лежали наши товарищи. Трое из них – командир взвода лейтенант Александров, механик-водитель Федор Головня и радист – были смертельно ранены и скончались, не приходя в сознание. Заряжающий – тот самый, о котором говорили мы с Федей, – получил тяжелую контузию. Однако в трудную для экипажа минуту он сумел позабыть свой эгоизм, пытался спасти товарищей. Всех троих вытащил из горящего танка. Мы вывезли их на своей машине в Петровку.
Оказалось, атака батальона действительно не имела успеха. Потеряв несколько танков, батальон был вынужден отойти. Противник вел огонь в основном с правого фланга, из хорошо замаскированных танковых засад. Да и нам, прорвавшимся в Вотылевку на левом фланге, так и не удалось обнаружить «фердинанд», который подбил машину лейтенанта Александрова.
Вотылевку взяли на следующий день, но уже без нашего участия. Мой танк подорвался на мине в самом начале атаки. Хорошо еще, что мина рванула под внешним краем левой гусеницы и весь удар приняли на себя опорные катки. Два катка вырвало.
Техник-лейтенант Орешкин сам вытащил на буксире подбитый танк из-под огня. А что делать дальше? Где достать новые катки? Тыловые подразделения отстали на разбитых дорогах.
– Снимем катки с какой-нибудь из них, – сказал он, махнув рукой в поле, где стояли подбитые и сгоревшие тридцатьчетверки.
Но прежде чем снять катки, надо найти машину, у которой они остались неповрежденными. И вот вместе с Орешкиным двинулись мы к тем машинам. Нам повезло, ближайшая из подбитых машин имела целые катки. Сняли, покатили вручную. Трудное дело. Каток весит около 200 килограммов, да еще грязь на него навертывается пласт за пластом. Приходится то и дело его очищать. Совсем мы выбились из сил, пока перекатили сперва один, затем другой каток. Поставили катки на танк, натянули гусеницу, и к обеду тридцатьчетверка опять была в строю.
Боевое крещение под Вотылевкой недавний выпускник военного училища техник-лейтенант Павел Орешкин выдержал с честью – и как специалист своего дела и просто как солдат. Это была первая ступенька к тому высокому авторитету, который он вскоре завоевал среди однополчан. Ведь благодаря отваге и мастерству Орешкина и его слесарей-ремонтников, зачастую восстанавливавших поврежденные боевые машины прямо под огнем, наше подразделение, даже неся потери, всегда имело высокую боеспособность. Коммунисты роты избрали его своим парторгом. Правда, попадало ему не раз и от товарищей и от начальства за излишнюю лихость. Никому не хотелось потерять хорошего специалиста-ремонтника из-за какой-нибудь дурной пули или осколка. Говорили ему: «Ну что ты лезешь поперед батьки в пекло? Твое дело – ремонтировать танки в тылу». Обычно он только посмеивался. А если очень уж допекали, становился серьезным и отвечал так: «Кроме должностных обязанностей у меня есть и другие. Я парторг роты. Парторг обязан бывать в боевых порядках. И чем чаще, тем лучше для дела. Так или нет?» Возразить ему было трудно.
Несколько суток 107-я бригада дралась под Вотылевкой, то отбивая атаки танковых частей противника, то контратакуя его. Бои были ожесточенными, фашисты не считались с потерями, стремясь пробиться к окруженной в корсунь-шевченковском котле группировке. Но мы отстояли свой рубеж. Потом бригаду перебросили непосредственно под Лысянку. Здесь, собрав сильный танковый кулак, гитлеровское командование еще раз попробовало прорвать внешний фронт окружения. Лысянка несколько раз переходила из рук в руки. В ночь на 13 февраля фашисты вытеснили нашу бригаду из этого населенного пункта. Отошли мы с боем километра на полтора, ждем, когда подвезут боеприпасы. Время идет, а автомашины со снарядами все нет. Наконец подвезли боеприпасы, но не наш шофер Федор Барабонов, а другой шофер. Он сказал, что Федя пропал без вести вместе со своим ЗИС-5.
Только день-два спустя, когда мы выбили фашистов из Лысянки, нашли на ее главной улице, «зисок» Барабонова. Грузовик был почти полностью размонтирован. Сняты радиатор, мотор, коробка передач, даже резиновые баллоны. Борта откинуты. Глядим мы на мрачную эту картину – и вдруг появляется сам Барабонов. Впрягшись в санки-розвальни, тянет их, как конь. Санки подталкивал сзади старик из местных жителей, а в санках – автомобильный мотор, радиатор и другие части.
Мы бросились к нему с вопросами, а Федя бурчит:
– Помогли б лучше мотор поставить. Конечно, помогли. А они с дедом все возят и возят «запасные части». Потом Барабонов рассказал про свои приключения. Когда фашисты прорвались в Лысянку, его ЗИС оказался без бензина. Ночь, кругом пальба, помощи ждать неоткуда. А оставить машину врагу он не мог. Забежал в ближайшую хату: «Дедушка, пособи!» Вдвоем они сняли мотор и все прочее, спрятали у деда на огороде. Да и самого Федю дед спрятал. На ободранную, с опущенными бортами машину гитлеровцы внимания не обратили. Так Федор Михайлович Барабонов сберег грузовик до нашего возвращения в Лысянку. На этом ЗИСе он прошел с бригадой до самого Берлина и летом 1945 года, перед демобилизацией, сдал машину в полной исправности.