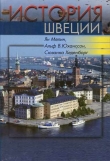Текст книги "Смерть поэта"
Автор книги: Сергей Саканский
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Сергей Саканский
Смерть поэта
Месть Хина Меннерса
Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала.
Где же теперь твой голос и тело?
Может ли быть, что ты умерла?
Николай Гумилев, «Заблудившийся трамвай», март, 1920
В смерти своего отца Хин Меннерс винил не только Лонгрена, но и самого себя.
В тот день, один из дней норда, когда серая, ясно видимая струя ветра полосовала окрестность, он заметил, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта. Шторм начался недавно, и отец забыл вывести лодку на песок, как это сделали все. Хин, будучи тогда двенадцати лет от роду, решил справиться сам: он не раз видел, как рыбаки вытаскивают лодки на берег, но внезапный страх остановил его. Он заметил человека на краю мола и подумал было обратиться за помощью к нему, но это оказался Лонгрен, давний враг отца. Тогда Хин побежал к отцу и сказал, что лодка бьется о сваи и отец, пытаясь пригнать лодку, ошибся в каком-то одном движении, что стоило ему жизни: лодку унесло в штормовое море, а Лонгрен, враг его, не протянул руки. Нет, Хин никогда не простит себе этого: ведь он видел тогда Лонгрена, он знал, что Лонгрен враг, он не должен был оставлять их одних на штормовом берегу…
Вот как жестоко был наказан отец за какую-то старую обиду, и все было бы шито-крыто, если бы его, разбитого о борта лодки, уже обезумевшего, не подобрал рейсовый пароход. Умирая, старый Меннерс рассказал, как молчал на краю пирса Лонгрен, молчал, курил и стоял – неподвижно, строго и тихо, словно судья. Жители Каперны, люди вполне мирные, были поражены холодной жестокостью Лонгрена: с того дня и он, и его отродье стали чужими в деревне.
Несчастье, поразившее мальчика столь внезапно, отказывалось полностью закрепиться в его жизни, и Хину часто снилось, что отец жив, ходит по дому, ищет очки, обшаривая руками самые темные слепые углы, и вдруг хлопает себя по лбу, там же, на лбу, и находит свои убежавшие очки, и ругает себя старым, ругает больным… Просыпаясь, Хин сперва недоумевал, почему отец, как обычно, не разбудил его сегодня, щекоча бородой щеку, и только через несколько секунд вспоминал, что отца больше нет.
Всю свою жизнь, сколько он себя помнил, Хин Меннерс провел в лавке отца, которая теперь, со всем ее имуществом, равно как и работой (а также с долгами, мелкой контрабандой, рэкетом) – перешла к нему.
Считать и писать он выучился еще лет к пяти, позже выучился и читать. С одной стороны, это был мальчик, единственным дельным занятием в жизни признающий какую угодно игру, с другой – лавочник, как сказали бы в наше время – бизнесмен, чьей святой обязанностью было привлечь, обслужить, а то и запутать клиента. Недоросли Каперны, прежде над ним потешавшиеся, теперь, благодаря внушению родителей, стали относиться к нему уважительно, да и не было больше у Хина времени возиться с другими в белой пыли деревенской улицы, да и школу он бросил… Хозяйки, большей частью неграмотные, с почтением смотрели, как маленький Меннерс, шевеля губами, считает над конторкой их деньги, записывает, слюнявя химический карандаш, в специальную книгу их долги…
В день смерти отца, не так, как это обычно бывает с другими – плавно, будто спускаешься по отмели, но внезапно, будто оступился и угодил в подводную яму, – закончилось для Хина Меннерса детство. В день смерти отца Меннерс поклялся сполна рассчитаться с Лонгреном, когда придет этому черед.
* * *
Прошел год, затем другой и третий, Хин вытянулся и окреп. Ему уже не было нужды нанимать Филиппа, местного угольщика, на разгрузку мелкооптовых партий товара: он и сам мог ворочать двухпудвые тюки. С годами рос и менялся план его кровной мести. Застрелить Лонгрена из-за угла никогда не казалось достойным ответом: Хину мерещился честный поединок…
Со временем его отроческий пыл несколько поутих. Лонгрен не был достоин таких славных почестей. Это был старый моряк, списанный с флота за воровство или даже убийство. Нельзя было с уверенностью сказать, что судно, откуда его прогнали, не выступало под черным флагом пиратов. Всеобщая настороженность к Лонгрену была столь велика, что в народе ходили слухи, будто бы он, где-то на островах, после кораблекрушения ел человеческое мясо… Это была темная личность, никто ничего толком о нем не знал…
Ни Лонгрен, ни его покойная жена не были коренными жителями Каперны: он прибыл откуда-то с севера, привезя на возке внушительный кованый сундук с добром и беременную Мери. Купив ветхую лачугу на окраине, он сразу ушел в плавание, а жена разрешилась девочкой. Было ясно, что муж оставил не слишком много денег, поскольку вскоре женщина стала побираться по соседям. Она и в отцовскую лавку заходила, но старый Меннерс, строгий в денежных делах, не мог поверить на слово пришлому человеку и в займе отказал. Не в этом ли заключалась обида Лонгрена? Не за это ли Лонгрен приговорил старика к смерти?
Так или иначе, но Мери отправилась в Лисс, чтобы заложить обручальное кольцо. По дороге она попала под дождь, схватила пневмонию и через несколько дней умерла.
Что ж! Если бы лавочник одолжил тогда денег этой женщине, она бы, может быть, осталась жива. До следующего подобного случая. И если бы Лонгрен кинул отцу чалку, когда тот погибал в штормовом море…
Эту цепочку виновности можно выстроить и в прямом порядке: человек, неспособный прокормить семью, обрекает жену на нищенство…
Почему погиб Меннерс? Потому что Лонгрен не протянул ему руки. Почему Лонгрен не протянул руки тонущему человеку? Потому что тот не дал денег его жене. Почему жена Лонгрена просила денег? Потому что у нее их не было. И почему же? Потому что Лонгрен не заработал денег для собственной семьи. И, в конце этой цепочки виновности, тот же Лонгрен стоит на краю мола со своей значительной трубкой в зубах и судит, судит… Судит – кого?
Старый Меннерс родился в семье рыбака, как и все в Каперне, за исключением врача и священника, и начал свое дело таким же юнцом, каким был сейчас Хин. Тогда в Каперне не было местной торговли, и рыбаки жили от улова до улова. В дни норда, когда море не позволяло выйти на промысел, они сидели дома и, чтобы не было столь голодно, пили горькую. В подвале своего дома Меннерс оборудовал большой ледник, где научился хранить рыбу, скупаемую по дешевке в лучшие времена, дабы реализовать ее во времена худшие – тем же самым рыбакам. Это было простое решение, до такого додуматься мог бы каждый, но… Додумался только один. Уже через год он открыл лавку, а затем и трактир, став единственным и бессменным кормильцем селения. Теперь уже никому не надо было тащиться в Лисс три часа по жаре или холоду, из-за каких-нибудь спичек или ниток, да и товары в лавке Меннерса были дешевле, чем в столице, так как покупал он их на оптовом рынке.
Все это так, но лавочник – уже по определению – отрицательный персонаж, в то время как матрос, с его пресловутой трубкой во рту – герой положительный. Лавочника даже и зовут как-то убого и тихо – Меннерс, в то время как матроса зовут глубоко и весомо – Лонгрен. С сильным, ударным звуком «о»… Все это – несмотря на то, что Лонгрен, дожив до седин, будучи не в состоянии даже заработать себе на жизнь, казнит Меннерса, казнит и судит собственным правым судом, – за то, что Меннерс не поступился принципами, а именно: не дал в долг человеку, с которого и спросить-то в качестве заклада нечего… Если бы старый Меннерс всегда подавал в таких случаях, то не нажил бы никакого состояния, с того самого дня, когда к нему в ледник пришел какой-то голодный мальчик и попросил рыбки – просто так, рыбки и все!
Странным, правда, было то, что покойная жена Лонгрена, Мери, поперлась ненастной погодой в город, закладывать кольцо, хотя она преспокойно могла бы заложить это кольцо у самого Меннерса. Будто бы какому-то злобному автору, который пишет всю эту жизнь, непременно было надо, чтобы Мери простудилась и умерла. Убить, убить ее – только для того, чтобы склеить сюжет своей книжки!
Так рассуждал Хин, когда окончательный план мести уже сложился в его голове.
Нет, Лонгрен не был достоин честной игры. Оглушить его, связать, бросить в лодку и отправить по воле волн – в таком случае, Лонгрен переживет весь тот ужас, который пережил перед смертью отец, но как заставить его пережить то, что Хин пережил сам, оставшись один во враждебном мире, лишившись любви и заботы единственного родного человека на земле?
Порой поздно вечером, когда никто не мог его видеть, Хин ходил на берег, швырял камни в ненавистное море, и плевал в море, и плакал. Оттуда было хорошо видно лачугу Лонгрена и свет в его окне, и даже видна была тень Лонгрена, склонявшегося над столом, когда он мастерил свои деревянные корабли, а в углу, вероятно, также в самодельной деревянной кроватке, мирно спало его отродье, и ничто не нарушало этой идиллии.
Море, убившее отца, и Лонгрен, убивший отца – пейзаж ненависти, который надо было иметь перед глазами, чтобы решиться на то, на что должен был решиться Хин Меннерс, последний из рода Меннерсов, обнищавшего рода немецких рыцарей, вся честь и былое великолепие которого сконцентрировались теперь здесь, в изгнанье, в этой Богом забытой стране, в образе маленького Хина, деревенского лавочника… Жестокая и ясная логика древних традиций – неизбежных традиций кровной мести и кровной вражды – подсказывала единственно возможный путь:
– Ты отнял у меня моего отца, я же отниму у тебя – твою дочь!
* * *
Это случилось с ним на шестнадцатом году жизни, и определило всю его дальнейшую жизнь.
Хин шел лесной дорогой в Лисс. Было раннее летнее утро, когда слепни и оводы еще не вылетели на свою звонкую охоту за кровью: чаща была полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, Хин шел пустой, обремененный лишь небольшим кожаным кошельком – обратно он намеревался вернуться с двумя подводами товара… И вдруг у ручья, пересекавшего дорогу, он издали увидел розовый, в крупную зеленую полоску сарафан, и с отвращением узнал дочь Лонгрена, или отродье, как он про себя ее называл.
Сердце Хина отчаянно забилось, на лбу выступил холодный пот.
– Теперь или никогда! – сказал он себе.
Хин выхватил финку, сделал несколько выпадов, ногтем проверил остроту лезвия и опустил готовое оружие в кожаные ножны за голенищем сапога. Маленькая Ассоль как раз склонилась над ручьем, запуская на воду дурацкое белое суденышко с красными парусами, одно из тех, которые Лонгрен довольно грубо вырезал из дерева для денег, с тяжелой торбой гоняя девочку в город – сдавать изделия в дешевую игрушечную лавку. Он был верен себе, этот Лонгрен: портовый Лисс, полный мореманов со всех краев земли, сутенеров с сучками, воров, шулеров и прочей неизбежной для морского города швали, был опасен, очень опасен для подрастающей девочки… Хин замер за кустами в трех шагах от ручья, пораженный внезапной мыслью… Так ли любит Лонгрен свою дочь, как это кажется с первого взгляда? Может быть, дочь для него – всего лишь обуза, лишний прожорливый рот, и удар финского ножа, так тонко рассчитанный, уйдет впустую?
– Есть только один способ проверить это, – сказал себе Хин и снова вытащил финку на свет, блеснувшую, словно рыбка на крючке.
В этот момент девочка вскрикнула, прижав кулачки к груди, потому что деревянная яхта, пойманная течением ручья, вышла на середину и понеслась вниз. Перепуганная Ассоль побежала по берегу, волоча сквозь кусты свою жалкую торбу.
Хин перевел дух. Преследовать жертву надо было осторожно, чтобы она не услышала его шороха и треска. Он собрался напасть сзади и быстро покончить с нею одним ударом в шею. Он был уверен, что не сможет совершить задуманного, если увидит глаза девочки, и решил настичь ее на какой-нибудь поляне, где можно было бы мягко, как кошка, пробежать по разнотравью несколько последних шагов.
И они двинулись через чащу: девочка за парусами, мальчик за девочкой, выстраивая в пространстве извилистую цепочку, смысл которой был ясен лишь тому, кто представлял ее последнее звено.
Дикий девственный лес являл довольно препятствий: мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник и боярышник мешали на каждом шагу; одолевая их, они оба постепенно теряли силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы отдышаться или смахнуть с лица липкую паутину. Хин никогда еще не бывал так глубоко в лесу. Раз он оглянулся, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила мальчика. На мгновение оробев, он вспомнил вновь о своей цели и, несколько раз выпустив глубокое «ф-фу-у-у», побежал изо всех сил.
В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, безоблачное небо, край желтого песчаного обрыва и устье ручья… Это было удобное, наконец, место, но, разорвав кусты цветущего жасмина, Хин увидел, что Ассоль уже была не одна.
У ручья, на плоском большом камне сидел человек, старый и праздный, задумчиво пропуская бороду в большой жилистой горсти. Он поймал убежавшую яхту и недоуменно вертел ее в руках. Тут и явилась перед ним запыхавшаяся Ассоль.
Хин не слышал, о чем они говорили, но говорил старик довольно долго. Кончив, он вручил девочке ее несчастную модель, затем встал, отряхнулся и медленно зашагал по морскому берегу прочь. Ассоль осталась одна.
Странный незнакомец не заметил Хина, прятавшегося в чаще. Чужие редко забредали в наши места и было ясно, что его уже видели, а значит то, что должно было случиться, автоматически будет свалено на него, прохожего.
Хин прокрался поближе, остановившись, надежно скрытый листвой, шагах в пяти от узкой сгорбленной спины в полосатом, зелено-розовом сарафане. Девочка стояла с моделью в руках, держа ее, словно ребенка, и, казалось, пребывала в глубокой задумчивости. Вдруг, услышав шорох, она оглянулась…
И тут Хин замер, чувствуя, как непроизвольно раскрывается его собственный рот. Никогда прежде он не видел так близко ее лица. Полудетское, в светлом загаре, оно было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний; каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль – был совершенно оригинален – оригинально мил… Эти и многие другие слова сразу пришли ему в голову…
Хин как будто взлетел над поляной и увидел себя сверху. Он показался себе отвратительным, чем-то паукообразным, опутывающим скользкими нитями золотистую мушку, чтобы пронзить ее мерзкой иглой… Что-то происходило в его душе – незнакомое, новое, будто приступ неизвестной болезни… Он повернулся и побежал сквозь чащу, и ветки до крови хлестали его по лицу.
* * *
Через несколько дней Хин узнал, кем был тот чудной прохожий, подобравший краснопарусную яхту, и что он рассказал Ассоли. Это был Эгль, старый бездельник и пьяница, который, чтобы пустить людям пыль в глаза, называл себя ученым-филологом, или любословом, а на самом деле был обыкновенным нищим. Путешествуя пешком от селения к селению, он «собирал» песни, легенды и сказки. Правда, никто не видел его «собрания» в качестве, скажем, какой-то изданной книжки, и, в конечном счете, Эгль лишь выслушивал истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества – эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом, переносил из селения в селение сплетни, да угощался всюду на дармовщину ароматической водкой, которую очень любил. Справедливости ради, скажем, что появление Эгля с его непревзойденной лучистой бородой, огромной соломенной шляпой и поясом, унизанным фальшивым серебром блях, представляло редкое в деревнях зрелище, за которое стоило хоть немного заплатить, ибо все в этом мире стоит хоть каких-нибудь, да денег. Словом, не даром ел свой хлеб и пил свою водку этот ловкий человек.
Подвыпивший Эгль рассказал доверчивой Ассоли притчу о ней самой, придуманную сходу, спьяну на том же месте. Вертя в руках яхту с красными парусами, поставленными Лонгреном, похоже, от недостатка материи, Эгль, представившись самым главным волшебником, и, похоже, сам в эту минуту галлюцинирующий, как часто бывает с такими несерьезными людьми, сказал, что однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус и за ней, за Ассолью, придет корабль, ведомый прекрасным принцем…
– Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце, и где звезды спустятся с небес, чтобы поздравить тебя с приездом.
Более того, прибежав домой, девочка взахлеб рассказала об этом отцу, и Лонгрен, другой опасный дурак, важно подтвердил слова Эгля.
Словом, оба старика, не сговариваясь, совершили одну и ту же ошибку, сообща заронив в душу ребенка зерна будущего безумия. По идее, Ассоль должна была сойти с ума в старых девах, ожидая у моря погоды. Нищий, случайно подслушавший ее разговор с отцом, разболтал о красных парусах всей округе, и девочка, после известных событий и без того униженная, подверглась теперь настоящей травле:
– Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут! – кричали теперь недоросли, едва завидев ее на улице.
Что же, в сущности, произошло? Откуда взялись эти красные паруса? Несмотря на пророчество Эгля, причинная цепочка выстраивалась именно от Лонгрена: ведь не сделай он из обрывков шелка, употреблявшегося в моделях для оклейки кают, красные паруса, в больном воображении Эгля никогда бы не родилась эта феерическая фантазия.
А что же Хин Меннерс? На его долю выпала роль самого несчастного героя этой истории…
В тот день он не дошел до города, а на подгибающихся ногах вернулся домой, весь изодранный о колючие кусты. Ничего еще не зная о красных парусах, он знал лишь то, что волею судьбы едва ли не стал человекоубийцей, и еще он знал то, что отныне и навсегда беспамятно влюблен в эту девочку.
Все произошло там, на устье ручья, когда из кустов он смотрел на Ассоль, чье лицо цвело под знаком только что узнанной новости, когда сам себе он показался отвратительным пауком…
Влюбиться в один миг – естественный, обыкновенный случай, столь частый как в жизни, так и в книгах, у того же Грина, например…
Едва осознав, что он теперь не просто так, а по-настоящему влюблен, Хин тут же и понял, насколько недоступен объект его любви. Не стоило труда представить, какой образ сложился, благодаря папаше Лонгрену, в сердце девочки. Сын человека, виновного в смерти ее матери… Лавочник… Кровопийца… И никакого значения не имело, что сама Ассоль была дочерью человека, виновного в смерти его отца. Или, может быть, именно в этом и заключался магический узел их судьбы?
Однажды, разбирая старый сундучок отца, Хин обнаружил его журнал. Когда-то отец, считая себя одним из самых образованных жителей Каперны, а оно так и было, – почел своим долгом вести летопись селения. С естественной обстоятельностью записывал он погодные и общественные явления, чутко отмечал состояние своего здоровья… Анна умерла в семь сорок утра, – на старонемецком языке записал он о смерти матери Хина, и случилось это, когда Хину не было и года… Он с грустью подумал, что и в этом есть между ним и ею какая-то общность… Теперь, когда он уже не просто жил, а любил, Хин все свое бытие поверял некой ассольностью… Через минуту, из одной туманной записи, Хин сделал новое потрясающее открытие.
Догадка была ошеломительной, но Хин даже не стал формулировать ее, прежде чем не проверит на бесспорную истинность.
Он давно заметил, что некоторые фразы журнала, как бы по рассеянности, были написаны на старонемецком языке. Сначала он смутно предполагал, что эти слова имеют отношения к морским делам, и в этом случае использование точных терминов объяснимо вполне. Вдруг он споткнулся о слово Liebe… С волнением Хин раскрыл старинный фолиант словаря и перевел инородные вкрапления. Вот что получилось.
– Она была в лавке. Я сам выбрал для нее лучшие персики…
– Встретил ее случайно на улице. Не понимает или делает вид (что не понимает – ред.), что я оказываю ей особые знаки внимания…
– После смерти Анны я женщин не знал. То, что происходит теперь, грандиозно и убийственно…
– Специально дожидался ее в церкви. Она не пришла…
– Ее муж ушел в море, оставив ей гроши, кои скоро закончатся. Что ж! Подождем-с…
– Она приходила ко мне и просила денег. Я, наконец, решился и предложил ей то, чего вот уже целый год алчет душа моя. Она отказала…
– Все кончилось. Она умерла…
Хин захлопнул журнал, и обхватил голову руками. Круг замкнулся, история повторилась в новом поколении, словно проклятие, связующее два соседских рода, каких-нибудь Монтекки и Капулетти… Как всегда, дежурная жизненная аналогия отыскалась в мировой литературе, чем еще более злонамеренны книги: они будто издеваются над нами, то предлагая щедрое разнообразие вариантов нашего скудного бытия, заманчивых и невозможных, то дразня и подмигивая несбыточностью счастливых концов…
Все, что оставалось Хину, – это страдать в мрачном своем одиночестве. Когда-то давно отец любил ее мать, а теперь вот сам он любит ее, и все это – безнадежно.
* * *
Хин не видел Ассоль по нескольку недель кряду; живя хоть и в одном пространстве, они, казалось, существовали в разных измерениях времени. В лавку и трактир ни она, ни Лонгрен, понятно, не ходили, предпочитая отовариваться в городе. Он мог бы встретить ее на берегу над обрывом, где она обычно бродила по утрам, высматривая свои паруса, но жители Каперны никогда не шатались впустую, и появление лавочника на берегу не обошлось бы без кривотолков.
Жизнь подобных селений полна негласных правил и многозначительных табу. Досужий турист, вроде Эгля, смог бы обойти Каперну за полчаса, взглянув на каждый дом, но для местного жителя ее география хранила множество бессмысленных тайн. Если, например, капернианин А видел капернианина Б в переулке, где тот прежде никем замечен не был, как тотчас начинала свое движение сплетня.
Еженедельный путь Ассоли в город лежал далеко не мимо его дома. Когда становилось совсем невмоготу, Хин отправлялся в лес, на то самое место у ручья, где впервые схватился за нож с намерением человекоубийства.
– Здравствуй, Ассоль! – говорил Хин, стараясь вложить в эти слова все кипение своей нежности, но она лишь удивленно кивала незначительным наклоном головы, чтобы только соблюсти приличия.
Он стал продолжать журнал отца, обстоятельно записывая погоду и сплетни, впрочем, делал это лишь во имя своих коротких сентенций на старонемецком языке.
– Ich Liebe, я не покончу с собой, потому что жизнь если и состоит из любви на 90 частей из ста, то пусть будут жизнью хотя бы оставшиеся десять…
– Сегодня я встретил ее у моста, у ручья, и сказал: Ассоль, можно я провожу тебя в город, но она строго посмотрела мне в лоб и сказала одно лишь слово: Нет…
– Сегодня встретил ее у моста, у ручья, и сказал: Ассоль, хочешь взять эти конфеты, а это были дорогие конфеты, каких она никогда в жизни не пробовала (и не попробует!) но она лишь строго посмотрела на меня, опять посмотрела прямо в лоб, и покачала головой. Видно было, как очень хочется ей этих конфет. Вечером вошел Лонгрен в трактир, где несколько лет не был, ничего не заказал, подошел к стойке и сказал одно лишь слово: Убью! Теперь уж точно нет никакой возможности отомстить ему.
Мысль о том, чтобы сделать ей предложение руки и сердца, когда она достигнет совершеннолетия, даже не пришла ему в голову. Все упиралось не столько в Лонгрена, сколько в красные паруса. Было ясно, что Ассоль не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, который придумал изувер Эгль.
Может быть, просто-напросто устроить ей эти красные паруса?
Допустим, он будет трудиться в поте лица оставшиеся пять лет, отказывая себе во всем, ежемесячно откладывая некую сумму – о, это будет чертовски веселая жизнь: без сладкого, без ярмарки, без обновок – за эти годы нарастут банковские проценты, в итоге он сможет зафрахтовать какое-нибудь суденышко, обрядить его в бутафорские паруса, нанять оркестр, снять неподалеку уютную виллу… Сколько это будет стоить, с учетом инфляции? Сколько бы ни стоило, но это всегда реальная, конечная сумма денег, которую можно заработать, если поставить себе цель, и тогда…
Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов, на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая, и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки. Нарядная, в коврах, в золоте и цветах – и сколько же это надо денег?! – поплывет от него быстрая лодка… И ты увидишь храброго, красивого принца, он будет стоять и протягивать к тебе руки.
– Здравствуй, Ассоль! – скажет он. – Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, что только ты пожелаешь, и жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали…
– Пошел вон, – скажет Ассоль. – Убирайся прочь, злой насмешник, убийца и сын убийцы. Ненавижу, проклинаю тебя!
Но почему нет? Почему принц не может жить рядом, быть свидетелем ее детства, понимать всю глубину и ясно видеть всю бездну той жизни, которую она влачила здесь, в Каперне, среди этих черных дымовых труб?
Нет, не может. Принц должен быть всегда из другой, далекой страны.
В конце концов, если загримироваться, надеть театральную бороду, темные узкие очки за двадцать пять долларов… Тогда это еще больше будет походить на розыгрыш…
А если…
Всю жизнь…
Взять Ассоль в этой бороде и очках и всю жизнь жить с нею в этой бороде, в этих очках…
Но где же взять деньги, чтобы не арендовать на неделю, а купить или построить хотя бы средненькую виллу на берегу?
Хин сбросил с лица москитную сетку и рывком сел на кровати. Сон как рукой сняло.
Он бросит все и уедет. Продаст имущество, уедет далеко, скажем, на североамериканский запад, где будет мыть золото, пить виски, носить лисью шубу и вернется сюда, сменив имя, сделав пластическую операцию, уже другим, джеклондовским героем, и тогда… Или пойдет в пираты. Или поступит мальчиком в мужской бордель…
Проснулся он снова никем иным, как Хином Меннерсом. Продать трактир в захолустной областной Каперне – десять шансов из тысячи. Стать пиратом, чтобы обагрить алой кровью руки и душу… Отдать свое юное тело грязным матросам с голубых военных кораблей…
Нельзя построить счастье на несчастье других, равно как и на своем собственном несчастье. Вот и еще год прошел…
Любовь Хина окончательно устоялась, как тяжелая озерная вода, превратившись, скорее, в мрачный ритуал. Заметив однажды его робкие поползновения, Лонгрен бдительно охранял корабельную невесту. Ассоль уже даже и не подымала глаз, когда «случайно» встречалась Хином на улице, и Хин забыл, какого цвета ее глаза…
Зачем был нужен этот Лонгрен?
Вся цепочка причинно-следственных связей должна была привести к тому, чтобы Ассоль стала именно такой, какой стала, а для этого ей необходимо было одиночество.
Будто какой-то всесильный, неведомый автор кроил, как материю, судьбы живых людей…
Чтобы сработали красные паруса, Ассоль должна была стать белой вороной в деревне. Для этого она должна была быть сиротой, и он убивает ее мать. Можно было бы заодно прикончить и отца: скажем, «Орион» наткнулся на риф в Карибском море, что само по себе звучит красиво, с этим тревожным, немного картавым «р», но тогда осталось бы не ясным, как и где выросла Ассоль, и почему ее не любят люди. Тогда он поступает иначе: делает Лонгрена убийцей, причем убийцей хладнокровными и невозмутимым, плюс – убийцей одного из самых уважаемых людей в деревне, попросту ее кормильца… И прием работает. В эти условия неплохо вписывается притча о красных парусах. Следовательно, смерть старого Меннерса, между прочим, единственного и любимого отца, была нужна лишь для того, чтобы сформировать образ девушки. Тот самый образ, на котором и попался Меннерс младший. Замкнутый круг.
Когда Хину исполнилось восемнадцать, он, как и все, посетил публичный дом в Лиссе. Для одних мальчиков это посещение было первым в длинной и грязной череде, тянувшейся до самой старости, для других – первым и единственным, но так или иначе, это делали все. Для Хина Меннерса посещение, кроме своей сакральной, имело еще одну, скажем, меркантильную цель: Хин должен был узнать, на примере женщины вообще, как устроена его Ассоль.
Грязная проститутка, холодная и твердая, как пень, искусно, как ей казалось, с поросячьим визгом симулирующая оргазм, сделала мальчику совершенно непредсказуемую услугу: последующий месяц он думал, что таким образом, наконец, излечился от своей любви, но прошел другой месяц и он, опять же – любил, счастливый, как ни в чем не бывало…
Дела его шли ни хорошо, ни плохо – умеренно. Сбережения он составлял, но они не имели никакой романтической цели: это надо было делать и все, делать в течение всей жизни, чтобы когда-нибудь передать свой бизнес сыну и удалиться в спокойное место с толстой старой женой. Денег, накопленных за пять лет, вряд ли хватило бы на 2000 метров кумача.
Однажды…
Ассоль уже достигла совершеннолетия, никто к ней, понятно, не сватался, была очередная весна и очередной весенний день, который, как почти всегда для Хина, начался в черных лучах.
С утра в трактире собрались посетители: угольщик Филипп, уже выпивший, да два рыбака, бывшие матросы Слинк и Клинк, заказавшие лоббио и пока только разминавшиеся пивом. На грязном полу лежал тусклый солнечный переплет окна.
Хин, казалось, знал этот день наизусть, будто волшебник, для которого будущее не имеет тайны. Угольщик будет сосать свое вино, с каждым разом повышая крепость заказа, он будет топить усы в стакане, а после доить их, сглатывая капли влаги, за которую уже уплачено, а к вечеру, нагрузившись, как вельбот, примется орать матросские песни – дикие ревостишия, полные злобы и висельного юмора, а эти двое… Впрочем, скучно все это, господа, скучно, как ненастье.
Дожидаясь, пока заскворчит лоббио, Хин водил пальцем по оконному стеклу, рассеянно наблюдая море – один из любимых жестов Ассоли, подсмотренный издали и присвоенный себе, что часто делают влюбленные безнадежно…
Вдруг на дороге, ведущей в никуда, то есть – всего лишь на берег моря, внезапно, словно связавшись из разрозненных теней листвы в пыли, появились двое чужих.