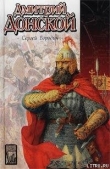Текст книги "Дмитрий Донской (1947)"
Автор книги: Сергей Бородин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Кирилл хлестал себя веником, и кожа зарозовела, заблагоухала березой. А парня пахла дымом и сыростью, мутная склизь текла со стен, и скамья, на которую сел, осклизла. Но он лил на себя воду, воду Оки, реки, на которой жила Анюта.
«А может, и она теперь тревожится? Куда ей идти, если и впрямь побегут из города?»
Он вышел в застланный свежей соломой предбанник, напился воды из ушата. И оделся.
Пока он мылся, прояснело. К западу текли низкие облака, и в прорывах темнела густая синева августовского неба. Но, как ни зорко вглядывались коломяне в заокские дали, дорога оставалась пустой, не было вестей от войска, словно никого и не было там, за сизыми шеломами лесов.
Это был час, когда Бегич перешел Вожу.
Четырнадцатая глава
ВОЖА
Бегич смотрел вдаль: все туман и туман! Сырой холод вставал с земли. Орда вставала. Воины вскакивали на коней; сотня за сотней мчалась вперед по его слову. Они внезапно появлялись и тотчас исчезали в тумане, словно их поглощал воздух.
Лишь назойливое ржанье коней, крики и свист людей не смолкая катились перед ним вперед.
Бегич стоял на своих коротких ногах, непомерно широкоплечий, круглоголовый, с глазами, оттянутыми к вискам. Ноздрями, вздернутыми вверх, он вдыхал воздух чужой земли, улавливал в этой земле, в траве, в воздухе неопределенный, но чуждый, гнетущий запах: за туманом, где-то далеко или близко – впереди, пахло гарью и дымом костров.
Чуть заспанные, раскрасневшиеся от холода и сырости, прилаживая оружие или оправляя седла, всадники проходили на рысях.
«Наша конница хороша на рысях, – подумал Бегич. – Русы сказали бы: „Добры тухтарски комони на грунах“. Некого спросить, верно ли так?» (Много лет силился он изучить язык русских.)
Позади воин держал Бегичева коня. Пегий конь шевелил розовыми ноздрями. Позади стояли в стременах ордынские князья-мурзы. Некоторые из них знали и персидский, и джагатайский языки. Бегич обернулся к Хазибею:
– Русского не разумеешь, князь?
– Я общаюсь с ними не языком, а плетью.
– Давно общаешься, князь?
– Их у нас в Орде немало.
– Но это пленники, князь.
– Все они одинаковы.
– А их воинов ты видел?
Хази-бей показал на мимо идущую конницу:
– Достаточно видеть этих, чтобы не задумываться о тех.
Бегич нахмурился.
В гомоне и тумане гонцу долго не удавалось отыскать Бегича. Наконец он подскакал:
– Говорю: первый караул пытался перейти реку, но брод охраняется.
– Пробовали сбить охрану?
– Они сидят в завалах и не подпускают к берегу.
– Искали другой брод?
– Пошли искать вниз по реке.
Хази-бей спросил у гонца:
– Как называется река?
Бегич ответил:
– Вожа.
Карагалук презрительно посмотрел на Бегича:
– Можно подумать, что князь Бегич хочет служить Московскому Дмитрию: язык Руси учит, все на Руси реки помнит.
– Потому что Бегич не хочет служить Дмитрию.
– Каждый по-своему понимает долг военачальника! – вступился за Бегича мурза Кастрюк.
Гонец продолжал стоять перед ними, держа в поводу лошадь. А уже прискакал новый гонец:
– Говорю: нашли брод. Видели на той стороне русов. Мы пустили стрелы, они ушли.
Хази-бей хлопнул ладонями о колена:
– Они всегда бегут от нас! Не надо было тратить стрел: показали б им плеть, и они ушли бы.
Воин косо усмехнулся, но продолжал смотреть в глаза Бегича.
– Много было русов?
– Туман. Видно было троих.
Бегич посмотрел в сторону мурз.
Хази-бей, любимец Мамая, одевается персом, не умеет сам панциря надеть, рабы ему ремни застегивают на доспехах. Каверга не стесняется спрашивать у старых воинов, хороши ли русские полонянки. Таш-бек в войске занят только лошадьми. Карагалук – родственник Мамая, и Мамай дал Карагалуку высокую степень в коннице. Силен в плечах Кастрюк и смел в битвах. Этот может вести за собой на врага, но как обойти врага – не догадается. Один глаз у войска – это единственный глаз Бегича.
Бегич кивнул воинам, и ему принесли доспехи. Сбросив халат, он быстро влез в панцирь, припоясал меч, вскочил в седло и принял из рук воинов остальное оружие.
– А стоит ли спешить с этим? – спросил Хази-бей.
Но Кастрюк тоже вооружился. Во всеоружии стояли вокруг Бегича старые его соратники.
Не оборачиваясь на мурз, Бегич тронул сапогами бока коня и поехал в туман. Князья последовали за ним.
Так, еле различая землю, ехали до полудня.
Днем туман стал рассеиваться, проглянуло солнце.
Татары перешли брод.
Позади, за рекой, еще оставались обозы, женщины, кочевое имущество, рабы, полонянки, скот. Но ждать их стало некогда: впереди, на горбатых холмах, стояло русское войско.
Солнце освещало русских с запада, и доспехи их сверкали, как лед.
Дмитрий смотрел с холмов на движение татар. За Дмитрием стояли отборные полки и великокняжеская дружина.
На левом крыле стоял князь Данила Пронский с конницей и пешими полками.
На правом – окольничий Тимофей Вельяминов с Полоцким князем Андреем Ольгердовичем.
Попы, сопровождавшие воинство, держались позади. Один лишь грек Палладий, черный, курчавый, блудник и корыстолюбец, находился в передовых рядах.
Бегич с удивлением увидел строгий строй русов, их спокойную неподвижность, блеск оружия.
Кастрюк с воплем вырвался вперед и понесся на Дмитрия, увлекая за собой конницу, мурз, головные отряды и старые боевые сотни. Пыль взвилась. Задние не хотели отставать и тоже, вопя, ринулись вслед первым.
Русы продолжали неподвижно ждать.
Бегич с размаху ударил лошадь камчой и завертелся на месте.
Русы стояли, ждали. Не бежали, не кричали. Этого не бывало! Конница Великой Орды привыкла сминать сопротивление, опрокидывать, топтать, преследовать и на плечах врага врываться в покоренные области. Эти же не бежали. Это была стена, а конница не таран, чтобы бить ею стену.
Головные части сдерживали лошадей. Задние смешались, наваливаясь на передних. Перешли на мелкую рысь. Пошли исподволь, вглядываясь, чего ждут русы.
Татарские переные стрелы взвились в небо. Солнечный свет померк от летящих стрел. Но первый порыв прошел, кони крутились на месте, плохо продвигаясь вперед: горячая страсть налета переломилась.
Тогда Дмитрий блеснул мечом.
Тяжелым топотом давя мягкую землю, русские хлынули вдруг вниз с холмов, навстречу врагу.
Застоявшиеся кони рванулись, затекшие плечи поднялись, и древний воинский клич покрыл татарские гомоны.
Стремительно рухнули русские на татар.
И на много верст вокруг вздрогнула земля, и травы пригнулись, как от порыва ветра, и облака всколыхнулись в небе, и татарские лошади шарахнулись на земле.
Еще воины Кастрюка отбивались от полков Дмитрия, а уж Дмитрий Монастырем опрокинул Таш-бека. Карагалук открыл тыл перед Данилой Пронским. Всадники Хази-бея и копейщики Каверги, откатываясь назад, бросали свои хвостатые копья; отбиваясь клинками, они бежали к реке.
Каверга принялся хлестать своих татар:
– Вперед!
Некоторые покорно оборачивались, сгибая спины, но кто-то, озлясь на удар, хлестнул саблей по круглому животу Каверги, и мурза, запрокинувшись, повалился в седле.
Татары бежали к реке.
Мчавшийся в Дмитриевой конной дружине поп Палладий обрушивал тяжелый кованый крест на головы спешенных татар.
Увидев золотую цепь на шее Карагалука и отбив крестом занесенный над собой полумесяц сабли, Палладий свободной рукой вцепился в цепь. В тот миг лошадь мурзы достигла обрыва и конь Палладия ударился о нее грудью. Перелетев через шею коня, Палладий уткнулся в грудь мурзы. Оба они выпали из седел и покатились с кручи к воде. Всплывая над водой, они продолжали бороться. Поп, не выпуская цепи, бил мурзу, а мурза, захлебываясь, не выпускал из рук бороду грека. Так оба они утонули в Воже.
Бегич кричал воинам. Испытанные воеводы грудью своей останавливали бегущих.
В это время Бегич увидел Дмитрия. Князь мчался к реке, преследуя Кастрюкову конницу. Шелом слетел с его головы, волосы растрепались, глаза сощурились.
Бегич не узнавал Дмитрия: рот, который так ласково улыбался в Орде, глаза, которые так открыто смотрели в лицо Мамаю.
Но некогда было размышлять – чья-то дерзкая рука схватила повод Бегичевой лошади. Бегич тотчас отсек эту руку.
Рядом с Бегичем вдруг встал знакомый воин. Он был стар, и шрам, как розовая ящерица, вздрагивал на его свинцовой скуле. Бегич сплюнул через плечо, но воин схватил руки Бегича вместе с саблей, запрокинул их ему за спину и так повел его прочь от битвы, как птицу, которую держат за оба крыла.
Выбравшись, Ак-Бугай отпустил Бегича.
– Я хочу, князь, посмотреть, не рано ли ты выгнал меня из воинов.
– Как ты смеешь, раб!
– Берегись!
Бегич кинулся на него. Ак-Бугай отмахнул удар. Бегич повернул лошадь и снова кинулся, и Ак-Бугай снова отмахнул удар. Когда же Бегич кинулся в третий раз, резкий свист клинка блеснул у самых его глаз, и от уха до уха сталь пересекла череп. И тогда рука его, сжавшись в кулак, дернула узду с такой силой, что лошадь, встав на дыбы, выкинула из седла безголового мурзу Бегича.
Свалка сгрудилась на берегу Вожи.
Кастрюк, достигнув берега, круто обернул лошадь и один против обступивших его русов принялся прокладывать себе путь, сечь руки, плечи, головы, ногами понуждая лошадь наступать на русских коней. Так отбивался и пробивался он. Но выхваченное кем-то из татарских рук хвостатое копье ударило в грудь и повергло Кастрюка на землю. Здесь он задохнулся под копытами мчащихся лошадей.
Бросая оружие, татары кинулись вплавь. Тяжелые панцири тянули книзу; непривычно было степным всадникам нырять в реке. Тысячи, тысячи татарских всадников ввалились в черные пучины Вожи. Тела запрудили реку. Вода, ворча, начала прибывать.
Стало смеркаться, а татары еще отбивались на берегу и тонули в Воже.
Смеркалось. А люди еще бились во тьме, еще кипела вода.
Встала ночь. И когда уже глаз перестал отличать мурзамецкий шелом от русского шелома, сеча затихла. Тьма помешала преследовать татар. Русские остановились – впереди темнела даль, куда скрылся враг; позади – Русь. А между Русью и воинством – поле битвы.
Всю ночь над полем метались оклики, стоны и вой. Скликали живых и тех, которые больше не откликнутся.
Ревели трубы, скликая разбредшихся. Раскладывали костры. Дозоры рысью уходили вслед за врагом.
К Дмитриеву костру приволокли мертвого Монастырева. Худощавый и бледный, он изменился мало, но приоткрытый рот словно звал за собой. И Дмитрию стало страшно, он перекрестился:
– Упокой, господи, душу убиенного болярина… Дмитрия. Ой, будто о себе самом!
Дмитрий снова перекрестился:
– Упаси, господи!
Звали воеводу Кусакова. Кричали во тьму, обернувшись в русскую сторону.
– Назар Данилыч!
Но только поле разносило:
– Ы… ы… ч…
И каждый кого-нибудь кликал из тьмы: отец – сына, сын – отца, друг друга, брат – брата. И нельзя было понять, откликаются ли позванные, либо души усопших вопят о покинутых телах, Русь ли из-за той стороны поля сокрушается о павших своих детях.
Лохматый и уже седой воин, скинув шелом, вышел вместе с другими от костров к краю ночи и упал, выкликая свою отрубленную в битве руку.
– Ой шуйца! Шуйца моя, игде ты? Игде ты лежишь, родимая? Много тобой попахано, поскорожено. Игде ж ты нунь? Ой шуйца, шуйца моя! Лучше бы ми костьми лечь, неже без тебя быть! Что я теперь? Ой, и не воин я, и не пахарь я…
Он уткнулся лицом в траву, и никто не подошел к нему: каждого долила своя печаль, каждый кричал во тьму. А многие уходили туда, рыскали между битыми и недобитыми.
Блуждали и меркли огни.
Попы разбрелись, напутствуя умирающих, торопясь отпустить грехи:
– Всякий грех прощается ти, сыне мой, ежели жизнь свою положил за родину свою. Ныне и присно и во веки веков.
У некоторых, лежавших в поле, еще хватало силы промолвить в ответ:
– Аминь.
А многие спали, утомленные битвой, безмятежно пораскинувшись на траве. Другие примеряли оружие, охаживали и осматривали коней. Кони злились, шарахались от своих, бились, рвали ремни, гремели цепями. Может быть, чуяли мертвечину вблизи или зверей, собравшихся к мертвечине.
Поутру, едва засветлело на восходе, Дмитрий поднял войска.
Отставшим страшно было переходить через темную реку: ноги коней спотыкались о мертвые тела, оба берега чернели от трупов. Кони храпели, сердца замирали у людей, узнавая дружков в иных из распростертых тел.
Войска изготовились. Но и теперь, на заре, невозможно было преследовать татар: над землей, как и в прошлое утро, густо висел туман. Впереди ничего не было видно.
Может быть, татары собрались и готовят новый удар? Может быть, они на расстоянии полета стрелы? Может быть, протянутая рука упрется в них?
Томительно ждали. Но это не было вчерашнее ожидание, когда враг шел на виду, когда его подпускали, дрожа от ярости. Теперь ждали тоскливо. Тогда знали, что будет бой, теперь были в предчувствии боя.
Заставы не возвращались. Первая стража давно уже ушла в туман, и не было от нее вестей. Ушла и вторая стража, а вестей не было. Отъезжали, будто в пасть Идолищу.
Солнце поднялось уже на полудень, когда мгла начала помалу рассеиваться. Тогда же вернулась и первая стража. А вслед ей и вторая. Обшарив вокруг, стражники не нашли никаких признаков Орды.
Дмитрий в прежнем порядке, идя в голове, а Пронского и Тимофея Вельяминова держа позади на крыльях, осторожно тронулся вперед. Он ждал засады, обхода, коварных козней Орды.
Туман редел; врага нигде не было.
Конница перешла на рысь. Пешие побежали. Надо было догнать, добить врага!
Но леса безмолвствовали. Просторное Рясское поле раскрылось впереди. Оно было загромождено покинутыми обозами.
Выпряженные телеги, опрокинутые шатры, добро и товары, наваленные на телегах и разбросанные по земле, кибитки и юрты, разбредшийся скот, оружие, кинутое в траве, толпы рабов, укрывшихся за телегами, женщины, с воплями побежавшие прочь. Все богатство непобедимого ордынского войска, опрокинутое и бесчисленное, оставили хозяева, чтобы облегчить прыть своих лошадей, чтобы быстрей уйти от страшного места.
Конные отряды, пренебрегая добычей, кинулись вдогон за врагом. Другие кинулись к пленным, к телегам, к скоту. Иные поволокли визжавших татарок попытать ордынской любви. Ковры и золото из амирских шатров, рабы из-за телег, крики и оклики отовсюду.
Лишь один татарский воин оказался среди захваченных женщин и рабов. Хватаясь за руки и за онучи победителей, он умолял, чтобы прежде смерти его провели к воеводе.
– Мы взяли сотни вас. Не хватит у князя ушей внять каждому, – отвечали воины.
Его легко б убили в бою, но убивать без боя никому не хотелось. И хотя был он вражеским воином, теперь, когда стоял, дергая старым шрамом на скуле, седобородый, к нему относились, как к старику, – участливо и благодушно. Некоторые пробовали говорить ему татарские слова. И радовались и хохотали, когда он понимал их.
Наконец порешили спросить о нем у Пронского.
Князь Данила, еще разгоряченный удачей, широкогрудый, широкобородый, розоволицый, развалился на пушистом ковре и приказал привести пленника.
– Кто ты такой?
– Был десятником Бегича.
– Как зовут?
– Ак-Бугай.
– О таком не слышал.
– Разве можно знать всех в Орде?
– Не сомневайся: знаем!
– О!
– Чего ж ты хочешь?
– Если бы я ушел в Орду, меня там убили бы. Я привык убивать. Но убитым быть мне непривычно.
– Чего же ты хочешь?
– Быть в русском войске.
– Почему ж ты боишься своих?
– Могли меня видеть в битве. Я убил Бегича.
– Что ты бормочешь?
Один из воинов подтвердил:
– Истинно речет, княже: слух был, убили Бегичку. Наши дружинники их бой видали.
Пронский сказал Бугаю:
– Ну-ка подь до поры в мой стан.
Пронский забыл об отдыхе. Вскочил в седло и кинулся к Дмитрию.
Дмитрий прохаживался в поле с Андреем Полоцким, сбивая плетью сухие головки цветов.
– Слыхал ли, Дмитрий Иванович? Сказывают, Бегич-то убит!
Дмитрий ответил спокойно, будто и не могло быть иначе:
– А чего ж ради мы бились, коли дивишься сему?
– А истинно ль?
– Уж у меня в седле и сабля его.
– У меня один татарин кается: сам, говорит, убил.
– Да, как в Коломне дед пел: стали мы бить татар татарами! Досадно сие; я б оставил Бегича: пойдем, мол, мурза, поглядеть Золотую Орду на зеленом ковыле, на русском поле.
Пронский задумался:
– То ему б горше смерти.
А среди телег находились две женщины, которые не отворачивали лица; они радостно смотрели в глаза победителей.
– Батюшки! Откеда ж вы?
– А вы откедова?
– Из Курчавы-села.
– А и где ж оно?
– На небе! Татары на дым его спустили нонеча ночью. Нас волокли-волокли. За день ко второму хозяину попались.
– И целы?
– Целехоньки! Упаси бог!
– А чего ж вы в татарской ветоши-то?
– Да катуни нас обкатали в свои обноски.
– Ну куды ж вас деть?
– А Курчавы нашей уж нет ноне, берите с собой.
– На Москву?
– А то куда же?
– Ну, там разберем куда, курчавушки.
– Ой, кмет, не блазнись!
– А што?
– От татар упаслись ради тебя, что ли ча?
Окольничий Тимофей из погони воротился едва к ночи, настигнув лишь малое число раненых и пеших – остальные сгинули. И лишь следы по земле да поразбросанные в бегстве пожитки показывали их путь.
Дмитрий улыбнулся Полоцкому:
– Вот как оно вышло, Андрей Ольгердыч.
– Готовясь, рассчитывай на худшее. Это говорил мой дед Гедимин.
– Я эти слова знал! – засмеялся Дмитрий.
– Ими ты и победил. Иначе не был бы так тверд и уверен.
– Это еще в писании: Спаса проси, а себя сам паси…
Стояли на месте битвы три дня.
Попы отпевали павших. В светлое небо поднимался ладанный дым. Укладывали раненых на телеги.
Собирали разбредшийся по лесам скот. Увязывали добычу в телеги. Рыли ямы братских могил.
Впереди войск Дмитрий отстоял отпевание. Кинул горькую горсть земли в наполненную телами могилу.
Небо было светло. Коршуны низко кружили на плавных крыльях.
Дмитрий приказал трубить поход. Трубачи подняли длинные тяжелые трубы, и это поле в последний раз услышало их долгий звериный рев.
Пятнадцатая глава
КОЛОМНА
По улице, заросшей травой, мирно вились тропинки. Синеватой плесенью оброс сруб колодца. У колодца стояли женщины. Воды не черпали, бадей возле них не было.
Кирилл шел, оглядывая плетень, частоколы, серые стены изб. Где тут ее стена, ее огород? Вслушивался: не прозвучит ли где-нибудь ее голос.
Одна из баб крикнула:
– Не с торгу ль, удалец?
– А по чем угадала удальца?
– По ухватке да по поглядке.
– Зорка!
– Не с торгу ль?
– Оттоль.
– Что там про войну слыхать?
– Побьют татаровей.
– Ужли ж?
– А нешь нет?
– Кто же знает?
– Знаю, побьют. На торгу татарина поймали.
– Ой, господи!
– Поймали! Минула беда.
– Ну, слава те, господи! А мы все слухаем, не завопит ли кто.
– А тогда что?
– Бежать станем.
– Куда ж?
– В леса. Там не сыщут.
– А ежли…
– Загрызем! Все одно – не дадимся.
– А не все ль одно – мужик ведь!
– Сказал! Татарин-то?
– А ваши-то где?
– А на татар пошли.
Кирилл подумал: «Будто на медведя пошли али на бобра. Ох, бабы!»
– А где тут Анюта-вдовка живет? Вестно?
– А те на што?
– Да я ей давал порты стирать.
– Ой, молодец, давно, видать, дал!
– А что?
– Да ей тут уж год нету.
– Чего ж так?
– Да она одного молодца на казнь подвела – засрамили.
– А что за молодец?
– К ней один расстрига сватался, а она его – назад в монастырь.
– А! – смекнул Кирилл. – А куда?
– Да не то в Рязань, не то в березань.
– А все ж таки?
– К родителям.
Сердце остановилось: умерла?
Но баба разговорилась:
– У нее отец там гдей-то, на хлебном торгу прикащиком.
– А! Ну счастливо вам жить, бабоньки!
– Да мы и так не тужим. Тебя вот жаль.
– Ну-ка?
– Пропали порты-то – в Рязань увезла!
У колодца засмеялись. А Кирилл подумал: «Истинно: душу мою отстирала от пакости».
Он снова спросил, но суровее:
– Так верно, хохотухи, что уехала?
– Ну верно, верно. Перед Ильиным днем купцы туда с обозом ехали, так и она с ними. Вот уж другой год пошел.
– А где ж ее дом-то?
– А пониже к речке. Эна, отсель видать – крыша соломляная.
Баба подняла руку, указывая туда, и Кирилл приметил: статна молодка. А может, тоже сейчас вдовкой станет. А может, и не чует, что уж стала вдовой?
Он поклонился ей и пошел. Свернул в боковую улочку и, еле пролезая между двумя заборами, пошел к соломенному верху Анютиной избы.
За тыном под яблоней рылись в земле цыплята и прыснули прочь, когда он распахнул калитку.
Пожилая женщина строго и опасливо смотрела ему навстречу.
– Здравствуй, сестрица!
Женщина молча поклонилась. Нехорошо было сразу приступать к делу, но женщина была одна, смотрела опасливо, дни стояли тревожные, и Кирилл заспешил:
– Я об Анне думал спросить. Где она?
– А почто?
– Она постирать обещалась, так я зашел.
– Давно уж ее тут нету.
– А где ж она?
– Постирать-то и я могу. Приноси, ладно.
Он повернулся, чтоб идти, и, будто нехотя, спросил:
– А куда ж она, Анна-то, делась?
– К брату переехала. На Рязань.
– Он у нее что ж, в самом городе?
– В Затынной слободе. Огородник.
– Он что ж, не жил тут, что ли? Чтой-то я его не знаю. Как звать-то?
– Горденей.
– Не слыхал.
– Да он тут мало и жил. И Анна-то ведь рязаночка. Сюда замуж отдана. А жизни-то и не вышло.
– Как это?
– Так, милой, какая ж жизнь: полтора года с мужем прожила, мужа убили. И не рассмотрела мужика, а уж овдовела. Третий год вдова. У брата жена теперь померла, поехала за его ребятами приглядеть. В чужой семье молодой бабе разве жизнь?
Сколько годов Кирилл ничего не слышал о ней. Все, чего недоставало, выведал.
– А ты-то, сестрица, чего тут?
– А нас она на постой пустила. Деревню нашу сожгли. Муж – старик. Я у него третья жена. Он на плоту. Игнатий Вожжа. Нешь не знаешь?
– Как не знать!
– Ну то-то!
– Ну прости, сестрица.
– Так приноси, постираю.
– Принесу.
Он вышел. Стало так просторно вдруг. Шел и думал: куда ж идти? Только теперь понял, что для нее сюда шел, что без нее тут нечего делать.
День клонился к закату. Позолоченный маковец на Воскресении загорелся красным огнем. Но с Устья опять потянуло сырою мглой.
В корчме было людно. Всюду было людно – в банях, в церквах, в корчмах.
Он сел у самой двери. Корчмарь подошел услужливо и льстиво:
– Али горлушко пересохло?
– Нет. Дай сперва так посидеть.
– А то нонче баранинка вельми хороша.
– Ну, не обидь!
– Да уж пойду поищу. С хреном будешь?
– А ты уговорлив!
– Дело такое.
– Ну, к хрену и медку поднеси.
– Да без питья какое ж угощенье.
Кирилл смотрел, как не спеша наплывает вечер.
Старик в высоком кругловерхом странническом колпаке, с берестяной кошелкой за плечами вошел, постукивая палкой, как слепец, но зорко оглядел застольников. Он примостился невдалеке от Кирилла. Сидя так среди говоров и хмельных возгласов, старик отдышался и негромко предложил:
– А может, побывальщину спеть?
И словно волна тишины захлестнула всех. И голос певца, сначала, у запева, нетвердый, прояснялся, светлел, разрастался. Размеренно и спокойно, как река, текла песня, как длинная дорога вела.
Дороги тянутся далеко… Ушла Анюта, унесла свой стыд. Застыдили бабу. Застыдили за предательство милого. А был ли он ей мил? Да и она только теперь стала ему так мила, что сердце ссохлось…
А ведь хаживала среди этих стен, голосила по покойнику-мужу, сокрушалась о Кирилле, когда схватили. Стены стоят, на которые ее тень ложилась. А ее уж нет. И след ее в пыли потерялся, и голос ее здесь отзвучал. И какова она, пожалуй, сразу не вспомнишь. Запомнилось только, что из-под повойника на висках у нее всегда выбивались золотистые колоски волос и скулы были покрыты коричневыми волосками. А в углах рта – глубокие и влажные ямки. И вдруг вся она встала под мерную песню странника. Ее взгляд из-под густых бровей: темный, пристальный, молчаливый взор. Широкий подбородок и широкая шея. И прямые, не по-бабьи крутые плечи. И высокие, будто девичьи, груди под расшитой холстиной. А старик пел, как Алеша Попович уговаривается с Батыгой:
Ну уж ты, Батыга, поганый пес,
Не замай ты города Киева,
Не мути ты матушку Непрь-реку,
А спусти татар в красен Киев-град.
Пусть казнят бояр, пущай вешают,
Пусть купцов-жильцов потрясут слегка.
Ворошите у них злато-серебро,
Вы берите у них добрых коней,
Порушьте терема златоверхие.
И пока ехали татары в Киев, пока рушили терема, и городовые стены, и соборы, пока возвращались с несметной добычей из разоренного края стемнело.
Светлые космы певца тихо покачивались в лад песне. Он пел строго, но спокойно, все это было давно, иначе к не могло случиться. Но Алеша увидел, что не сдержал Батыга зарока: пожег всю страну, погубил Киев и замутил русской кровью Непрядь-реку. Старческий голос вдруг возрос и наполнился неожиданной силой; сердца слушателей дрогнули, словно вся песня складывалась сейчас и надо каждому кинуться на неверного пса Батыгу, схватить обманщика за ноги и, как топором в лесу, прочищать себе улицу сквозь войска татарские, доколе Батыга не взмолится:
Укроти ты свое ретиво сердце,
Опусти-ка свои руки белые,
Оставь ты мне хоть на приплод татар,
Оставь мне поганых хоть на семена.
И кто-то вздохнул из глубины корчмы:
– Хорошо б с корнем, чтоб и на семена не осталось!
А корчмарь между тем раздул бересту на угольке и затеплил светец. Кирилл увидел, что ковш его давно выпит да и баранина съедена, и, видно, мешал чего-нибудь хозяин к меду для крепости – в голове ныло и ломило в висках.
Певец взял из рук хозяина чашку и ломоть хлеба и пошел к двери. Кирилл следил за ним.
Старик сел на порог и в теплой мгле сумерек покрошил хлеб в похлебку. Когда ломти напитались, он костлявыми черными пальцами доставал их из чашки и не спеша ел, а жижу допил через край. Кирилл наклонился к нему:
– Отколь у тебя, дедка, сила петь?
– Изнутри, детка.
– Видно, широко у тебя нутро!
– Хоть и не ширше матушки-Руси, а будто с ней вровень.
– Спасибо тебе, дедушка.
– А за что ж, милый? У тебя нешь не такое же?
– А кто его знает? Недомыслил того.
– А ты домысли – горек человек, ежели всей Руси не вмещает, горше татарина.
Старик протянул обратно корчмарю свою чашку:
– Прими, добрый человек.
– А ты куда ж?
– В путь надо.
– К ночи-то?
– Слепцу и день темен. А зрячий свой путь и во тьме зрит.
– А все, думаю, боязно?
– Боязней того на бой идти. А тыщи людей пошли, убоя не убоялись. Чего ж опасаться единому да ветхому?
– Да не в бой ведь выходишь.
– В бой, сыне, в бой! Кто копьем, кто разумом, а кто голосом свой удар несет. Пойду: может, еще где спою. А там уж и заночую.
Он ушел, постукивая посохом. Его страннический колпак уже потерялся во мгле, когда Кирилл вскочил и заспешил вслед.
– Дедка!
– Ась?
– Дозволь спросить. Ты про татар пел, про то, как русский богатырь позволил им в Киеве бояр да князя грабить? О чем тут сказ? Не разумею я.
– Запомни: Киева-града, Руси богатырь не велел касаться! Но враг разве разбирает, где правый, где виноватый! Сам хрестьянского врага хрестьянской рукой души. А врага на помогу не кличь – чужой рукой Русь не поправишь. Вот о чем тот сказ.
– А можно поправить?
– Пытлив больно!
– А думаю, было время, когда ни купцов, ни князей не было, так жили.
– Было. Народ, сказывают, тогда по лесам жил. Их не было, так жили.
– А будет когда, что никого их не будет?
Старик покачал головой, наблюдая за Кириллом:
– Так, видно, богу надобно, чтоб были.
– Нигде того не писано – про русских князей.
– Не писано? – улыбнулся старик. – А попы ж говорят!
– Читал, как убивали князей. Брутий убил кесаря. Многих римских кесарей убивали. А может, то и у русских было, но нигде о том не записано!
– А ты, вижу, книгочей!
– Дмитрий, коли победит, высоко занесется. Из наших костей башни ставить надумает!
– Дмитрия не станет – Василий станет, что у него растет. А доколе князья башни городят, не жди пощады нашим костям! Может, народ поймет, что силен князь народом. А коли народ своей силы князю не даст, где ее взять князю?
– Так как же ж быть, дедко?
– Надо народу свою силу познать. А на то надобно время. На досуге с князем спорь, а коли враг у ворот, держись за князя. Но время свое знай да ступай в корчму обратно. Корчмарю-то небось не заплатил?
– Ну прощай, дедка.
– Иди, иди.
Кирилл в корчму не вернулся. Он шел в тумане, раздумывая: «Бабы да я – только мы не несем в эти дни страды. Гоже ли таиться у корчмарева светца при моей могуте, при моих силах?»
Он вспомнил, как тосковал в Царьграде по родине…
«Душно без родины. А ежли теперь побьют, пуще насядут на нас татары».
С площади донесся гул голосов, и Кирилл остановился. Неожиданно в темноте заблаговестили. Что означал неурочный этот звон? Он заспешил к собору.
Навстречу ему вырвался из тьмы, проскакал и сгинул во тьме всадник. И еще несколько всадников промчалось вслед.
– Гонец!
Кирилл кинулся бежать к народу. В церквах звонили. Попы служили молебны о ниспослании победы. Меняя коня, гонец успел сказать всем, что битва началась. Город наполнился криками:
– Бьются!
– Где же?
– Верст за семьдесят.
– А как?
– Послали только сказать, что встретились.
Заголосили, запричитали бабы. Со всех сторон потек их разноголосый протяжный вой.
А гонец, охраняемый стражей, уже мчался с вестью где-то во тьме, лесными просеками, к Москве, и звери кидались прочь от неистовой быстроты коней.
Всю ночь принимались звонить. Церкви не пустели. Каждый спешил от себя поставить свечу, заказать молебен.
К утру в Коломне сменился второй гонец.
– Наши берут!
– Ой, правда ли?
– Господи! Слава тебе!
– Возьмут, не сумлевайтесь. Поганцы побегли.
– Батюшки! А ваших коломенских никого не видал?
– Где ж там видать!
– А Мишу Кувердю не знаешь?
– Не слыхал.
– И Прошу не знаешь?
– Да нет. Я суждальский.
– Так бьют, значит?
– Бьют окаянных.
– Ну сохрани тебя господи!
Днем уже знали: войска кинулись преследовать бегущих татар.
С деревьев летели листья. Повсюду звонили колокола, всюду гудели веселые говоры и переклички; казалось, что это весенний пасхальный день, полный торжественного звона, досуга и радости.
Еще войска Дмитрия не ушли с Вожи, а в Коломну уже начали прибывать очевидцы боя. Их встречали нарасхват, и в их рассказах правда мешалась с мечтой, благо верили всякому слову.
– Побито татар, братия, тьма. Потоплено да потоптано тьма. Несть числа. И всех князей татарских побили. Теперь иссякнет Орда!
Мчались гонцы. Наспех меняли коней, спешили к Москве. Между воинами шел спор:
– Ты слазь. Мне скакать на Москву, я уж отдохнул.
– А я и сам не притомился.
– Семьдесят верст-то проскакавши?
– Сам поскачу, слыхал? Коня!
И гонец пропадал, оставляя позади лишь затихающий топот.
Кирилл смотрел им вслед. Москва за лесами.