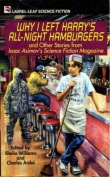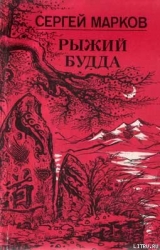
Текст книги "Рыжий Будда"
Автор книги: Сергей Марков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
– Да, к сожалению, мне известно все…
– Ах да, философ, помните, вы говорили, что мне на этом свете недолго жить осталось, верно? Так я сейчас позаботился о том, чтобы люди знали, кто я такой… Вот, Збук сидит здесь, сверхчеловек, как он про себя думает, а я убежден, что он – сверхживотное… Впрочем, о присутствующих не говорят. Я бы его давно мог повесить, но берегу… Берегу его, философ, для важных дел. Збук, покажитесь философу поближе. И потом, почему вы все время роетесь у себя за пазухой? Так вот, философ, Збук пишет историю моей жизни. Лучше автора не найдешь. Ведь он – циник. Слог легкий, остроумный и, главное, без прикрас… Все, как в жизни, без прикрас. Ценить надо таких людей… А вот саль… саль… ну, как вы там говорили про хвост?
– Сальпинготус Козлови, – подсказал философ.
– Так вот, сальпинготус, я думаю, что тут не с хвоста надо начинать, не хвост рубить, а?… Ну, сами догадайтесь, как надо делать в таких случаях?
– Не знаю, – глухо ответил гость и погладил ладонью пыльные бархатные сапоги.
– Чудак вы, философ, – захохотал Юнг и замахал рукой. – Неужели вы не понимаете, что здесь не в хвосте дело, а… в голове? Голову рубить вам надо, дорогой, голову, а не хвост. Не бледнейте только, пожалуйста, я шучу. От себя я вас скоро не отпущу, чем богат, тем и рад, ешьте, пейте, гуляйте со Збуком… Но, знайте, мне надо скоро идти на запад – провиант выходит. Я солдатам даю чингисхановский паек – трех баранов в месяц, но кругом Урги скота остается мало… Кусать надо что-то, двигаться, философ дорогой, приходится. Офицерики мои плачутся, нет им здесь ресторанного житья, к Харбину привыкли… Я одного такого на днях вне закона объявил… Збук, что вы там ерзаете в углу? Сами, кажется, об этом писали…
– Я… я… ничего, барон, – необыкновенно растерянным тоном пробормотал Збук. – Знаете, здесь очень хорошо сидеть. Я детство сейчас вспоминаю, барон… У нас в доме, представьте, в углу обои были оторваны, я их ковырять очень любил.
Юнг оставил в покое Збука и опять повернулся к гостю.
– Так, так, философ… Необычайная встреча, Збук, конечно, ее опишет в моей биографии. Напрасно только вы тогда не дали мне письма к Джа-Ламе, ведь все равно я попал сюда еще раз и, кажется, очень прочно. Дела делаются, философ… Я вам завтра своих молодцов покажу. Свет таких не видывал… Мне только офицерики всю кашу портят, но я на них долго-то и не смотрю. У меня не как у Герцога, порядки другие… У меня – орда, дым, кочевье, переселение народов, но…
Юнг запнулся, поднял палец, взглянул в упор на гостя и закричал:
– Я сказал – но… Знаете, что значит это «но»? Это – палки, пуля, веревка. Я трезво смотрю на вещи. Офицерики недаром рвутся на восток, там они думают в Шанхае, в Дайрене по кабакам ходить, с девочками прохлаждаться, помирать не хочется никому, это закон. Я над ордой один стою, орда на меня кинуться готова, разорвать, жрать хотят, как сто Збуков! Игра идет здесь, философ. Хочется мне многого, много еще и сделаю… Эх, философ! Трогательная картинка, нечего сказать – великий грешник, злодей-садист, как пишут не только кремлевские, а и шанхайские газеты, Юнг разговаривает с местным мудрецом о сальпинготусовых хвостах, а сверхживотное Антон Збук грустит о своем милом детстве.
Барон, наконец, прекратил этот внезапный порыв красноречия и схватил папиросу. Он никогда не говорил так много, как сегодня. Его лоб покрывал пот, шрамы белели, как будто они были выведены мелом.
Гость невозмутимо сидел на прежнем месте, поглаживая свои сапоги. Он над чем-то упорно думал и так же, как Юнг, был бледен и поглощен какой-то одной, тяготившей его мыслью.
– Но, барон, – сказал он громко, хлопнув ладонью по голенищу. – Все это любопытно, я вас с удовольствием слушаю, но мы отходим от сути вопроса. Я приехал к вам с определенной целью – заявить вам, что я не слабее вас. Понимаете, наконец, – гость возвысил голос до крика, – вы обходите этот вопрос, вы издеваетесь… Вы должны считаться со мной… Я не муха и не суслик… а…
– Сальпинготус – сами сказали, – усмехнулся барон. – А кстати, скажите, как вас зовут, мы столько лет знакомы, но имя ваше мне до сих пор неизвестно…
– Известно, барон! Не издевайтесь… Начинайте с головы, не мучайте только! – исступленно вскрикнул гость, и щека его задергалась так, что очки зашатались с одного бока.
– Чего вы кипятитесь? Еще раз говорю, что я не знаю вашего имени…
Гость вскочил со стула. Его худую грудь разрывала какая-то отчаянная решимость, он шатался, уцелевшийна лысине пук волос поднимался вверх очки съехали на конец носа…
– Я вам еще раз говорю, что… Я говорю вам об удивительной цели… У меня, в моем мозгу, родились новые мысли… Новая жизнь мною найдена, скрыта только она за прочными дверями… Дверь эта на одном гвозде держится. Гвоздь хочу отогнуть, да все не могу… пальцы в кровь об него обрываю… Вы – этот гвоздь, барон, вы… А зовут меня как – вы знаете. Тихон Турсуков мое имя… Знаете? Тихон Турсуков. Поняли?
– Как, как вы сказали? – закричал Збук, кинувшись к философу, но Юнг оттолкнул Збука и подошел к Турсукову.
Он долго разглядывал гостя, наклоняя голову, размахивая рукой и все время прихватывая полы халата.
– Ну, убивайте, если хотите, – прошептал Турсуков. – Это легко сделать.
– Зачем же с места в карьер? – усмехнулся Юнг. – Это всегда легко сделать. Действительно, сегодня день каких-то чудес… Збук, уходите отсюда, мы еще поговорим с господином Турсуковым.
Антон Збук, недовольно ворча, вылез из комнаты. Оборотившись на ходу, он успел увидеть странную картину. Юнг взял Турсукова за плечо и что-то сказал ему на ухо.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,
в которую вторгается героиня в лиловых кружевах
Цветок, потерянный в пустыне
Ее окружают измызганные лиловые кружева, она обладает законченным количеством родинок, одна из которых сторожит правый угол рта, а расположение остальных, до некоторого времени, было неизвестно даже и Тихону Турсукову. Ничего, что ее ключицы иногда, когда она худеет, делаются похожими на ручки комода!
Посмотрим на ее лицо. Ее губы всегда сложены так, как будто бы она собирается свистеть, они накрашены, как пасхальное яйцо, а их толщина еще более усиливает это сходство. Остальное – глаза, ресницы – в ее лице обыкновенны, но Тихон Турсуков думает, что она бывает прекрасной, когда закидывает голову.
Героиня носит на шее медальон, формой своей похожий и на сердце и на карточный значок. Медальон болтается всегда меж ее грудей, но, когда она складывает руки, – амулет становится на ребро и выглядывает из образовавшегося гнезда, как потерянный полтинник из щели. Она верит десятку испытанных примет, завивает пряди волос на висках, а при неловком вопросе о ее годах начинает отвлеченный разговор о русско-японской войне.
Ключицы, в виде комодных ручек, вовсе не дают нам права утверждать, что она костлява, вся, как этажерка, вовсе нет. Впрочем, зачем мы будем здесь предавать насмешке вкусы Тихона Турсукова?
Достаточно сказать, что и ключицы, и медальон, и губы принадлежат женщине, носящей имя Фаина.
Турсуков встретил Фаину на улице Кобдо, незадолго до того времени, когда его записки были готовы почти наполовину. Тогда по городу бродили аникинские солдаты, ревели верблюды, слышались отчаянные песни победы, а шпоры крестоносцев, носивших по улицам взятого города чудотворную икону Бузулукской Богоматери, казалось, бороздили песок.
Тогда на одной из глухих улиц города, возле глинобитной стены, из которой прорастала полынь, Турсуков встретил героиню.
Она сидела на плетеной корзинке, подняв колени к подбородку. По шее женщины текли слезы; она закидывала голову, как бы рассматривая прутья раскачивающегося над ее головой зонта, который она держала в руках. Тихон Турсуков не мог видеть равнодушно женских слез, поэтому он слез с лошади и подошел к плачущей.
– Сударыня, – вежливо начал он, кусая усы, – в какой мере я могу помочь вашему горю?
– Ах, какие у вас странные сапоги! – вместо ответа сказала Фаина и опустила голову.
Турсуков смущенно похлопал ручкой нагайки по бархатным голенищам.
– И главное – высокие каблуки… – простонала Фаина и залилась слезами. Потом она подняла глаза, пристально вглядываясь в лицо Турсукова, и, наконец, решилась объяснить причину своего расстройства.
– Вы мужчина солидный, вам можно сказать… Не какой-нибудь Валерка!…
– А кто это такой? – Валерка Сиротинкин из 48-го пехотного… прапорщик… Бросил, негодяй… Меня, сначала, в обоз скачал, сказал, что в Кобдо встретит, а тут третий день ищу, и нет… Коменданту заявляла, так он смеется. А полк на Улясутай ушел… Погубил, негодяй, меня. И, главное, мужчина он особенный, из конторщиков. Ох, чувствовала я это все, долго его к сердцу своему не допускала, перехитрил, все-таки, змей… А комендант языкастый господин, норовит подколоть. Я ему говорю – ну. хоть этот подлец пусть удрал, а где мне еще друзей повидать – Усайлова из прожекторной команды, капитана Высоткевича, хорунжия Тупицына. А комендант смеется в нахальные усы и мне говорит: «Не буду же я вам, мадам, из строя каждого десятого доставать?…» Так и сказал… Я ему со злости отрезала: «У вас, господин капитан, усы лакированные, довольно стыдно вам их ваксить в ваших годах». Повернулась и пошла… Но что ж мне делать теперь? А как клялся Валерка мне, представить себе не можете! Все мне пел: временно отступаем в Китай, я тебе шелков достану… Вот, видите, как достал…
– Да, сударыня, печальная история, – подтвердил Турсуков и, подумав немного, прибавил: – Вы ездить верхом умеете?
– Как же – обучил змей меня, от самой Самары едем, всего бывало… Так зачем это? – растерянно спросила Фаина.
– Я вам хочу предложить приют… Место у меня найдется, живу я сейчас вдвоем с приемным сыном… Поживете, а потом видно будет, я вас к знакомым устрою… Я ведь здесь давно живу.
Тихон Турсуков долго не мог решить впоследствии, откуда пришла к нему эта отчаянная решимость в отношении устройства жизни Фаины. Но они не думали обо всем слишком долго. Турсуков привязал корзинку к седлу, посадил Фаину впереди, а сам сел сзади нее. Она храбро схватилась за переднюю луку одной рукой, а другой подняла над головой зеленый зонт. Тихону Турсукову приходилось править лошадью, перекинув поводья к себе, через локоть Фаины. Жесткий ремень резал розовый сгиб руки, и поэтому. Турсуков, смущаясь, обнял Фаину где-то около подмышек и стал держать повод впереди ее тела, освободив локоть от сыромятного лезвия. Фаина благодарно улыбнулась, и Турсуков заметил на ее шее еще одно созвездие родинок, дотоле не замеченных.
Она показалась ему прекрасной, и он вспомнил о том, что год назад задумал жениться, ибо длительное вдовство успело сгладить печаль потери.
Он был уже влюблен в Фаину.
Шелест лиловых кружев и запах ее пота кружили голову философа. Да, она была прекрасна! Сквозь ее гребенки проходит солнечный свет. Когда она поворачивается к нему, ее волосы касаются щек философа. Зачем ехать за невестой в Кяхту, как ты хотел, Тихон Турсуков? Впереди тебя на седле сидит твое счастье, которое ты нашел, как цветок, потерянный в пустыне.
Как мы видим, Турсуков умел смотреть на мир глазами поэта.
А Фаина делала вид, что она не замечает мгновенного чувства своего спасителя.
Она принадлежала к разряду женщин не просто прекрасных, но в то же время и демонических, в чем была убеждена всю жизнь. Поэтому она испытывала невероятное блаженство, видя, что Турсуков уже успел плениться ею.
Другое дело, что она думала в смысле практического разрешения этого события. В дальнейшем мы узнаем Фаину несколько поближе и, пожалуй, убедимся в ее загадочности. Но сейчас она была невероятно взволнована очередным успехом, хотя тщательно скрывала свое волнение. О чем она говорила первые часы своего знаменательного путешествия с монгольским философом?
Она начала издалека.
– Мне безумно нравится, Тихон Николаевич, то, что у вас некоторые монгольские женщины, как я видела, наклеивают на щеки по две мушки. Ужасно оригинально…
– Да, – пробормотал Турсуков.
– И, знаете, среди них есть очень интересные, конечно, в азиатском вкусе, особы. Как вы находите?
– Угу, ничего, – буркнул философ и в третий раз сосчитал родинки на шее Фаины.
– А вот мужчины местные, – продолжала она уже с некоторым лукавством, – нравятся мне меньше женщин. Вот уж никогда бы не полюбила монгола! Вообще, вы знаете, у меня вкус особый. У меня глаза загадочные – кофейного цвета, и через них двое стрелялись даже, а один умом тронулся… Не могу, говорит, без тебя жить, и все… А я ему отвечаю, что люблю его, как человека, будем, мол, друзьями без разных глупостей… А он одно: так, мол, и так, а не могу… И тронулся ведь, как в аптеке. А тронулся он очень чудно – газетки стал собирать.
– Как так – газетки? – опешил Турсуков.
– Да так, – довольно откликнулась Фаина, – как маленький, стал всякие газетки собирать!… Наберет, наберет целую кучу и сидит объявления читает, а то пойдет менять к кому-нибудь. Я, говорит, вам «Русское слово» дам, а вы мне за него другую какую-нибудь в двойном количестве… И плачет, как ребенок, представьте себе. Мне говорит: вы меня, Фаина Петровна, погубили своей любовью, и я от нее погибаю. Ну, а я, сами посудите, разве виновата? Так и скончался тихо и газетку из рук не выронил. И человек хороший был, в Страховом Обществе «Саламандра» агентом состоял…
На глазах Фаины показались слезы.
– И что я за женщина такая особенная? – спросила она, вертя в руке зонт. – Все через меня с жизнью расстаются, хоть я красотой не отмечена. Вот я какая! – уже с гордостью сказала она, вытирая слезы и улыбаясь. – Мне особенной жизни надо, меня простым чувством нельзя никак увлекать!
– Н-н-да-а… – сказал опять Тихон Турсуков.
На него, по-видимому, слова женщины не произвели желаемого ей впечатления.
Фаина украдкой, насколько ей позволяло ее положение в седле, все время рассматривала своего спутника. Но он был, казалось, невозмутим, и это обстоятельство сразу задело женскую гордость Фаины. Она привыкла к своей неотразимости, она выцарапала бы глаза тому, кто остался бы равнодушным к ее чарам!
Фаина ничем не рисковала в своей вечной игре в демоничность. В ее романах было больше запятых, чем точек. Она искусно расставляла эти запятые на страницах своей книги. Эта «система знаков препинания» была такова: кружа голову чуть ли не первому встречному, пуская в ход все орудия обольщения, она заявляла очередному «безумцу», как только убеждалась, что он уже готов к «безумствам»:
– Знаете что?… Будем с вами только друзьями… Мне любви нужно совсем особенной… – но старалась каждый раз не упускать «безумца» из рук.
Что же касается роли, которую сыграл в жизни Фаины неизвестный нам прапорщик Валерка Сиротинкин, то об этой роли с уверенностью сказать ничего нельзя. Вероятно, Сиротинкин обладал даром какой-нибудь особенной любви.
– А вы с этим, ну, с прапорщиком, что ли, где познакомились? – спросил, сверкнув очками, Турсуков.
– Ах, это был особенный роман, – задохнулась Фаина. – На станции Рузаевка, на вокзале, когда чехи проходили. Вижу, идет смуглый мужчина и, несмотря на молодость, с бородой… А кругом сирень цветет, в трубы играют, а на нем сапоги высокие, блестят, и все в них отражается. Потом поехали в Самару, а уж оттуда временно отступление и началось… Везде проходили мы с ним… Но он ужасно ревнивый, даже к полковым священникам ревновал… Скрипит зубами, и с ним сразу помрачение делается… Ну, бог ему судья!…
– Конечно, Фаина Петровна, – подтвердил серьезно Турсуков. Все еще рассматривая родинки спутницы, он что-то все время обдумывал.
Так они ехали степью, разговаривая о войне, о любви и изменах.
– Долго нам еще осталось? – беспокойно спросила Фаина.
– Нет, нам осталось совсем немного, – ответил философ странным голосом и вдруг поцеловал Фаину в висок, потому что она успела увернуться.
– Ах, что вы делаете? – вскрикнули лиловые кружева. – Я не люблю поцелуев… будем друзьями!…
– А это там посмотрим! – весело крикнул Турсуков и храбро прижался губами к ее груди.
– Ах, постойте, – крикнула Фаина. – Вы медальон зубами откусите. Ну какой он страстный, – забормотала она, делая вид, что старается освободиться из его объятий.
Так к Тихону Турсукову пришло счастье, потерянное кем-то, но найденное им в пустыне.
К концу этого знаменательного для обоих дня они приехали в дом философа. Домбо, встретивший их у дверей, удивленно посмотрел на Фаину.
– А это кто? – спросила она.
– Это мой приемный сын, – ответил Турсуков. – Я тоже нашел его в пустыне, – выразительно добавил философ. – Будем друзьями, – весело сказала Фаина. – Ах, я его немного только старше. Сколько вам лет?
– Ах, а мне двадцать восемь!… – я старуха, – простонала Фаина и пошла умываться.
– Что это? – в свою очередь ревниво спросил Домбо отца.
– Молчи, мальчик, ты ничего не понимаешь, – весело сказал Турсуков.
Так Фаина поселилась в доме Турсукова.
Выражаясь образно, она вошла в дом философа, как лиловое облако, опустившееся в глухое и пустынное ущелье. В комнатах вдовца, в этом строгом убежище великой мысли, сейчас висели чулки, а на столе лежал розовый слой просыпанной пудры. Все это трогало Турсукова, он рассматривал и чулки и гребенки, а на столе, покрытом пудрой, даже как-то вывел указательным пальцем большую, похожую на сложенные ножницы, букву «Ф». Потом он как-то увидел висевшую на спинке стула кофту Фаины; кофта лилась вниз, как вода. При этом она была прозрачна и матова. Философ поймал ладонями рукав чудесной кофты и стал любоваться ее переливами.
– Крепдешин, Тихон Николаевич, – сказала Фаина, причесываясь у зеркала. – Валерка в Самаре подарил.
– Ну, Фаина, – недовольно проговорил Тихон Турсуков, – охота вам вспоминать всех прапорщиков? У вас началась новая жизнь, надо забывать старое… И потом, потом, – философ запнулся, – ведь вы встретили меня…
– Ну, не буду, Тихон Николаевич, – откликнулась Фаина. – Я только вспомнила к слову… Идите сюда.
Он медленно подошел к женщине. Фаина закинула голову и провела ладонью по его вискам.
– Глазки, глазки какие синенькие… – забормотала она. – Ну, не надо, не надо сердиться.
Турсуков блаженно улыбнулся и протянул руку к Фаине, но она уклонилась от объятия.
– Не надо этого делать, у нас с вами совсем особенные отношения.
Турсуков резко отпрянул от нее. Лопатки его шевелились, скулы покрылись густым румянцем. Он медленно ушел в другую комнату. Для него была ясна вся позорная фальшь своего положения. Он схватил книгу с голубыми линейками, начал писать, но пролил тушь. Он положил пальцы на стучащие виски, потом собрал перья. Турсуков не мог писать.
«Творчество не уравновешено любовью», – подумал он, оделся и позвал Домбо.
– Мальчик, пойдем прогуляться, – пригласил Турсуков.
Они пошли в степь, за факторию, к берегу реки. Домбо понимал, в чем дело, вернее, не понимал, а чувствовал, но ничего не говорил отцу, щадя его. Такие прогулки становились время от времени более частыми.
Между тем Фаина жила в доме Турсукова и при этом проявляла заботливость и уменье хозяйки. Она вымыла комнаты, вытерла щеки Наполеона, ибо портреты успело затянуть паутиной, зашила русскую одежду Домбо, которую он носил мало, и, в свою очередь, развесила у себя в комнате картинки из модных журналов.
Она искренне выполняла роль хозяйки дома. Все это легко объясняется тем, что Фаину очень притянула к себе одна особенность жизни Турсукова. Приходится иметь в виду его записки.
Узнав об этих записках, Фаина прониклась к ним благоговением и сразу решила, что Тихон Турсуков не такой, как остальные.
Она слишком ценила себя, свою демоничность и старалась за все эти свои качества получить наиболее высокую цену. Она была женщиной прежде всего.
По ее рассуждениям, Тихон Турсуков все-таки, благодаря своим запискам, был человеком, конечно, необыкновенным. А разве не лестно женщине загадочной быть близкой к такому человеку? И, ничем не рискуя, держать его в руках?
Как-то она попросила Турсукова прочесть ей записки, но он горячо воспротивился этому. Он, очевидно, боялся плена женщины, боялся того, чтобы этот плен не распространился на его вторую жизнь. Его служение истории не должно ни в чем зависеть от женщины, от ее губ, гребенок и лиловых кружев, как бы он ни хорошо относился к ней. Это было глубоким, чисто мужским чувством.
– Пусть я ее буду целовать… Пусть я задыхаюсь от поцелуев, все это хорошо. Но вот эта жизнь должна остаться неприкосновенной!
Но у Фаины были совершенно другие взгляды на эти вещи.
В своей женской гордыне она не могла потерпеть такого пренебрежения к своей особе. Как бы она хотела, чтобы Тихон Турсуков посвятил свои записки только одной ей! Поэтому понятно, что она считала турсуковскую летопись делом великим, хотя он Фаине их и не думал показывать.
Она, блестя глазами, придумывала, как ей осуществить свое заветное желание и прочесть всю книгу украдкой от автора.
– Тихон Николаевич, – сказала она, решившись, наконец, на этот подвиг. – Вы, кажется, хотели в Ургу съездить?
– Нет, – почему-то вздрогнул Турсуков, – почему вы думаете, что я хочу туда ехать?
– Ах, я по глазам чувствовала, что вы собираетесь, – застонала, как всегда, Фаина.
– Нет, я в Ургу не поеду, – коротко ответил Турсуков. – Вот Домбо съездит в одно место.
– Но я не могла ошибиться, я ведь всегда все чувствую, – настаивал цветок, найденный в пустыне.
И все-таки Фаина восторжествовала.
Она улучила время, когда Турсуков уехал не в Ургу, а на соседнюю факторию, и, запершись в комнате, открыла заветную книгу.
Пробежав ее всю, Фаина, молча, стала кусать роговую шпильку и дергать плечами. У ней до сих пор в сердце тлела слабая надежда на то, что все-таки она прочтет свое имя здесь, но этого не случилось, и Фаина, искусав одну шпильку, принялась за вторую.
Убедившись в том, что об ней в летописи нет ни слова, Фаина сунула книгу в ящик стола и стала обдумывать план дальнейших действий.
Ей пришлось много передумать, и, наконец, она, облегченно вздохнув, поправила прическу и сложила губы так, как будто бы хотела свистнуть.
В этот день она была чрезмерно весела, настолько, что даже Домбо отнесся к этому с опаской, когда Фаина, дожидаясь приезда Турсукова, в неестественном возбуждении стала играть с молодым монголом в жмурки. Она визжала, когда Домбо находил ее в углу комнаты и стыдливо снимал повязку с глаз, как только чувствовал, что ее тело порывисто дышит и двигается в его руках. Зато сама Фаина, поймав Домбо, прижималась к нему грудью так, что он слышал, как дыхание женщины совпадает с упругим подрагиванием тела.
За этим занятием застал их Турсуков и сразу почему-то потемнел и нахмурился, кусая усы.
– Тихон Николаевич, у нас так интересно здесь, мы играем в жмурки вдвоем, – бросилась к нему Фаина.
– Вижу, – пробурчал философ.
– Давайте и вы играть, – предложила она.
– Ну, нет, – вырвалось у Турсукова. Он все время кусал усы, прошел в свою комнату, куда за ним последовал смущенный Домбо.
– Русский отец… она сама… – пробормотал юноша.
– Что ты, мальчик, – остановил его Турсуков, – играйте, сколько хотите.
Весь этот вечер Турсуков был особенно задумчив и хмур.
Когда Домбо лег спать, в комнату философа бесшумно скользнула Фаина. Наш мудрец вздрогнул от неожиданности, увидев ее белую фигуру.
– Тс-с! Это я, мой милый, – прошептала Фаина, закрывая за собою дверь. Слабый звон крючка показался Турсукову музыкой, от которой можно сойти с ума.
– Домбо спит… темно… тихо, – женщина приближала лицо к Турсукову. Несмотря на темноту, он увидел ее глаза и шевелящиеся губы.
– Тихо, – уже бессмысленно прошептала в последний раз Фаина и вдруг сама обняла Турсукова.
У него замерло сердце, ему казалось, что он оступился с какой-то лестницы.
Они до утра бормотали любовный вздор. Фаина на самом рассвете утомленно погладила руку философа.
– Волосатый… счастливый… – пробормотала она и вдруг, ощутив прибой нежности, добавила: – Ах ты… Канишка мой!
Турсуков изумленно поднялся на локте и спросил сквозь растрепанные усы:
– А ты… откуда знаешь про Канишку?
Фаина спохватилась, поняв, что теперь Турсуков узнал о том, что она читала его книгу. Она быстро поправила положение и закрыла рот философа поцелуем. Но он был настойчив, и Фаине пришлось применить все свое искусство для того, чтобы замять неприятный разговор. – Что с тобой? – уже днем тревожно допытывалась Фаина, видя, что Турсуков вел себя очень странно. – Все утро ты прямо как будто прощаешься со всем… Ну не надо, не надо… Мой…
– Канишка, – докончил, криво усмехаясь, Турсуков.
Он сразу с утра засел за свои бумаги. Книгу с голубыми линейками он бережно завернул в кусок зеленого коленкора и перевязал сверху бечевкой.
– Домбо, – позвал он юношу. – Мальчик, я поручаю тебе хранить эту книгу, как золото. А вот здесь, в отдельной связке, остальные бумаги. Вот «Состояние скотоводства в Монголии»… «К вопросу о китайской торговой конкуренции», «Россия и Урянхайский край». Погоди… Я не знаю, куда у меня девались вырезки из кяхтинской газеты…
– Что такое, отец? Ты нас покидаешь? – побледнел Домбо. – Покидаешь меня.
– Не волнуйся, мальчик, – и Турсуков принялся опять перебирать свои бумаги.
Фаина стояла рядом с Домбо и так же пытливо, как и он, следила за движениями философа. Легкий румянец блуждал по ее щекам, она разглядывала любовные синяки на своих руках. Медальон прыгал на ее груди.
– Вот они, – Турсуков вытащил вырезки и бережно завернул их в отдельную бумагу.
Потом он достал лист белой бумаги и придвинул к себе чернильницу.
– Друзья, – мягко сказал он Домбо и Фаине. – Я сейчас буду писать очень важное письмо. Идите пока к себе.
Юноша и Фаина вышли из комнаты. Лиловые кружева тревожно дрожали; женщина чувствовала, что сейчас должно совершиться что-то необычное и странное. Из комнаты Турсукова летел легкий бумажный шум. Он, очевидно, рвал какие-то листы, бросая их после на пол.
– Что задумал твой отец? – спросила Фаина юношу. Тот ответил задумчиво:
– Не знаю.
Между тем Турсуков кончил писать, достал конверт и поднес к губам для того, чтобы провести языком по его краям. Тут он внезапно задумался настолько, что забыл о конверте и лизнул вместо него собственный рукав.
Турсуков раздраженно плюнул и потемнел еще больше, услышав за дверью душный шепот Фаины.
«Старый дурак, – быстро подумал он, – нашел бабу, начал с ней возиться в какое время… Раскис, а она уже начинает лезть в большие дела, к запискам подбирается. А не угодно ли вам, господин Турсуков, бросить всю эту музыку и сделать самое трудное дело? Совершите сначала самое трудное, а потом прохлаждайтесь… Тогда все можно будет, тогда вы, Турсуков, на все право будете иметь… Страшно, страшно, когда тебя Канишками начинают называть!… Пал, пал, – на этом месте Турсуков схватился за усы, – пал. Ничего большого не сделал. А падать нужно, уж если падать, так хоть с. высоты!… Тогда можно все оправдать, все уравновешено будет, а тут Падение с болотной кочки в трясину. Скобелев, говорят, рядом с развратной бабой умер, так хоть он смерть в боях раньше видел, а тут боями не пахнет. Жизнь штука не простая, вершины нужны, а уж после высот можно и в тени полежать… Но она – дьявол баба, а? Какие слова шепчет? И перед Домбо неловко – я как вор какой».
Он вспомнил утреннее пробуждение, ворох лиловых кружев, брошенных на стул, розовые рубцы от тесемок на ее плечах, просьбы застегнуть кнопки на спине.
«Вот Скотт, Нансен, Амундсен, – продолжал думать Турсуков, – они к полюсу шли от семьи, от женщины. Там женщин не встретишь, вот где высота духа. Ведь все около нее, проклятой, вертится. Эх, вдовец несчастный. Но зачем она вдруг сама постучалась? Черт их сам не разберет – капризы. Но нет, одного не позволю, любовь – любовью, бешенство – бешенством, но высокие вещи должны быть неприкосновенными. Вот я покажу Канишек!»
– Идите сюда, – позвал он Фаину и Домбо. Они вошли.
– Слушайте, – начал Турсуков и вдруг замолчал. Ему пришла новая мысль. И Нансен и Скотт уходили туда, на великие подвиги, для того, чтобы очистить жизнь. О, значит, стремление к подвигам – гордый побег, желание возвысить дух. Этим все объясняется… Великая тяга открывания, лихорадка героев. И я, слабый человек в очках, должен сделать то, что задумал давно. Я не должен быть слабее, я скажу все прямо, не боясь! – Что, русский отец? – взволнованно спросил Домбо, наклонив голову в ожидании ответа.
– Мальчик и… вы, Фаина, – Турсуков постеснялся сказать Фаине «ты» в присутствии Домбо. – Вы возьмете это письмо и уедете с ним сегодня же в Красный Дом… Домбо, погоди, погоди. Вы будете меня дожидаться там, я останусь здесь. Я не хочу вас подвергать опасности… Впрочем, что я говорю, мальчик? Не так… Я вернусь к вам обоим, я в этом уверен. Там вас приютят, сделают все, и тогда мы все вместе вернемся сюда, но все будет по-другому. Фаина, не нервничайте, не волнуйтесь зря….. Я уже просил знакомых колонистов-соседей хранить имущество. Домбо, ты возьмешь двух лошадей, одну, которую ты нашел, и вороную, смирную – для Фаины. Потом я отдам тебе карабин, ты его пока разбери, а потом составь, когда минуешь опасную полосу. А мне оружия не надо…
– Ах, я так и знала, – всплеснула руками Фаина, – ну, что он хочет делать, Домбо? Ну, скажи скорее, что он задумал? Тихон Николаевич; не делайте глупостей.
Она начала обнимать Турсукова, смутным инстинктом постигая, что он задумал сделать действительно что-то необыкновенное.
Турсуков оторвал от себя руки Фаины и ушел в угол комнаты.
– Сядем, посидим, – сказал он оттуда глухо. – Почему вы, Фаина, так волнуетесь?
– Так ведь это все через меня, – убежденно сказала Фаина. – Что я за женщина такая, что всякие несчастия на всех накликаю?! Вы смотрите не застрелитесь. Один из-за меня насквозь себя прострелил.
– Не беспокойтесь, я стреляться не собираюсь. Не хмурься, Домбо, ты мужчина. Вы – чудачка. Ну, зачем я буду стреляться?
– Все от меня полной страсти добиваются, – смущенно пробормотала женщина, взглянув на Домбо.
– Ну и что же? – даже с оттенком любопытства спросил философ.
Фаина сбивчиво объяснила, что люди, которые любили ее, всегда, ввиду ее загадочности, все время ждали от нее самого высшего проявления любви, на которое она способна. Причиной того была, главным образом, только одна фраза, которую часто употребляла Фаина в разговоре со своими любовниками:
– Я еще не так бы вас могла любить, но…
Дальше Фаина обыкновенно не договаривала, а заламывала руки и искоса поглядывала на своих собеседников. По ее уверениям, они после этого худели, теряли аппетит и вслед за этим старались найти в револьверном стволе средство избавления от страшной загадки.