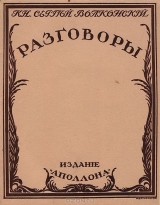
Текст книги "Разговоры"
Автор книги: Сергей Волконский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
– Чего иного?
– Да я не могу больше смотреть на ваш реальный театр, не могу больше видеть эти папироски, эти спички, которые зажигаются и бросаются в камин с такою «естественностью, как будто в жизни», эти допитые и недопитые стаканы чаю «с лимоном или без лимона». Я не хочу видеть повторения жизни, дайте мне на сцене то, чего в жизни нет. Человек может осуществить, зачем же он не осуществляет? Зачем он своим телом осуществляет сморкание в пальцы, когда можно воплощать стремление души? Вот чего я не понимаю. Что столь малым довольствуются, что на этом мирятся, что выше этого не поднимаются вожделения и что восторги партеров и райков не зажигаются более ценным огнем. Боже мой, что мы только теряем, чего себя лишаем!.. Вот приедет Далькроз со своей школой, вы увидите, что такое человек, когда он повинуется музыке. Наша опера, наша драма – все это лишь намек на то, что могло бы быть. И то, разве минус может быть «намеком» на плюс?.. Впрочем, понемногу начинают понимать. Вы знаете, что Макс Рейнгардт предложил Далькрозу поставить хоры для предстоящей постановки «Орестеи» в Мюнхене?
– И что же?
– Отказался.
– Почему?
– Потому что для того, чтобы иметь ритмический хор, надо иметь ритмических хористов. И что же, наконец, за зрелище, когда хор будет ритмичен, а во всем остальном будет произвол случайности? Подумайте, какой «ансамбль» – чтобы употребить ужаснейшее любимое слово наших рецензентов.
– А я на днях читал интересную заметку. Одна из московских газет давала рецензию о дебюте баритона Бакланова в «Демоне». Подчеркивая успехи, которые певец сделал за время пребывания в Америке, рецензент ставит вопрос: уж не пошел ли он по стопам Жака Далькроза, «русским адептом которого является князь Волконский»? До такой степени, оказывается, поражает в нем соответствие ритмики пластического движения с ритмикой музыкального движения.
– Интересно, что в газете на эту сторону искусства обращено внимание.
– Не правда ли? Я сейчас подумал о вас. Ведь это в первый раз намек на ритмику.
– В газете – да, в первый раз, но это не первое указание в нашей литературе.
– А? Уже были указания?
– Были, были… Прежде всего, у Вячеслава Иванова много об этом, но еще смутно: «пляска», «ритмически движущаяся толпа»… Только все это в связи с «соборным действом»…
– Ну да, чепуха.
– Нет, нет, нет – не чепуха. А только я еще не дошел до этого, понимаете, сам не дошел. Я не могу считать своим то, до чего другие дошли, пока не дойду сам. Понимаете?
– Понимаю вообще, но в данном случае?
– А в данном случае вот что: «соборное действо», «преодоление сцены» и подобная, как некоторые говорят, «чепуха» казались мне всегда чем-то трансцендентным, далеким, таким, что другие выдумали и ведут мне навстречу; когда же я увидел ритмическую гимнастику, я понял, что я сам иду к этому: я вполне ощутил «соборность» действа.
– То есть?
– То есть что это не они производят, а я, мы, все; что это только случайность, что я сижу и смотрю, а на самом деле нет разницы между мной, смотрящим, и ими, производящими.
– Однако они умеют, а вы бы не сумели, если бы вздумали к ним присоединиться?
– Это придет. Когда проникнет в плоть и кровь, тогда и «уметь» не надо будет, достаточно будет быть.
– Ох, страшно за вами идти, начинается неясное…
– Ну, когда приедет Далькроз со своими учениками…
– А когда?
– Первое представление в Художественном 15 января… Когда он приедет, вы сами почувствуете, что вы не зритель, а участник, что вы «смотрите» только потому, что есть для вас место…
– А в театре – разве я могу «смотреть», когда места нет?
– Ах, не то, не то… Дело не в факте, а в принципе. Понимаете, это как в философии: механическое представление о вселенной несовместимо с понятием о божестве…
– Это почему?
– Потому что если все сущее – машина, то нету места для машиниста. Переводя это на почву живого искусства, о котором говорим: если все действуют, то нету места для зрителя. Это есть неминуемое «упразднение зрелища». И вот уже «выхождение из временного и погружение в безвременное», как говорит Иванов.
– Может быть. Но пока я предпочитаю старый способ – билет, за который я заплатил, и место, с которого я могу не только смотреть, но и видеть.
– Есть и для этого уже указание, менее принципиальное, чем у Вячеслава Иванова, но более конкретное, более близкое современному «зрителю».
– Более «для меня»?
– Было ли еще – не знаю, но одно было. Я, по крайней мере, видел только одно. Человек описывает спектакль, который он видел в Париже, какая-то мистерия из жизни Христа, – исполнение, трогательное, проникновенное, произвело на автора впечатление. «Но, – говорит он, – во сколько раз больше было бы впечатление, если бы вместо ненужных слов мы слышали музыку и видели ритмические движения». Это единственное указание, которое мне попалось.
– И кто это?
– Александр Бенуа… Послушайте, кажется, татары тушат электричество.
– Ну что ж, идем. Человек, счет!.. А знаете, что Станиславский тоже говорит, что все идет к новому искусству без слов.
– Он это говорит? Как это знаменательно, что такие уста налагают на себя зарок молчания. А мне рассказывали, как Дузе однажды, присутствуя на лекции одной англичанки, которая демонстрировала принцип равновесия человеческого тела, для чего принимала позы известных античных статуй, воскликнула: «К чему слова? Тело само говорит. Слова – лишний придаток».
– Как полны таинственности, неразгаданности эти голоса, от себя отрекающиеся… Что это? Признание в несостоятельности или… Рубль довольно на чай?
– Довольно. Надежда, надежда, мой друг, в этих словах надежда. Ну, до свидания… Повторим когда-нибудь?
– Обязательно.
– Что вы сказали?
– Виноват, – непременно.
– То-то.
– Пурист до конца.
– До гроба.
– Будут ли извозчики…
– Ах, какая ночь! Морская в летаргическом сне…
– Люблю тебя, Петра творенье!
– Извозчик, на Фурштадскую.
– Извозчик, Крюков канал!
Павловка,
15 сентября 1911
3
Нева
Последняя в реке блестящая струя
Жуковский
Барону Николаю Николаевичу Врангелю
– Я люблю эти маленькие пристани Финляндского пароходства… Правда? Эти плавучие буфеты…
– Да, это так вырывает из обстановки.
– Вот именно, пересаживает: без всяких усилий с вашей стороны полная перемена пространственных условий и зрительных отношений.
– Дальнее путешествие на близком расстоянии.
– В конце концов, это ведь принцип всякого «эффекта»: дальнее путешествие на близком расстоянии.
– Да. Как это верно и как это звучит бессмысленно!
– Очевидно, ничто не кажется бессмысленнее, чем те конечные формулы, к которым приходят люди друг друга понимающие. Ведь чем точнее, тем меньше слов, чем меньше слов, тем менее понятно для «посторонних». А мы окружены «посторонними».
– Но как я люблю это одиночество!
– О, великая вещь!
– Вот всегда говорят, в единении сила…
– Неправда – в уединении сила; только бессильные ищут единения, значит, – где же сила? Очевидно, не в тех, кто ее ищет у других.
– А это не парадокс? Боюсь, что это парадокс.
– Отчего же вы боитесь парадокса?
– Какой странный вопрос.
– А по-моему, странная трусость.
– Почему странная?
– Да что такое парадокс?
– Парадокс…
– Ну вот видите, вы даже не знаете, чего вы боитесь. Парадокс есть утверждение, идущее вразрез с общим мнением. Разве это так страшно?
– Это, пожалуй, не страшно, но почему вы так объясняете?
– Не я объясняю, а Ларусс, и в своем словаре он прибавляет: «Круглота земли долго принималась за парадокс».
– Значит, парадоксальность измеряется субъективным мерилом?
– Ну разумеется: не верят – парадокс, а поверят – будет истина.
– Ну это тоже парадокс.
– И тоже страшно?
– Даже жутко.
– Вот то-то и есть, мы все боимся, мы рабы слов. В театре хохочем, когда у Островского мать сокрушается, что сын знает мало «умных слов», или когда у Гоголя мать говорит сыну, что при слове «титулярный» ей «так и приходит на ум Бог знает что», а в жизни мы все так: слова для нас имеют смысл помимо их значения. Помню, одна дама однажды говорила, как соблазнительны магазинные окна: так иной раз захочется купить без чего всю жизнь жил, а тут кажется – обойтись нельзя. Да, сказал я, изобретения вызывают потребности. «Как это хорошо, как это великолепно сказано… Теперь, знаете, нам нужно проверить, правда ли это». – «Как так?» – «Да мне говорили, что всякий афоризм ложен». – «Но это не афоризм, – говорил я, – если даже афоризмы ложны, то это не афоризм». – «Да, но оно звучит как афоризм». – «Да не афоризм, не афоризм…» Понимаете, она даже не знала, что такое афоризм, а боялась его… Точь-в-точь как вы с парадоксом.
– Да как же не бояться, когда вы говорите такие вещи, что, пока люди не верят – парадокс, а поверят – будет истина. Ведь это разрушение всякой объективной истины.
– Не я говорю, а Булье говорит в своем словаре: «Многие воззрения, кажущиеся невероятными парадоксами, становятся неоспоримой истиной».
– Вы любите словари?
– Успокоительное чтение… раскрывает ум мироздания в уме человека. Не знаешь, что более достойно восхищения – зеркало или отражение.
– Ну а что такое афоризм? Уж будьте моим словарем.
– Афоризм есть краткое определение, все, что надо знать о каком-нибудь предмете; достоинство – при наибольшей краткости наибольшая полнота.
– И только?
– Только. Страшно?
– Нисколько.
– А знаете, насчет словарей что мы говорили и перед тем насчет одиночества, – ни при одном чтении я так не ощущаю великолепие своего одиночества, как при чтении словаря: вселенная для меня одного.
– Вполне понимаю. Только тот, кто знает цену одиночества, поймет это.
– А как мало таких.
– Редко, как все ценное.
– Как же не редко, когда люди не только не ценят одиночества, они платят за то, чтобы не быть одним. Все наши «увеселительные заведения», да даже театр, для большинства – не что иное, как плата за выход из одиночества: играйте мне, пойте мне, танцуйте мне.
– Своего рода чесание пяток?
– Ну да.
– Зато когда кто понимает…
– Ценно, как все редкое. Вы знаете стихи:
О мука! О любовь! О искушенья!
Я головы пред вами не склонил.
Но есть соблазн, соблазн уединенья.
Его никто еще не победил.
– Чье это!
– Не скажу.
– Почему?
– Вы ее не любите.
– Кого?
– Автора.
– Поэтесса?
– Да.
– Ах, так это Зинаида Гиппиус.
– Не знаю.
– Удивительно, как люди не хотят признавать друг друга способными на беспристрастие. В какой хотите добродетели – сколько хотите очков вперед, в беспристрастии – никогда: самый близко знакомый в подозрении.
– Ну хорошо. Нравятся стихи?
– Прекрасны.
– Зинаиды Гиппиус.
– Я так и знал.
– Ну послушайте! Это уж маленькое преувеличение. У древних греков «я узнал» значило то же самое, что «я знаю», у них для этого было даже особое прошедшее время – аорист, но сказать «я так и знал» про то, чего раньше не знал, и сказать только потому, что только что про это узнал, это уж…
– Нисколько не преувеличение. Вы, субъективист знаменитый, должны бы знать, что такое точка зрения.
– Отлично знаю.
– Значит, не отлично, если не допускаете, что можно сказать «я знал» про то, что только что узнал.
– Не понимаю.
– Это лишь точка зрения: передвижение точки зрения во времени… Что вы на меня уставились?
– Да, кажется, теперь вы заговорили парадоксами.
– А вам стало страшно?
– О, мне от слов страшно не бывает. А точки зрения? Да чем чаще они меняются, тем интереснее. Вы знаете, кто-то сказал: «Дайте мне любую доктрину, и я берусь ее доказать».
– Да, и посмотрите теперь с нашей «точки зрения» – только не временной, а пространственной, – посмотрите, как хорош Троицкий мост.
– Правда, даже ужасный Троицкий мост… Бедный Петербург! Его краса гаснет, как луч багряного заката.
– А что же вы, например, не поднимаете голоса иногда? Вхожи, приняты, бываете, а что из того?
– Кто вам говорит, что не говорю? Раз даже писал. По поводу гауптвахты на Синявинской площади…
– По поводу?..
– Гауптвахты… на Синявинской площади.
– Простите, не знаю.
– Мало кто знает. Я сам не знал. Раз ночью случайно проезжал, увидал эту прелесть, извозчика остановил, обошел кругом, посмотрел название улицы – Синявинская площадь. Понимаете, маленький домик, прелестнейший ампир, капризный ампир. Я не знал, что это такое, но там бы сад разбить, а это бы осталось посредине павильоном… Вдруг через два месяца читаю в газете: Дума постановила снести гауптвахту на Синявинской площади. И вспомнил я, как одна старая тетушка, по происхождению балтийка и по-русски плохо понимавшая, посылала камердинера справиться о здоровье тяжко больного. Камердинер возвращается и докладывает: «Приказали долго жить». «Ну, – прибавляла тетушка, рассказывая об этом, – я тут же все и поняла».
– Почему же это?
– Почему Дума постановила, не знаю, но газета прибавляла: «И в самом деле, уже давно она мозолит глаза обывателям». Мозолит глаза, – потому что гауптвахта, понимаете? На той же площади ужаснейшее здание, электрическая станция, – это не мозолит, а перл ампирного искусства… Но что вы хотите, чего ждать от газеты или от Думы, когда художник Репин высказывается против ампира, потому что… он будит в нем воспоминание аракчеевщины! Было время, мы дилетантов осуждали за то, что они некрасивые произведения любят за воспоминания, а теперь художники осуждают прекрасные произведения за напоминания.
– А если бы эту самую гауптвахту превратили в туалетный киоск…
– Простили бы.
– Знаете, это идея: самое ненужное превратить в самое нужное.
– Ради содержания примириться с формой? Не в первый раз… А то еще помню, по поводу Дворцового моста я говорил с одним из наших городских голов…
– Вы говорите так странно, во множественном числе, точно это гидра.
– Да ведь по латинской поговорке, одну отломишь – другая появится.
– Так что же вы говорили?
– Мы сидели рядом в какой-то комиссии по постановке памятника, и я воспользовался этим, чтобы обратить внимание на то, что Дворцовый мост нельзя рассматривать как одиночную постройку, что он есть составная часть огромного архитектурного рисунка, в котором Биржа есть центр, а Дворцовый мост лишь одно крыло, другое крыло – мост, соединяющий Биржу с Петербургской стороной; что, следовательно, если желательно, чтобы Дворцовый «гармонировал» с Биржей, то желательно, чтобы другой мост гармонировал с Дворцовым.
– И что же?
– Что?
– Что он сказал?
– Что же он мог сказать? Разве в таких случаях говорят что-нибудь иное, кроме любезностей? Но скажи я обратное, то есть что Дворцовый мост должен «гармонировать» с Зимним дворцом, а отнюдь не с Биржей, и я получил бы в ответ такую же любезность.
– Как хорош был проект Александра Бенуа.
– Мало ли что… А строят Мельцеровское рококо.
– Бедный, бедный Петербург!..
– А Москва?! Разве это не пятно на художественной России, что архитектурная Москва отказалась от себя. Эта американская Москва внутри Китай-города; эти готические Мюры и Мерилизы рядом с ампирным великолепием Большого театра; эти магазинные вывески, которые всегда кричат о себе, только о себе, и закрывают столько великолепных домов, – о себе кричат и заставляют молчать архитектуру!
– Я ужасно люблю, когда иностранцы, не бывавшие в Москве, говорят о ней как о настоящем, старом, типичном русском городе.
– Да, привести бы такого иностранца в Скатертной переулок, показать эти «настоящие, старые, типично русские» гримасы, кафельные ванны – дворянские бани, вывороченные наизнанку.
– То, что в публике называется «декадентский стиль». Вот тоже слово, ожидающее своего определения.
– Декадентский? Никогда никто не определит.
– Мне каждый раз, как я его слышу, хочется остановить и сказать: «Позвольте, сперва объясните, что это значит».
– Одну даму я раз спросил. Она сказала: «Ни одной прямой линии». А один господин сказал: «То, что воняет». У него два сына училось в гимназии, а в этот период семейной жизни эстетический кодекс родителей весьма часто руководствуется принципами довольно смутными, в которых критерий художественный так же смешивается с нравственным, как впечатления зрительные или слуховые с обонятельными.
– Метафора более яркая, нежели определенная.
– Вот определенности вы никогда и не дождетесь. Когда Роден – «декадент», и реклама мыла «Гелиотроп» – «в декадентском стиле». Когда под одной кличкой понимается и художественно прекрасное и художественно позорное…
– Это еще не так ужасно, как то, что людей, восхищающихся первым, признают сторонниками второго. «Вот вы восхищаетесь Роденом, так вот вам, в вашем вкусе, для вас» – и показывают вам рекламу пудры «Селестин». И удивление, что вам не нравится!
– А обратное удивление. Я ужасно люблю обратное удивление. Вы признанный декадент, вас окрестили, от клички не умоетесь. И вдруг – о удивление! Вы любите старых итальянцев, вам нравится Боровиковский, вы говорите, что вы Баха предпочитаете Рихарду Штраусу! И тогда говорят: «Он сдал, поправел, как говорят французы – подлил воды в свое вино. Неспроста, тоже знает, откуда ветер дует»…
– А когда начинается объяснение поступков – для чего он говорит, для чего он пишет, для чего старается, – люди думают, что они ух как тонки, насквозь угадали человека, а они только приписали ему свои же собственные побуждения.
– Не будем говорить о людях… Смотрите, солнце заходит: пожар во всех окнах Дворцовой набережной.
– Да, солнце всегда будет садиться.
– «Und morgen wird die Sonne wieder scheinen» [1]1
И завтра солнце снова будет светить
[Закрыть].
– И это тоже всегда.
– Очевидно: «Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zuriick» [2]2
«Здесь впереди оно заходит и сзади возвращается опять»
[Закрыть].
– Вы ужасно умеете давать настроение и разбивать его. «Мечты, мечты, где ваша сладость»!..
– Вот опять одна из бессмысленных поговорок.
– Во-первых, это не поговорка. Не будьте как тот автор, который писал: «Как гласит французская пословица, – никто не пророк в своем отечестве».
– Неужели! Кто это?
– Кто, это все равно. Только он не знал, что это из Евангелия. А еще в книге по церковному вопросу.
– Ну хорошо, но ведь я же сказал «поговорка» не в смысле происхождения, а в смысле употребления – прибаутка, присказка. Я не понимаю, как и поэт мог написать такую чепуху.
– Почему чепуху?
– Да разве мечты могут утратить свою сладость? Мечты никогда не могут утратить свою сладость.
– Он вовсе не говорит, что мечты свою сладость утратили, а что он утратил мечты, а так как…
– А так как мечты сладки – понимаю… Какой чудный вечер!
– Да, уж вечер.
Уж вечер… облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает…
Последняя в реке блестящая струя
С потухшим небом угасает…
– У-га-са…ет…
– Нельзя почувствовать красоту Петербурга и не вспомнить Пушкина.
– Пушкина?
– Ну да, ведь это «Пиковая дама».
– Да, «Пиковая дама», вставной номер, текст Жуковского.
– Как я завидую вашей канве.
– То есть?
– У вас все впечатления ложатся на канву; даже когда воображение «свой мечет пестрый фараон».
– Уж не знаю… А что мы говорили насчет прибауток… Да, знаете, есть целая масса прибауток, которых я прямо слышать не могу, которые так обтрепались, что больше ничего не значат.
– С этим согласен.
– Я знал одну полковую даму в провинции, которая никогда не говорила просто «но», она всегда прибавляла: «увы и ах».
– Цветистый образ речи?
– Обойного характера – с возвращающимся рисунком. Ах, как у нас любят обои! А все эти «се нон э веро», «де густибус», «а ля гер ком а ля гер»…[3]3
Начала поговорок se non e vero, e ben trovato – если и неправда, то все же хорошо придумано; de gustibus non est disputandum – о вкусах не спорят; a la guerre comme a la guerre – на войне как на войне.
[Закрыть].
– И «сапиэнти сат»[4]4
sapienti sat – для понимающего достаточно.
[Закрыть].
– И «сапиэнти сат», которым сдержанная оскорбленность заканчивает свое «письмо в редакцию».
– А кстати, что вы скажете о перестрелке Волконского с Философовым по поводу того, что тот назвал его «культурный князь», а он обиделся.
– Он не обиделся, это было бы глупо.
– Тогда зачем же об этом писать?
– Так он не с личной точки зрения писал, а как признак известного отношения людей друг к другу. И хотя Философов очень пространно не то извинялся, не то пояснял, все же нельзя не сказать, что вообще в известного рода печати с титулами у нас не умеют примириться: их или выплевывают, или проглатывают. В прошлом году, по поводу не помню кого, писали «титулованный лектор». Ну разве интересно – титулованный или не титулованный. Интересно: скучный или занимательный, идиот или не идиот, говорит или шамкает.
– Ну а как же, вы говорите, проглатывают титулы?
– «Присутствовали такие-то: С.А. такой-то, И.В. такой-то и господин Голицын». Это я читал.
– И, очевидно, это должно что-нибудь обозначать, потому что иначе и про других сказали бы «господин». Но что это должно обозначать?.. Не понимаю…
– Много на земле непонятного… Смотрите, звезды зажигаются.
– «И светла адмиралтейская игла».
– Не хочется уходить…
– А что я еще хотел у вас спросить: почему это Волконский так с Далькрозом носится?
– Потому что Волконский – паук, прицепившийся к орлу.
– Ну уж это извините.
– А что, не паук?
– Этого не знаю. А только Далькроз, я думаю, не орел.
– Ах вы!.. Было однажды интервью с одним из актеров Михайловского театра; оно кончалось так: «Vivrons, ver-rons» [5]5
Выживем – придем
[Закрыть], – сказали мы симпатичному артисту.
– Вольный перевод?
– Скорее, перевод с вольностями.
– Так что – орел?.. Вы никогда не спорите, когда заходит речь о Далькрозе.
– Никогда.
– Не убеждаете.
– Никогда.
– Не обижаетесь.
– Никогда.
– Не сердитесь.
– Никогда.
– Не осуждаете.
– Я жалею.
– А когда смеются?
– Еще больше жалею.
– А когда всполошенная стыдливость кричит о поругании благопристойности?
– О, тогда уж я окончательно молчу.
– Но вы думаете?
– И очень.
– Что же вы думаете?
– Что лучше руководствоваться звездами, чем пресмыкающимися.
– Уважаю.
– Спасибо…
– Вам не пора?
– Куда?
– Куда-нибудь.
– Никуда мне не пора.
– А мне пора.
– Куда?
– Куда-нибудь.
– Бегство из одиночества?
– Может быть, наоборот…
– Жажда одиночества?
– Не обижайтесь.
– Уважаю.
– Спасибо.
– Ну что же, до свиданья.
– До свиданья.
Павловка,
11 октября 1911







