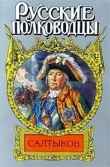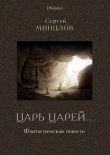Текст книги "Россия под властью царей"
Автор книги: Сергей Степняк-Кравчинский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Глава XIV
ЦАРСКИЙ СУД
Как я уже отмечал, совершенно невозможно предсказать, какая участь постигнет царского пленника. И все же, учтя все возможности, основываясь на принципах статистической пауки и на бесспорных фактах, мы получим довольно точное представление о том, что вероятнее всего ожидает того из несчастных, судьба которого нас в данном случае занимает.
На "процессе 193-х", одном из крупнейших процессов семидесятых годов, прокурор Желеховский заявил в своей обвинительной речи, что из всего числа подсудимых заслуживают наказания не более двадцати человек. Тем не менее за время предварительного следствия по этому делу, тянувшегося четыре года, покончили жизнь самоубийством и сошли с ума семьдесят три человека из ста девяноста трех. Это означает, что в четыре раза больше заключенных, чем сам прокурор считал заслуживающими наказания, умерли медленной смертью или их постигла судьба страшнее, чем смерть.
Более того, в число ста девяноста трех входили не все, кто были схвачены полицией и привлечены к суду. Людей, арестованных и брошенных в тюрьму в связи с этим делом, было по крайней мере в семь раз больше – их число достигло тысячи четырехсот человек. Из них семьсот пришлось освободить, продержав их в заключении от нескольких недель до нескольких месяцев. Остальных семьсот арестованных держали за решеткой сроком от одною до четырех лет, а потом они предстали перед судом – одни в качестве подсудимых, другие в качестве свидетелей. Последних, разумеется, было большинство. Особое присутствие Сената, где слушалось "дело 193-х", вынесло приговоры в двух вариантах: одни, условные, были чрезвычайно жестокие, другие, настоящие, были более мягкие, и их в форме ходатайства о помиловании представили императору на одобрение и утверждение. Один из подсудимых был приговорен к каторжным работам, двадцать четыре – к ссылке в Сибирь, пятнадцать – к административной ссылке, и сто пятьдесят три оправданы. Я называю эти приговоры настоящими потому, что ходатайство о помиловании, особенно если оно исходит от Сената, состоящего из высших судей, как правило, не отклоняется императором. Но в этот раз Александр оказался безжалостнее своих судей. Он отменил приговоры собственного Сената и приказал, чтобы условные приговоры, вынесенные Особым присутствием в уверенности, что они не будут проведены в жизнь, были исполнены со всей беспощадностью. Двадцать восемь подсудимых были приговорены к различным срокам каторги, а остальные – к ссылке в Сибирь и в отдаленные губернии России*.
____________________
* Не считая тех семисот арестованных, которые были освобождены в течение первого года, а также двадцати человек, приговоренных к пребыванию под полицейским надзором, и людей, высланных полицией впоследствии. (Примеч. Степняка-Кравчинского.)
А если мы, с другой стороны, начислим для каждого из семисот арестованных, первоначально привлеченных к "делу 193-х", всего лишь два года предварительного заключения – а это, безусловно, сильно преуменьшенный срок, – то получим 1400 лет – четырнадцать веков кары куда более гибельной для обреченных, чем сибирская каторга.
Таким образом, жестокости полиции были в двадцать раз бесчеловечнее, чем наказания, наложенные судом за те же провинности, хотя суд всегда доходил до крайнего предела, допускаемого драконовским уголовным кодексом России. Другими словами, чтобы добиться свидетельских показаний для осуждения одного человека, той же каре, как и он, подвергались еще девятнадцать ни в чем не повинных людей. И это не считая семидесяти трех несчастных, умерших во время дознания; их смерть надо прямо отнести к последствиям предварительного заключения, проведенного, как мы знаем, в раздирающем душу одиночном заточении, которое или сводит с ума, или убивает.
Тот факт, что эти семьдесят три человека, в сущности, почти все были убиты, доказывается и цифрами средней смертности в Петербурге; принимая во внимание их возраст, только двое или трое могли умереть естественной смертью.
Такова практика царской инквизиции.
Глава XV
ДОЗНАНИЕ
Инквизиционная система, описанная в предыдущей главе, может быть названа медленной и бесшумной. «Запирающимся» и «упорствующим» дают тихо погибать в каменных мешках в ожидании, что эти плоды рачительности тюремщиков, все еще зеленые, после некоторой поры гниения станут более податливы для клещей инквизиции и тогда возможно будет извлечение скрытых семян.
Однако, невзирая на явные преимущества, эта система имеет существенный недостаток: она требует времени и терпения. До тех пор пока нигилисты не перешли от слов к делу и ограничивали свою деятельность мирной пропагандой, не было необходимости торопиться. Агитации не боялись. Подозрительных пропагандистов то и дело ловили и после заключения их в тюрьму спокойно выжидали в надежде, обычно тщетной, что их разоблачения дадут возможность составить какой-нибудь чудовищный обвинительный акт по делу о подготовке заговора.
Но когда революционеры, страшно тяготившиеся своим лишь пассивным сопротивлением, взялись за оружие и стали отвечать ударом на удар, власти уже не могли больше мешкать. Чтобы принять самые решительные меры предосторожности против беспощадных актов мщения, которые нигилисты – как власти имели все основания предполагать – готовили вне стен тюрьмы, полиция считала настоятельно необходимым добиваться от арестованных самых полных сведений и в наикратчайший срок. В этих условиях уже не подходила прежняя черепашья система – пусть узники гибнут, пока один или другой не будет готов давать показания. Достигнуть быстрых результатов можно было лишь путем усиления истязаний заключенных. Ничто не останавливало полицию от выполнения этой задачи. Суровый режим предварительного заключения стал еще строже. С присущей им жестокостью тюремщики прежде всего задели самое больное место узников. Их изоляция стала совершенной и абсолютной, никаких поблажек больше не давали, и теперь это воистину стало одиночеством могилы.
Дом предварительного заключения с его сравнительно не столь зверской дисциплиной был предназначен только для менее скомпрометированных арестантов. Серьезных политических преступников отправляли в ту пресловутую зловещую крепость, где жандармы могли поступать со своими жертвами как угодно, беспрепятственно и скрытно от посторонних глаз. В городах, не обладавших, к счастью, подходящими темницами, наскоро соорудили временные арестантские камеры. Не допускалось никакого общения между заключенными, и в смежные камеры помещали обыкновенных уголовников, а иногда жандармов и шпиков, которые, зная язык стен, делали свое грязное дело провокаторов. Не пренебрегали никакими средствами, чтобы сломить волю упорствующих заключенных и превратить их жизнь в ад. Им не разрешалось ни переписываться, ни видеться с друзьями, их лишали перьев, бумаги и книг – лишения, которые для активно мыслящего человека сами по себе жестокая пытка. Но зато при малейшем признаке малодушия на труса, дававшего показания, милости сыпались щедрой рукой.
Жестокости, которым подвергались упорствующие, – а большинство политических узников сломить не удавалось – вызывали к жизни страшную форму борьбы – голодовки. Не имея других возможностей отстоять свои права перед исступленными мучителями, узники отказывались от пищи. В некоторых случаях они голодали семь, восемь и даже десять дней, пока не были уже на грани смерти. Только тогда тюремщики, опасаясь совсем лишиться своих жертв, шли на уступки, обещая разрешить читать и писать, совместно выходить на ежедневную прогулку и так далее, – обещания, которые потом часто бесстыдно нарушались. Ольга Любатович голодала семь дней подряд, пока не добилась иголки с ниткой, чтобы женским рукоделием хоть немного скрасить однообразие своей жизни в камере. Нет ни одной тюрьмы в России, где по три-четыре раза не происходили бы голодовки политических.
Но самые изуверские и изощренные формы приняли приемы дознания. Прежде возможности инквизиторов были ограничены не столь страшными карами: ссылка в Сибирь, каторжные работы в мрачных рудниках, одиночное заключение в тюрьме, предварительное содержание под арестом на неопределенный срок – все это, по совести говоря, изрядно суровые наказания, но они не способны были достаточно сильно поразить воображение. Теперь положение совершенно изменилось. Царский прокурор может держать перед глазами своего узника жупел виселицы. Он пытается вынудить признание угрозой казни, внушающей гораздо больший страх, чем ссылка или каторга. Ужас перед смертной казнью, к которой человека могут приговорить за пустячный проступок, придает этим приемам выпытывания признаний особенную силу.
– Вы знаете, что я могу вас повесить, – часто говорил Стрельников своим жертвам. – Военный трибунал сделает все, что я прикажу!
Заключенному это было слишком хорошо известно.
– Что ж, хорошо, – обычно продолжал прокурор, – признайтесь или через неделю вас повесят, как собаку!
На допросах он прибегал ко лжи и вероломству без всякого зазрения совести.
– Так вы не хотите давать показаний? Очень хорошо. Вы решили пожертвовать собой, чтобы спасти людей, которые признали свою вину и выдали вас с головой. Прочтите это.
Инквизитор показывал заключенному фальшивые показания, фальшивые с начала до конца, с поддельными подписями и подложными уликами, содержащие все то, в чем Стрельников хотел заставить его сознаться.
Временами прокурор применял также другие, если возможно, еще более зверские способы. Позволив молодому супругу мельком увидеть свою жену, тоже арестованную, изможденную и больную, он говорил:
– Вам надо лишь прекратить бессмысленное запирательство, и вы оба будете выпущены на свободу.
Иногда этот Торквемада деспотизма сочетал жестокость, обман и ложь в цинической, коварной комбинации.
– Не хочу губить вас. Я сам отец. У меня тоже есть дочка, такая же, как ваша, – сказал он одной молодой женщине П. в Киеве в 1881 году. – Меня глубоко трогает ваша юность. Дайте мне спасти вас от верной смерти.
Молодая женщина все же отказывалась давать показания.
Тогда Стрельников приказал ввести ее отца, седовласого старика, нежно любившего свою дочь, и яркими красками обрисовал ему опасность положения дочери и страшные обвинения, тяготеющие над ней.
– Она умрет, умрет позорной смертью в расцвете лет! – воскликнул прокурор. – Ничто не может ее спасти, кроме полного признания и искреннего раскаяния. Но я не в силах побудить ее к этому. Попытайтесь вы. Просите ее, умоляйте на коленях, если это необходимо!
И несчастный старик, охваченный ужасом, рыдая, падает перед дочерью на колени и молит пожалеть его седины и не убивать горем. А дочь, закрывая лицо руками, чтобы не видеть это страшное зрелище, пытается убежать из комнаты.
Для отца и дочери это была трагедия, но Стрельников играл лишь гнусную комедию, с его стороны это была хитрая уловка, чтобы исторгнуть у П. какие-либо признания, ибо у него не имелось против нее ни одной улики.
Молодой и не очень опытный человек легко может попасться в одну из этих предательски расставленных ловушек, и у него вдруг невольно вырвется лишнее слово или ненужная подробность. Но как только ошибка осознана, она вызывает жгучее раскаяние. Возможно, то, что он сказал, просто пустяк, мелочь. Но это не важно. Возбужденное воображение, видящее все в чудовищно преувеличенном свете и вызывающее фантастические представления о возможных последствиях, еще ухудшает его состояние. Несчастного узника преследует страх, он боится, что погубил товарища и предал общее дело. Надо прочитать записки Худякова, чистосердечного и честного человека, который на процессе Каракозова вел себя с величайшей твердостью, чтобы понять, какой ад может вызвать такое представление в душе впечатлительного и благородного человека. Ничто не может быть страшнее беспощадного самобичевания, ужасных терзаний, тем более невыносимых, что в полном одиночестве заключенного они могут длиться месяцами. Возле него нет ни одной доброй души, чтобы сказать ему слово утешения, ни чуткого друга, чтобы показать ему, как незначительна допущенная им ошибка.
Без преувеличения можно утверждать, что глубокие опустошения, произведенные в последние годы среди политических узников, в большей мере вызваны подлыми приемами юридической процедуры, чем жестоким режимом предварительного заключения, зверствами тюремщиков или лишениями, которые испытывают их жертвы.
Стрельников – обычный тип современного инквизитора, хотя этот тип неизбежно видоизменяется в зависимости от преобладания в нем тех или иных индивидуальных черт. Панютин, в прошлом адъютант Муравьева-вешателя, позднее правая рука Тотлебена, вешателя юга, – это тип бешеного инквизитора. Его главными методами были жестокость и насилие. "Пусть мне придется повесить пятьсот человек и сослать пять тысяч, но я очищу город!" – это были его собственные слова.
Знаменитый Судейкин – он так хорошо известен, что мне незачем подробнее о нем говорить, – это утонченный инквизитор, Иуда, преобладающий тип в Петербурге, и высшие сановники подчас не стесняются брать его себе в образец.
Так, например, диктатор Лорис-Меликов, бывало, собственной особой предстанет перед осужденными на смертную казнь на другой день после суда и, угрожая утвердить приговор, почти буквально с веревкой в руках, требует имен и доносов. При этом у генерала в кармане императорский указ об отмене смертного приговора.
Не хочу волновать моих читателей описанием еще других видов этого семейства пресмыкающихся. Замечу лишь в заключение, что в русском процессуальном кодексе, как и в кодексах других европейских стран, записано, что целью предварительного заключения является воспрепятствовать обвиняемому уклониться от суда и следствия. В другой статье кодекса запрещается применение угроз, обмана, обещаний и прочих средств, чтобы принудить обвиняемого к показаниям. И далее устанавливается, что, в случае если прокурор прибегает к помощи подобных приемов, показания считаются недействительными.
Как мы дальше увидим, это является полнейшей противоположностью той практики, которая применяется в политических процессах. Здесь в полной мере действуют инквизиторские приемы следствия. Правительство, решив, что признания и разоблачения необходимы для его собственной безопасности, не останавливается ни перед чем, чтобы их добыть. В своем стремлении во что бы то ни стало исторгнуть полезные сведения оно нимало не считается со страданиями невинных и не уважает законы, изданные им самим. Допрос, предназначенный оказать помощь правосудию, превратился в систему моральных пыток и физических истязаний, а предварительное заключение – в средство не давать "подозрительным" избежать этой новой замены дыбы и колеса.
Глава XVI
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
– Но мы должны положить этому конец, милостивый государь! Мы не можем позволить, чтобы предварительное следствие тянулось десять лет. Это будет скандал. Иностранные газеты уже начинают шуметь. Император недоволен. Сделайте все, что можете, но, во всяком случае, постарайтесь, чтобы ваше обвинительное заключение было готово самое позднее через два месяца!
С этими словами министр обратился к прокурору в раннюю пору революционного движения.
Несколько позднее генерал, сатрап своей губернии, выразился следующим образом:
– Двор просто в бешенстве по поводу последнего покушения этих проклятых нигилистов. Мы должны показать им, что они ответят око за око. Состряпайте процесс через две недели. Надо ковать железо, пока горячо!
И прокурор, подхлестываемый честолюбием и жаждой заслужить похвалу высшего начальства, "состряпал" процесс. Не надо забывать, что заслуги прокурора всегда оцениваются по количеству арестов, которые он производит, и по запутанности заговоров, которые он раскрывает. Однако прокурору редко удается добыть достаточно улик, чтобы вынести законный приговор тем, кого он подозревает и решил привлечь к суду. Но это не имеет никакого значения. Прокурор обращается с предположениями как с бесспорными фактами, с подозрениями как с уликами, личную дружбу толкует как принадлежность к сообществу, визиты вежливости – как доказательство участия в мнимом заговоре. Словом, процесс "состряпан". Иногда все это несколько похоже на детскую игру в "вопросы и ответы". Люди, никогда прежде не встречавшиеся, обвиняются в том, что принадлежат к одному тайному обществу, провинность одного присваивается другому; человек обвиняется в подстрекательстве к делу, которое он всячески старался предотвратить. Но ведь это сущие пустяки, не стоящие серьезного внимания! Так обвинительный акт составляется без всякого обоснования. Главная задача – собрать достаточное число лиц, предположительно замешанных в одном и том же дьявольском заговоре, и всех вкупе судить.
А судилище, перед которым они предстанут, каково оно, как оно действует? Моих читателей может заинтересовать вопрос, из кого состоит суд, рассматривающий дела политических преступников. Я постараюсь удовлетворить их любознательность, но прежде должен заметить, что этот вопрос представляет только академический интерес. В такой стране, как царская Россия, где власти могут делать с человеком абсолютно все, что им заблагорассудится, и до, и после суда, само судебное разбирательство становится делом второстепенным. Если история политических процессов в нашей стране и заслуживает внимания, то только как материал для характеристики произвола царского правительства, как иллюстрация его трусости, отсутствия доверия к собственным чиновникам и, более того, презрительного пренебрежения, проявляемого при малейшем пробуждении его подозрительности и малодушия, к тому жалкому фарсу, который в России именуется правосудием.
Процесс по делу Нечаева (сентябрь 1873 года), первый после обнародования новых судебных уставов, был единственным, когда судил не суд присяжных – об этом правительство и не помышляло, – а настоящий суд, с коронными судьями, выполнявшими свои судебные функции в нормальных условиях. Помимо того, это был единственный политический процесс, на котором права, предоставленные законом о гласности суда, были не более ограничены, чем обычно. Дело слушалось при открытых дверях, как и на других процессах, и газетам было разрешено публиковать отчеты о судебных заседаниях в обычных границах, допускаемых цензурой печати.
Это злополучное дело было не такого рода, чтобы привлечь симпатии общества и молодежи. Суд не грешил особой терпимостью, но оправдал тех, против кого действительно не имелось улик, и, как казалось, отнесся к ним со слишком большим вниманием, допускал вольности в ведении защиты. Более того, после вынесения приговора председатель суда, обращаясь к подсудимым, чья вина не была доказана, напомнил этим отверженным, что теперь, после оправдания, они такие же честные граждане, как и все другие. Катков, хотя он тогда еще далеко не был тем, кем стал теперь, даже запротестовал, назвав поведение суда проституированием правосудия и извращением идеи власти. Министр юстиции граф Пален был вне себя от ярости, и спустя несколько месяцев появился "закон", изымавший политические дела из юрисдикции обычного суда и устанавливавший значительные ограничения для газетных отчетов о политических процессах.
Политические дела впредь подлежали рассмотрению суда Особого присутствия Сената в составе членов Сената, назначенных императором ad hoc*, и с участием сословных представителей от дворян, мещан и крестьян, очевидно для того, чтобы новый суд не казался слишком бюрократическим. Эти так называемые представители подбирались властями по всей империи для каждого процесса из представителей дворянства, председателей городской думы и волостных старшин.
____________________
* для данного случая (лат.).
И вот на первом процессе, происходившем после введения нового закона, вместе с тремя членами Сената в суде заседали черниговский предводитель дворянства, одесский городской голова и волостной старшина из Гатчины. Для того чтобы найти трех судебных заседателей, которым он мог бы поручить это щекотливое дело, востроглазому министру пришлось обыскать всю страну от Черного до Балтийского моря. Результаты показали, что труды его не пропали даром. Выбор графа Палена делал честь его проницательности. Так называемые представители сословий на самом деле никого не представляли и ничего не отражали, кроме желаний министра. Их послушность была восхитительна. Представитель крестьянства отличался усердием, пожалуй даже чрезмерным. Когда были заслушаны свидетели и закончены прения сторон, шесть судей удалились в совещательную комнату и Петере, председатель суда, обращаясь к старшине по иерархическому порядку, спрашивал его, какой приговор, по его мнению, следует вынести тому или другому преступнику.
В каждом случае этот достойный человек давал один ответ:
– На каторгу. Пошлите их всех на каторгу!
На это председатель суда заметил, что подсудимые не все в равной степени виновны и поэтому неправильно было бы присудить их всех к одной мере наказания.
Но гатчинский старшина никак не мог постигнуть смысла столь тонких различий.
– Дайте им всем каторгу, ваше превосходительство, – повторял этот новоявленный судья. – Всем подряд. Разве я не присягал судить по справедливости?*
____________________
* Это достоверный случай. (Примеч. Степняка-Кравчинского.)
Министр, надо признать, не мог сделать лучшего выбора. Даже он, суровый граф Пален, остался вполне доволен. Настолько доволен, что поручил ведение следующего процесса с теми же судебными заседателями, за исключением, кажется, предводителя дворянства, которого заменили каким-то более сговорчивым господином. Но это совершеннейший факт – старшина из Гатчины и одесский городской голова продолжали выполнять свои судебные обязанности в продолжение довольно долгого времени.
С такими судьями не могло быть не только никаких неприятностей, но даже опасений неприятностей. Они не только беспрекословно подчинялись приказам, но, затаив дыхание, прислушивались к малейшему шепоту, доносившемуся сверху. Все зависело от того, что было угодно министру. Когда поднималась волна реакции, приговоры отличались зверской жестокостью. Как только волна спадала и страх царского двора несколько умерялся, суд становился более терпимым. Однако я могу вспомнить лишь один-единственный случай, когда такое терпимое настроение суда имело какие-то практические результаты. Тогда даже Петере и его достопочтенные коллеги, как говорится, попали пальцем в небо.
Этот инцидент произошел вскоре после возвращения Александра II с турецкой кампании. Согласно официальной реляции, его величество увидел столько свидетельств преданности со стороны молодых нигилистов, работавших одни – санитарами в госпиталях, а другие, только что окончившие медицинские факультеты, – помощниками хирургов, что был глубоко тронут. Император, мол, переменил свой взгляд на молодых энтузиастов, которых его придворные описали ему как исчадия ада.
При таком положении вещей судьи были всецело за снисхождение. Но как раз в это время происходил достопамятный "процесс 193-х", и, полагая, что они предвосхищают желание государя, слуги царской справедливости хотели предоставить ему возможность воспользоваться своим правом помилования, как я об этом уже рассказывал.
Но, к несчастью, совершенно непредвиденное событие испортило столь тонко рассчитанный план угодливых судей. На следующий день после объявления приговора Трепов, целых шесть месяцев остававшийся ненаказанным за его постыдное обращение с Боголюбовым – он велел высечь его за то, что тот не снял перед ним шапку, – получил наконец по заслугам. Выстрел Веры Засулич не только поразил всю Европу, но в мгновение ока и в почти непостижимой степени изменил новые взгляды императора на молодых нигилистов, обратив его добрые намерения в самый яростный гнев. Вместо милостивой улыбки граф Пален получил страшную головомойку, которую он в свою очередь задал перепуганным членам Сената. Их ходатайство о помиловании, как читатель помнит, было с негодованием отвергнуто.
В другом случае – на "процессе 50-ти" (март 1877 года) – правительство само не смогло удержать своих позиций. Приговоры на этом суде были не ниже и не выше предела, установленного законом для такого рода преступления – ведение пропаганды, – от пяти до девяти лет каторжных работ.
Среди обвиняемых, подвергавшихся до суда особенно жестокому обращению, было несколько молодых девушек в возрасте восемнадцати – двадцати лет, принадлежавших к лучшим семействам России. На суде они возбуждали участие даже в стане своих врагов. Большинство этих девушек учились в швейцарских университетах, и перед ними открывалось блестящее будущее врачей, но, воодушевленные революционными идеями, они вернулись на родину, чтобы стать в ряды борцов за свободу. Однако непреодолимое, как казалось, препятствие мешало осуществлению их высоких идеалов – глубокое недоверие, испытываемое рабочими людьми, лишь недавно сбросившими ярмо неволи, ко всем, кто действительно или возможно принадлежал к классу их прежних хозяев. Тогда молодые пропагандистки в своем страстном энтузиазме решили пренебречь удобствами привычной жизни и взвалили на свои хрупкие плечи тяготы, сокрушавшие даже многих женщин, привыкших к непосильному труду. Они стали простыми работницами, трудились по пятнадцать часов в день на московских бумагопрядильных фабриках, терпели голод, холод и грязь, безропотно перенося все испытания тяжелой жизни, лишь бы получить возможность проповедовать свою новую веру как сестры и товарищи, а не как господа.
В этом подвижничестве было что-то глубоко трогательное, напоминающее мучеников первых времен христианства. Эти девушки произвели глубокое впечатление на публику, присутствовавшую в зале суда, среди которой было несколько высших сановников и придворных дам, поэтому власти сочли нужным заменить свирепые приговоры, вынесенные судом (самым тяжким преступлением пропагандисток было чтение рабочим социалистических брошюр), бессрочной ссылкой в Сибирь. Однако эта милость не была распространена на их сотоварищей. Здановича, Джабадари, князя Цицианова, Петра Алексеева, обвиняемых в тех же преступлениях, осудили со всей строгостью на самую жестокую каторгу.
За исключением этих двух случаев суд и правительство храбро придерживались своей тактики. Ни разу больше они не проявляли "по принуждению милость". Ведение пропаганды карается каторгой. При этом не надо забывать, что революционная пропаганда в России лишь весьма отдаленно напоминает активность, известную под этим названием в других странах. Это не та обширная длительная общественная деятельность, как, например, политическое движение в Германии, Франции и Англии. Условия русской жизни не допускают открытой агитации. Пропаганда должна вестись тайно в частных домах, на нелегальных собраниях. Да и чаще всего пропагандист, если только он не является человеком исключительно ловким, может выполнять свое святое призвание лишь очень недолгое время – пока не попадет в руки жандармов. Как было доказано на процессе "долгушинцев", они выпустили всего две нелегальные брошюры и никто из них не был уличен в ведении пропаганды более чем два-три раза. Против Гамова имелись лишь доказательства одного-единственного проступка – передачи двум фабричным рабочим нескольких нелегальных брошюр, – проступка, за который ему вынесли безобразно жестокий приговор – восемь лет каторги.
Обвиняемым по "процессу 50-ти" повезло не больше. Софье Бардиной, хотя она была одной из самых активных революционерок, не приписали более серьезной вины, чем чтение фабричным рабочим в двух-трех случаях социалистических книжек. Однако за эту ничтожную провинность суд приговорил ее к девяти годам каторжных работ, замененных впоследствии особой милостью царя бессрочной ссылкой в Сибирь.
Привлечение к суду людей, без малейших оснований подозреваемых в нелегальной деятельности или организации тайного общества и обвиняемых лишь в ведении пропаганды, всегда почти кончается вынесением столь же свирепых приговоров. В сентябре 1877 года Мария Бутовская, обвиняемая в том, что она дала рабочему одну книгу, была приговорена к семи годам каторжных работ. Малиновский, рабочий, осужденный за ведение пропаганды, был приговорен судом к десяти годам каторги. Дьякова и Сирякова – хотя их и судили вместе, но они не имели сообщников – приговорили к той же мере наказания за подобные же провинности.
За несколько слов, высказанных в пользу социальной или политической реформы, человека присуждали к той же мере наказания – десять лет каторжных работ, которая предусматривалась сравнительно мягким русским уголовным кодексом за предумышленное убийство без отягчающих вину обстоятельств или за разбой с насилием без смертельного исхода.