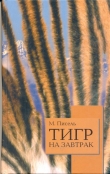Текст книги "Дягилев. С Дягилевым"
Автор книги: Сергей Лифарь
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
О большой роли русских художников в Русском балете говорит и балетный критик, близкий к дягилевскому балету, В. Я. Светлов, свидетельство которого о коллективном творчестве балетов я уже приводил выше. К этим словам можно и должно прибавить его декларацию: «Я считаю, что наши художники сыграли огромную роль в той революции балета, которую мы наблюдаем. Они являются настоящими виновниками его возрождения, и мне кажется, что простая историческая точность и справедливость требуют, наконец, громко сказать и признать это». Вряд ли можно оспаривать общее мнение о том, что самую большую силу Фокина составляет стилизация, и что лучшие его балеты – стилизованные, такие, как «Шехеразада» (Восток), «Клеопатра» (Египет), «Дафнис и Хлоя» (греческая античность) и проч. и проч. В этих балетах Фокин проявил такое изумительное знание стиля разных времен и разных народов, такую необыкновеннейшую эрудицию, какою не обладал до него ни один хореоавтор в России (да, пожалуй, и во всем мире). Но было бы величайшей несправедливостью по отношению к Дягилеву, Баксту и Бенуа считать эту эрудицию чисто фокинской и забывать об их соавторстве: можно ли говорить об одном Фокине, как творце египетской «Клеопатры» и античного «Дафниса и Хлои», когда Лев Бакст по художественным увражам восстанавливал позы и растолковывал их Фокину, которому оставалось сообщить им динамику.
Фокин первый сделал из кордебалета не тот общий и необходимый фон, не то balabile[84]84
Всеобщий танец (фр.).
[Закрыть], на котором отчетливо выделяется танцевальный рисунок солистов, а равноправного, иногда и доминирующего участника танцевального действия. До Фокина наши балетмейстеры больше приспособлялись к солистам (особенно к солисткам, к балеринам), чем заставляли их приспособляться к своей танцевальной идее. Фокин подчинил отдельных исполнителей ансамблю и решительно восстал против игры «нутром» и против «ut диеза Тамберлика». Достаточно вспомнить статьи Дягилева о Московском Художественном театре в «Мире искусства», чтобы и в этих новых принципах увидеть несомненное влияние Дягилева. Но самым решающим для меня аргументом о большом влиянии Дягилева на Фокина являются слова самого Сергея Павловича, вспоминавшего через двадцать лет «те дни, когда Фокин, как режиссер, и Нижинский, как танцор – решили художественно осуществить мои идеи». К этим словам Дягилева о том, как Фокин и Нижинский художественно осуществляли идеи Дягилева, мне еще придется вернуться и комментировать их.
Дягилев очень высоко ставил талант, гибкость и стремительность темперамента Фокина, его энтузиазм, но они постоянно ссорились – из-за Нижинского (с кем только не ссорился Дягилев из-за Нижинского!) и из-за некоторого сходства характеров (конечно, toute proportion gardée[85]85
Соблюдая все соотношения (фр.).
[Закрыть]!). «Наш учитель, – вспоминает Т. Карсавина о Фокине, – не переносит, чтобы нас останавливали технические трудности. Во время одной и той же репетиции он переходил по очереди от самого большого энтузиазма к ярости. Так как он все принимал близко к сердцу и требовал, чтобы каждый давал все, что только может, то мы ему были очень преданы, мы – его приверженцы, несмотря на то, что он был очень раздражителен и не умел сдерживать своего характера. Вначале его гневные вспышки нас приводили в ужас, но мало-помалу мы привыкли видеть, как он бросает в воздух стулья, уходит в разгаре репетиций или разражается пылкими речами. Во время репетиций он садился в оркестр, чтобы видеть эффект своей постановки. Его голос, охрипший от крика, несся через головы музыкантов и выпускал в нас тысячи стрел. „Какое мерзкое исполнение! Это вяло, беспорядочно. Я не потерплю такого je m’en fich’изма!“
Позднее, когда не только наша маленькая группа благоговела перед ним, но когда и вся наша труппа стала уважать в нем признанного руководителя, он сделался еще более властным.
Вспоминаю один инцидент, происшедший в Монте-Карло. Он вел репетицию „Giselle“[86]86
«Жизели» (фр.).
[Закрыть]. Я должна была в тот вечер танцевать эту роль и, естественно, берегла свои силы, намечая только па и разные фазы действия. Общая картина получалась вялая. Фокин пытался сдержать свой гнев, но внезапно он вылился на меня. „Как я могу бранить кордебалет, – воскликнул он, – если звезда сама дает плохой пример? Да, вы даете пагубный пример, позорный, скандальный“. И он убежал. В тот же вечер он мило кружился возле меня, поправляя мой грим. Когда я упрекнула его за утреннюю сцену, он неопределенно улыбнулся и описал мое исполнение последнего акта „Жизели“, пробормотав: „Вы точно летали по воздуху!..“»
Мне еще придется говорить о хореоавторе Фокине и об его творчестве по поводу отдельных балетов, и потому в данном случае я ограничусь только тем, что отмечу одно качество его, равно драгоценное, как для хореоавтора, так и для балетмейстера – учителя – режиссера: его бесспорный, истинный, пылкий темперамент, создававший настоящие чудеса. Темперамент Фокина зажигал и работавших с ним артистов, и зрителей. Если Фокин не всегда был творчески изобретателен на новые танцевальные рисунки, то все, что ни ставил он в первые годы своей балетмейстерской деятельности, поражало своей жизненностью и казалось совершенно новым и никогда до того не виданным – так жили и горели его создания. Достаточно в этом смысле привести один пример – его знаменитейший шедевр – «Половецкие пляски» из «Князя Игоря»: чисто-творчески, танцевально они не так уж значительно отличались от прежних половецких плясок Льва Иванова, но в то время как последние производили серое впечатление, половецкие пляски Фокина своим огнем, своей дикою стремительностью вызывали на первых же спектаклях горячие взрывы неистового энтузиазма зрителей, зараженных темпераментом Фокина.
Этот темперамент делал из Фокина и прекрасного балетмейстера-режиссера: он не только заражал исполнителей, которые добивались совершенства, но и подчинял их своей непреклонной художественной воле и заставлял их работать до изнеможения и достигать изумительных результатов…
Фокин ушел из труппы Русского балета в 1912 году, вскоре после «L’après-midi d’un Faune»[87]87
«Послеполудня фавна» (фр.) [на музыку К. Дебюсси].
[Закрыть], – он покинул Дягилева, – вернее, Дягилев принес его в жертву новому хореоавтору – Нижинскому: Сергей Павлович не скрывал того, что возлагал громадные надежды на балетмейстера Нижинского, – оскорбленное самолюбие Фокина, до тех пор единственного балетмейстера, заставило его уйти. Через два года, когда Русский балет переживал первый балетмейстерский кризис, Дягилев принужден был снова обратиться к Фокину – и последний ненадолго вернулся в Русский балет: Сергей Павлович мечтал о «новом», а Фокин 1914 года был прежним, только менее ярким Фокиным; по-настоящему удачной была его постановка только «Золотого петушка», но и ее нельзя было сравнивать с фокинскими шедеврами 1911–1912 годов, а главное, Дягилев увидел, что новых откровений от Фокина уже нельзя ждать. В это время в Русском балете родился новый хореоавтор – Мясин, и Фокин больше был не нужен. Не нужен был Русский балет и балетмейстеру Мариинского театра, – и они навсегда расстались.
Нижинский
Настоящей гордостью, настоящей радостью Дягилева, но и отравленной радостью, связанной с мучительнейшими минутами жизни Сергея Павловича, был Нижинский.
Нижинский только за год перед тем, в 1908 году, окончил театральное училище и перешел в Мариинский театр и сразу же заставил о себе говорить, как о каком-то танцевальном чуде; впрочем, слухи о том, что появился какой-то необыкновенный танцор, распространялись и раньше, тогда, когда он был еще учеником императорского театрального училища – в Петербурге говорили о каких-то необыкновенных прыжках и полетах человека-птицы. Дягилев уговорил князя Львова, у которого в это время жил Нижинский, уступить ему «Вацу» – князь Львов уступил Нижинского, и Нижинский с этих пор становится почти собственностью Дягилева.
Нижинский отдал всего себя Дягилеву, в его бережные и любящие руки, в его волю – потому ли, что инстинктивно почувствовал, что ни в чьих руках он не будет в такой безопасности и никто не в состоянии так образовать его танцевальный гений, как Дягилев, или потому, что, бесконечно мягкий и совершенно лишенный воли, он не в состоянии был сопротивляться чужой воле. Его судьба оказалась всецело и исключительно в руках Дягилева, особенно после истории с Мариинским театром в начале 1911 года, когда он принужден был выйти в отставку – из-за Дягилева. Нижинский танцевал в «Жизели» в костюме, сделанном для него Александром Бенуа; по совету Дягилева, желавшего, чтобы костюм Нижинского более подходил к стилю Carpaccio [Карпаччо], Вацлав не надел трусики (тогда только акробаты носили слипы, у артистов же были трусики). В императорской ложе вместе с императрицей Марией Федоровной сидел великий князь Сергей Михайлович. Возмущенный неприличием костюма Нижинского, великий князь в антракте пошел за кулисы и на сцене раскрыл плащ Нижинского – Нижинский уже успел переодеться для второго акта «Жизели», – и остался вполне удовлетворенным. «Неприличие» костюма Нижинского заметил и Крупенский, замещавший в этот вечер директора Теляковского, и из ненависти к Дягилеву, о котором – после блестящих оперных и балетных сезонов 1909 и 1910 годов – упорно говорили, как о будущем директоре императорских театров, и который, по мнению Крупенского, слишком много времени проводил за кулисами и «совался не в свое дело», – Крупенский приказал оштрафовать Нижинского. Тем дело, казалось бы, должно было и кончиться, но после спектакля великий князь Сергей Михайлович отправился в яхт-клуб, где собирались великие князья и где был, между прочим, и министр двора барон Фредерикс. Тут за ужином, за стаканом вина, была сплетена целая «история Нижинского», барон Фредерикс тут же позвонил по телефону Крупенскому и велел наказать Нижинского, что тот с радостью и исполнил.
Во всей этой истории с отставкой Нижинского кажется чем-то невероятным и абсурдно фантастическим, что Мариинский театр мог так легко расстаться с танцором, равного которому не было за все время существования императорских театров и балета в России. Еще более странно, что, когда Ж. Руше приезжал в 1914 году в Россию и спрашивал, как дирекция Мариинского театра могла расстаться с Нижинским, ему ответили, что наш Мариинский театр слишком богат силами, чтобы дорожить отдельными артистами, и что таких танцовщиков, как Нижинский, «у нас сколько угодно».
Как бы то ни было, но после отставки Нижинского его связь с Дягилевым стала еще крепче и неразрывнее – отставка Нижинского прикрепила его окончательно к Дягилеву, и она же предопределила дальнейшее и постоянное существование Русского балета: теперь Дягилев как бы уже должен был основать постоянный балет и постоянную труппу…
Дягилев окружил всеми заботами своего Вацу, приставил к нему телохранителя – своего верного слугу Василия и отделил его от всего мира. В Лондоне в 1911 году маркиза de Gray Ripon [Грей Рипон], фрейлина королевы, игравшая такую же роль в Русском балете в Англии, как comtesse de Greffulhe во Франции, дала ужин Дягилеву, на который пригласила королеву Александру; Нижинского она посадила по правую руку от себя, – и эта смелость была безропотно принята высшим английским обществом; Нижинский, не говоривший ни на каком европейском языке, не проронил ни одного слова, и его приняли за существо непонятное и «таинственное».
Нижинский так мало входил в непосредственное общение даже с труппой Русского балета – до того, как он стал хореоавтором и до его поездки в Америку, – что и в труппе не многие знали правду о Нижинском, – но немногие знали ее. Эта правда заключалась в том, что Нижинский был рожден великим танцором, всем телом чувствовавшим и переживавшим всякое душевное движение с одной сильной танцевальной страстью и с одним танцевальным устремлением – инстинктом, заставлявшим его быть выше всех в танце. Но природа, щедро одарив его одним даром, отказала ему во всех других своих дарах; он не обладал ни волей и способностью сопротивляться чужому влиянию, ни большой оригинальностью мысли, ни уменьем выражать себя иначе, чем в танце, ни музыкальностью.
От неумения Нижинского выражать свои мысли артисты труппы начали страдать тогда, когда он стал балетмейстером и репетиции его балетов превратились в сплошную муку. Постоянная партнерша Нижинского, Карсавина так рассказывает об этой муке: «У Нижинского не было дара ясно мыслить и еще менее – ясно выражаться. Если бы его попросили написать манифест с изложением своей новой религии, то не смогли бы вытянуть из него, даже под страхом смерти, более того, что он сказал о своих удивительных прыжках. (Когда Нижинского спрашивали, как надо делать прыжки с остановками в воздухе, он отвечал: „Это совсем нетрудно, вы подымаетесь и на один момент останавливаетесь в воздухе“.) Во время репетиций „Игр“ он не в состоянии был объяснить мне, что он от меня хочет, и было чрезвычайно трудно понять объяснения по механическому способу, который состоял в имитировании поз, вам показываемых. Так как мне надлежало держать голову повернутой в сторону и соединять руки так, как будто я была искалечена от рождения, то знание, чему соответствуют эти два движения, облегчило бы мою работу. В полном неведении их смысла я, от времени до времени, принимала свое нормальное положение, а Нижинский мало-помалу стал думать, что я неохотно ему повинуюсь. Будучи лучшими друзьями на сцене и в жизни, мы всегда спорили, когда репетировали наши роли.
По поводу этих двух балетов наши споры были более ожесточенными, чем когда-либо. Так как я ничего не понимала, мне приходилось все мои движения заучивать наизусть, и однажды я спросила: „Что идет дальше?..“ – „Вы должны были бы знать это уже давно! – сказал мне Нижинский. – Я вам этого не скажу!..“ – „В таком случае я отказываюсь от своей роли“, – ответила я ему.
После двухдневной забастовки я у своей двери нашла большой букет цветов, и в тот же вечер, благодаря вмешательству Дягилева, состоялось примирение».
Нижинский был беден интеллектом: нужно ли удивляться тому, что Дягилев старался как можно дальше держать его от людей и, в частности, от труппы – никто не должен был подозревать, что «le roi est nu»[88]88
«Король гол» (фр.).
[Закрыть].
Ромола Нижинская в своей биографии великого танцора[89]89
К сожалению, в ее интересной и богатой материалами биографии так много непроверенных и заведомо неверных фактов (например, в сведениях о жизни Дягилева), что ею трудно пользоваться. Недостатки ее книги отчасти объясняются ее незнанием русского языка, доходящим до того, что в своих последних материалах (относящихся к периоду душевной болезни Нижинского) его подпись «Бог Нижинский» она переводит «Dieu et Nijinsky» («Бог и Нижинский (фр.)). Еще больше фантастики в ее рассказе о «мести» Дягилева Нижинскому.
[Закрыть] говорит о какой-то поразительной, исключительной музыкальности Нижинского. О том, какого рода была эта музыкальность, рассказывает его «друг» – Игорь Стравинский: «Его невежество в самых элементарных музыкальных понятиях было потрясающее. Несчастный юноша не умел ни читать нот, ни играть на каком-нибудь инструменте. Действие, которое на него производила музыка, выражалось им или банальными фразами, или повторением того, что говорилось в его окружении. Не находя в нем личных впечатлений, можно было сомневаться в их существовании. Эти пробелы были такие серьезные, что они не могли возмещаться пластическими видениями, порою истинной красоты. <…> Когда я начал ему объяснять в общих чертах и в деталях конструкцию моего произведения, я тотчас же обнаружил, что ничего не достигну, если прежде не объясню ему простейших вещей в музыке: музыкальное количество (целые ноты, половинные, четверти, восьмушки и т. д.), такт, темп, ритм и так далее. Все это он воспринимал с необыкновенным трудом. Но это еще не все. Когда, слушая музыку, он обдумывал движения, ему еще нужно было напомнить о согласовании их с тактом, его делениями и длительностью нот. Эта задача приводила в отчаяние, мы подвигались черепашьим шагом. Работа становилась еще более тягостной, так как Нижинский усложнял и перегружал сверх меры свои танцы и создавал таким образом для исполнителей непреодолимые трудности. Это происходило как от неопытности его, так и от сложности задачи, которая была мало свойственна ему».
Повторяю, Нижинский был редким танцором, только танцором – Дягилев хотел сделать из него большого человека, большого художника – артиста, творца. Сергею Павловичу было недостаточно того, что он лепил танцевальный гений, вернее, танцевальную индивидуальность Нижинского и развивал в нем громаднейшие природные танцевальные данные. Эта фраза может показаться странной, но она подтверждается свидетельствами современников Нижинского. Когда Нижинский кончал театральное училище, рассказывали чудеса о его прыжках, но он производил впечатление «bougon et stupide»[90]90
«Ворчуна и тупицы» (фр.).
[Закрыть], и от него не ожидали такого многого, что он дал. «Много лет спустя, – пишет его соученица Т. Карсавина, – Дягилев, обладавший почти чудодейственным даром видения, открыл миру и самому артисту подлинное лицо Нижинского. В ущерб своей оригинальности, Нижинский упорно старался выработать из себя традиционный тип танцора до того дня, когда Дягилев-чародей его тронул своей волшебной палочкой. Его юношеская, простая и мало привлекательная маска сразу упала, открыв натуру экзотическую, кошачью, эльфа, презирающего все искусственные условности и окоченелость предрассудков».
То, что дал Дягилев Нижинскому для развития его танцевальной личности и миру, показав величайшего гения танца, было уже так много, что на этом могло бы и остановиться участие Дягилева в возрождении мужского танца.
В своем стремлении дать художественное развитие Нижинскому, Дягилев изъездил с ним всю Италию, показал ему все художественные святыни Венеции, Милана, Флоренции и Рима, – Флоренция «скользнула» по Нижинскому и не задела его. Сергей Павлович водил своего «Вацу» по концертам, – Нижинский оставался музыкально глухим. Нижинский все свое время проводил в обществе Дягилева; громадная фигура Дягилева заслоняла от Нижинского весь мир, но это постоянное общение с таким исключительным человеком не дало бедному интеллекту Нижинского ничего, кроме нескольких фраз, которые он повторял чаще некстати, чем кстати.
В 1911 году Дягилев решил, что пришло время Нижинскому сделаться балетмейстером-хореоавтором (пришлось сделаться балетмейстерами и самому Дягилеву и Баксту…). Сергей Павлович сидел с Нижинским на площади святого Марка в Венеции, и тут ему вдруг, мгновенно, пришла в голову пластическо-хореографическая мысль сделать «Фавна». Сергей Павлович тут же вскочил и стал показывать около двух больших колонн венецианской площади угловатую тяжелую пластику фавна и воспламенил Нижинского, который стал бредить «Фавном». Часами просиживали они в музее, изучая античную пластику поз и угадывая их движение, и немедленно по возвращении в Монте-Карло приступили к постановке «Фавна». Первый творческий опыт Нижинского был мучительным и потребовал громадной затраты времени и сил не только Нижинского, растерявшегося, беспомощного, но и Бакста, и самого Дягилева. Игорь Стравинский свидетельствует, что «участие Бакста в балете „L’après-midi d’un Faune“ было преобладающим; не говоря о декорациях и прекрасных костюмах, которые он создал, он же указывал и малейшие хореографические жесты».
Дягилев присутствовал на всех репетициях – а их было больше ста! – Нижинский ставил отдельно каждый такт и после каждого такта поворачивался к Дягилеву и спрашивал:
«Так, Сергей Павлович? Ну, а теперь что?»
Несмотря на мучения с «Фавном», о котором мне еще придется говорить, несмотря на то, что Нижинский не обнаружил в нем никаких творческих данных, несмотря на то, что все окружение Дягилева не переставало ему твердить, что из Нижинского никогда не будет творца-хореоавтора, Сергей Павлович – из упрямства? из нежелания сознаться в своей неудаче? из искреннего убеждения? – в следующим году поручил своему Вацлаву постановку двух балетов – «Sacre du Printemps»[91]91
«Весны священной» (фр.).
[Закрыть] Стравинского и «Jeux»[92]92
«Игр» (фр.).
[Закрыть] Дебюсси. «Sacre du Printemps» в конце концов удалась, но сколько мучений всем – и Дягилеву, и Стравинскому, и Рериху, и всей труппе стоила эта «хореография» Нижинского, через семь лет переделанная Мясиным! – a «Jeux» не вошли в репертуар и больше никогда не возобновлялись… На этом и оборвались «хореографические опыты» Нижинского, если не считать его постановки в Америке – наперекор всему и всем – «Till Eulenspiegel’я»[93]93
«Тиля Уленшпигеля» (нем.).
[Закрыть] Рихарда Штрауса, – даже Сергей Павлович не признал этого балета. Говорю «даже» Сергей Павлович, потому что Дягилев так и продолжал упорно и упрямо считать Нижинского не только великим танцором, но и великим творцом, и еще за год до смерти писал о Нижинском: «Он был одинаково гениален как хореограф и как танцор. Он ненавидел танцы, придуманные другими (не в этом ли и заключается главная причина ухода Фокина из Русского балета. – С. Л.), и которые он должен был исполнять, и был бесконечно талантлив в изобретении танцев для кого бы то ни было, кроме самого себя». Единственную уступку сделал Дягилев, признав, что Нижинский не был талантлив в изобретении танцев для самого себя: трагедия Нижинского заключалась, конечно, не в том, что он был не изобретателен в танцах для самого себя, а в том, что его «хореография» и его голова оказались в противоречии с его ногами: Нижинский-хореоавтор предписывал Нижинскому-танцору такие движения, какие менее всего соответствовали характеру и свойствам его танцевального гения, особенно его элевации.
В 1913 году происходит охлаждение Дягилева к Нижинскому. До тех пор не отпускавший его от себя ни на шаг, опекавший и оберегавший его от сношений с внешним миром – как будто Дягилев предвидел опасность, как будто предчувствовал, что Нижинский потеряется и погибнет в этом мире! – Сергей Павлович отпустил его от себя в далекое американское путешествие… И внешний мир нахлынул на Нижинского и смял его не умеющую сопротивляться душу.
Нижинским овладели: сперва Ромола Пульска, женившая его на себе, потом «толстовцы» нашей труппы – N и NN[94]94
Дмитрий Костровский и Николай Зверев – Ред.
[Закрыть]. Нижинский проявил такую пассивность в своей неожиданной женитьбе, которая находилась уже на границе ненормального – кто хотел, тот и мог распоряжаться жизнью и мыслями Нижинского! Ромола Нижинская подробно рассказывает о том, как она женила на себе великого танцора, а также и о том, как на его несчастную голову обрушилась проповедь вегетарианства, аскетизма и толстовской морали. Помимо ее воли, из ее рассказа вытекает, что упрощенная балетными адептами толстовская схема оказалась не под силу гению танца: Нижинский не мог преодолеть Толстого (как, в сущности, не мог и понять его) и не выдержал противоречия, в которое его бросило новое учение: как согласовать это учение жесткой морали с его природою танцора? И если нельзя без особенной жути и волнения читать страницы о «толстовстве» Нижинского, ускорившем процесс его психического заболевания[95]95
У Нижинского было наследственное предрасположение к душевной болезни, и еще в Петербурге Дягилев лечил его у царского доктора Боткина, который видел грозный симптом в невыделении гланд у Нижинского.
[Закрыть], – меня часто преследовал образ несчастного Нижинского, гуляющего по швейцарской деревне с золотым крестом и останавливающего прохожих проповедью христианства, – то не меньшую жуть вызывает и рассказ Ромолы Нижинской о том, как она женила на себе Нижинского…
Нижинский «изменил» Дягилеву – можно ли говорить об «измене» слабовольного и уже тогда не вполне вменяемого человека? – он шел туда, куда его вели, – Нижинский переменил господина, своего «полубога», на госпожу, принесшую ему ряд несчастий, даже и не сообщив о своей женитьбе тому, с кем его жизнь была тесно сплетена, и Дягилев узнал об «измене» от своего преданного слуги Василия, сопровождавшего Нижинского в поездке в Южную Америку. Когда до Дягилева дошла весть о женитьбе Нижинского, он пришел в неописуемый гнев, в неукротимую львиную ярость: он ломал столы и стулья и в бешенстве метался по комнате.
Женитьба Нижинского была настоящим ударом для Дягилева, первою настоящею болью, пережитою им в жизни. Перед этим Дягилев отходил от Нижинского, охладевал к нему, – этот удар и его непоправимость показали ему, насколько Нижинский вошел в его жизнь и в душу, и вырвать его оттуда было невозможно – до самых последних дней Нижинский был ему дорог – и тогда, когда Нижинский причинял ему боли и обиды, и тогда, когда он умер и для танца, и для всего внешнего мира. Так всегда бывало с Дягилевым: он мог отходить от своих друзей, охладевать к ним, «изменять», но какая-то связь оставалась в его душе, и он – рано или поздно (в большинстве случаев поздно), проявляя это наружно или скрывая в себе, – снова возвращался к прежнему другу, которого, казалось, с такой легкостью вышвырнул из своей жизни, от которого, казалось, так легко отказался…
Перед отъездом из Америки Нижинский получил следующую телеграмму: «Le Ballet Russe n’a plus besoin de vos services. Ne nous rejoignes pas. Serge de Diaghileff»[96]96
«Русский балет более не нуждается в Ваших услугах. Не следуйте за нами. Серж де Дягилев» (фр.).
[Закрыть].
Казалось, произошел полный и окончательный разрыв. Нижинский оказался во время войны интернированным в Австрии[97]97
В действительности в Венгрии, в Будапеште. – Ред.
[Закрыть], и жизнь его превратилась в сплошной ад. Дягилев издали следил за жизнью Нижинского и решил ему помочь. «Полубог» продолжал царить в каком-то уголке и несчастного Нижинского, и он жестоко признавался жене: «Я не сожалею о моих отношениях с Сергеем Павловичем, даже если мораль их осуждает». Между Дягилевым и Нижинским, продолжавшим тянуться к своему прежнему владыке-другу, несколько раз готово было произойти полное примирение, и каждый раз оно оказывалось невозможным, потому что между ними стояла Ромола Нижинская. Дягилев долго хлопотал и добился того, что Нижинского выпустили из его тягостного плена в Америку; по приезде в Америку Нижинских Дягилев дружески их встретил и в следующем американском сезоне передал артистическое руководство труппой Нижинскому. Несмотря на то, что это руководство было тягостно Русскому балету – мы знаем, какое мучение представляли для труппы репетиции под руководством Нижинского, – даже Ромола Нижинская признает, что труппа вела себя очень вежливо по отношению к Вацлаву: «члены труппы оказывали мне много внимания, больше даже чем раньше», и она же добавляет в объяснение – «Дягилев без сомнения дал приказ». И в то самое время, как Дягилев делал шаги к примирению, жена Нижинского вела процессы против Дягилева и внедряла в не умевшую сопротивляться голову своего несчастного мужа нелепую и больную мысль, ставшую у нее ideé fixe[98]98
Навязчивой идеей (фр.).
[Закрыть], будто бы Сергей Павлович поставил себе целью «уничтожить» его и чуть ли не замышляет в Буэнос-Айресе заговор на его жизнь…
Так же радушно встретил Сергей Павлович Нижинских в Мадриде. Та же Ромола Нижинская рассказывает, что «Дягилев вел себя в отношении меня отечески, покровительственно и мило в это время. Вацлав мне говорил торжествуя:
– Ты видишь, „femmka“[99]99
«Женушка» (фр.).
[Закрыть], я тебе всегда говорил, что он будет наш друг.
И Вацлав снова рассказывал о той помощи, которую Сергей Павлович оказал одному прежнему другу, спустя много лет после брака оказавшемуся в затруднении, жена которого обратилась с просьбой к Дягилеву.
Вацлав был так счастлив, что он сделал бы что угодно, лишь бы понравиться Дягилеву, и вопрос о контракте не был затронут.
– Сергей Павлович не изменился. О чем спорить? Он будет открыто вести игру со мной. Дай ему возможность доказать это.
Каждый день Дягилев придумывал интересные места, куда он мог бы повести нас. Во время моего пребывания в Мадриде он расточал мне знаки дружбы. Его удивительная сила внушения, казалось, не уменьшалась с годами».
С открытым сердцем пошел Нижинский к открытому сердцу Дягилева, но между ними опять встала жена танцора, – и в результате Дягилев заставил Нижинского при помощи полиции исполнить свой контракт. Другого выхода не было: Дягилев, по контракту, должен был давать спектакли с Нижинским. Не выходивший из своей комнаты в течение нескольких дней, Нижинский, вместо того чтобы отправиться в театр, по совету своих «друзей», собрал свои чемоданы и отправился на вокзал.
Эти вынужденные спектакли в Испании в 1917 году были последними, в которых принимал участие Нижинский и во время которых он встречался с Дягилевым. Вскоре после этого он уехал с труппой, но без Дягилева в Южную Америку, а оттуда в Швейцарию, и его психическая болезнь начала все быстрее и быстрее развиваться, – и скоро нарушились все связи Нижинского с внешним миром. Дягилев тяжело пережил несчастие, постигшее великого русского танцора, ускоренное обстоятельствами жизни, поставившими Нижинского далеко от благодетельной для него опеки Дягилева…
До самой смерти Дягилев не мог примириться с этим несчастием, все надеялся, что какой-нибудь шок вернет миру прежнего Нижинского, и несколько раз пытался вызывать эти шоки. Помню, как весной 1924 года Нижинского, в сопровождении его belle-soeur, Tessa Pulska[100]100
Свояченицы, Тессы Пульски (фр.).
[Закрыть] привели на одну из репетиций «Fâcheux»[101]101
«Докучных» (фр.) [Ж. Орика].
[Закрыть]. Появление Нижинского вызвало у всех в труппе подавленное состояние. Было жутко от его взгляда: он все время смотрел поверх всех и бессмысленно, бессмысленно полуулыбался страшной, нездешней полуулыбкой человеческого существа, которое ничего не знает. Низко склонили перед ним головы все мы – и новички труппы, и наши старшие товарищи, знавшие его еще тогда, когда имя его гремело на весь мир, и тяжелые думы, воспоминания и мучительные сожаления овладели ими; через силу, медленно, трудно они делали свои па, как будто боясь оскорбить его тем, что они еще танцуют, в то время как он, король танца, присутствует здесь уже не как танцор и больше никогда не будет танцевать…
Из этого присутствия Нижинского на репетиции в знакомой обстановке театра «Mogador» никакого шока не получилось… Через пять лет Дягилев повторил попытку в «Opéra». И из этой попытки – за несколько месяцев до смерти Сергея Павловича – ничего не вышло…
Другие сотрудники Дягилева. – Камердинер и костюмер Василий. – Сотрудничество Л. Бакста и разрыв с ним
Я подробно остановился на Нижинском – и не столько потому, что он играл исключительно большую роль в Русском балете Дягилева, сколько потому, что его жизнь так тесно переплетена с жизнью Сергея Павловича, что забыть о нем – значило бы зачеркнуть очень значительные страницы жизни Дягилева. Другие сотрудники, с которыми Дягилев поехал в 1909 году в Париж, такой роли не играли, и потому я ограничусь тем, что назову только некоторых из них. Так, нельзя не назвать старейших артистов труппы – Больма, которому половецкие пляски обязаны были в большой мере своим успехом и который в Америке поставил «Садко», и Кремнева, к которому Дягилев относился теплее, чем к кому-либо из артистов труппы, любил его и часто вспоминал, как этот характерный танцор, вместе с Rosay [Розай] спас «Павильон Армиды» в Лондоне в 1911 году во время коронационных торжеств.
Нельзя забыть С. Григорьева, постоянного режиссера Русского балета с самого первого и до самого последнего дня его существования (в 1909 году он разделял режиссерство с Саниным). Григорьев, окончивший балетную школу и драматические курсы, не обладал ни творческой фантазией, ни инициативой; он был точным исполнителем воли Дягилева и передатчиком его распоряжений и старался о том, чтобы все было в порядке, и чтобы все ходили как по струнке. Григорьев был одним из самых вернейших людей Дягилева, который ему безусловно доверял, но держал его в известном отдалении.