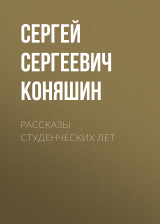
Текст книги "Рассказы студенческих лет"
Автор книги: Сергей Коняшин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Сергей Коняшин
Рассказы студенческих лет
Судьба
Иссохшие и почерневшие под прямыми солнечными лучами мертвецы густо устилали искалеченными телами огромную желтую пустыню от одной багровой линии горизонта до другой. Некоторые из них, уже почти полностью занесенные холмами едкого песка, изредка напоминали о себе короткой судорогой руки или ноги, у кого они оставались, или лихорадочным встряхиванием разрубленной или проломленной головы.
Он тяжело шагал вслед за ядовитым африканским солнцем на запад по раскаленным до лимонного блеска барханам, постоянно спотыкаясь и проваливаясь в обжигающий песок. Его больше не пугали шевелящиеся мертвецы. Теперь он знал, что в этой проклятой пустыне бывает всякое, и совсем скоро они перестанут обращать на него внимание, все стихнет и станет на свои места. И тогда можно будет спокойно продолжать свой и без того нелегкий путь.
Оборачивался он редко, но всегда с одной только целью – проследить насколько ровной была полоса из его следов от одного бархана к другому, чтобы не сбиться с пути. Он очень устал, последние силы быстро покидали его, и во рту начал проступать сухой металлический привкус крови. Когда один из мертвецов схватил его за ногу, и он беспомощно рухнул на песок рядом с ним, свинцовое изнеможение окончательно сковало ослабевшее тело, и он больше не смог подняться.
Неизвестно откуда появившаяся Смерть попыталась выковырнуть зазубренной косой из его груди душу. Ей это не удалось, и она удалилась, удовлетворившись израненным сердцем неизвестного тяжелораненого солдата всеми забытой войны, который, тем не менее, не дался без боя и, затравленно сопротивляясь, даже несколько раз оторвал ей голову.
Когда Смерть скрылась за горизонтом, он заметил в песчаной пурге маленькую светлую фигуру и вцепился в нее осоловевшим взглядом. Она быстро приближалась, и по мере приближения ее черты становились яснее и четче. Казалось, даже беспощадный удушливый зной сторонился ее красоты и свежести. Ее губы, алые, как воспаленный пустынный закат, не ссохлись, и лицо не обветрилось. Даже походка оставалась ровной и неторопливой, несмотря на бесконечные расстояния, которые ей, по всей вероятности, пришлось преодолеть – бесплодные седые пески раскинулись на тысячи миль вокруг.
Она шла, как будто намеренно не замечая его, умирающего. Он собрал последние силы, встал и бросился вслед за ней.
– Подождите, – сдавленно прохрипел он сиплым задушенным голосом. – Кто Вы? И почему здесь?
– Я твоя Судьба, – ответила она вроде бы равнодушно, но с едва заметным удивлением его неосведомленности. – Не обращай на меня внимания, иди своей дорогой.
– Но разве у нас не одна дорога?! – с изумлением спросил он.
– Все зависит только от тебя. Выбирай.
От девушки тянуло сладостной морской прохладой и утренней свежестью. Как только он подошел к ней, во рту его исчезло столь ненавистное в пустыне чувство жажды, утомленное лицо его оживилось бодростью. Он не захотел уходить от нее, и они продолжили путь вместе.
Через несколько дней на спуске с очередной высокой дюны, невероятно горячей даже для этих мест, полуистлевший морщинистый мертвец, поднявшийся из песка с огромным ножом в руке, ударил им в грудь Судьбу, и зарылся обратно также быстро, как и вылез. Она смиренно приняла удар, не вскрикнув и даже не застонав. Ее тело плавно осело ему на руки. Горячая кровь отчаянно пульсирующими фонтанами выплескивалась на раскаленный песок и запекалась на нем широкими багровыми каплями.
Умирая на руках своего хозяина, Судьба сдавленно прошептала:
– Мне нужна твоя жизнь. Отдай мне ее, пожалуйста.
Она говорила все быстрее и все слабее. Ее руки все нетерпеливее перебирали складки и рукава его одежды. Ее лицо бледнело с каждой секундой. Он испугался. Бросив девушку на песке, он побежал прочь, как и прежде, спотыкаясь и разбивая в кровь локти и колени. Усталость вновь начала одолевать его, в горле пересохло, во рту снова появился противный привкус крови.
Преодолев несколько сот метров, он по обыкновению обернулся, чтобы посмотреть на линию своих следов и выровнять направление пути. Древняя старуха, уже, по-видимому, немало времени преследовавшая его, уперлась в него колючим огненным взглядом.
– Кто вы? – дрогнувшим голосом спросил он.
– Ты оставил меня умирать на песке? Почему?
– Моя Судьба? Ты же мертва! Я сам видел.
– Разве может судьба умереть, пока жив ее хозяин? Я всего-навсего просила разделить на двоих твою жизнь, чтобы успеть дать тебе все, что ты должен был получить прежде, чем за тобой вернется Смерть. Но ты сделал свой выбор. И теперь у нас точно одна дорога. Как ты этого и хотел.
Она вцепилась костлявой рукой в его плечо. Длинные когти, выросшие в одно мгновение на ее тощих узловатых пальцах, проткнули нагретую палящим солнцем кожу и намертво вцепились во вздрогнувшую в последней агонии плоть. Ручьи алой крови густо обагрили его грязную потную одежду и широкими длинными струями потекли на песок. От разрывающей сердце боли, сжавшей глотку дикой судорогой, он не смог даже простонать. В последний миг своей жизни он подумал лишь о том, что, пытаясь сохранить жизнь и предав свою судьбу, он потерял не только и то, и другое, но и еще что-то намного более ценное…
11 октября 2000 г.
г. Новороссийск
Витя
Сентябрь кровавого сорок второго года ворвался в Новороссийск на квадратных короткодулых немецких танках. Черные фашистские машины бешено рвались в центр города. Красноармейцы, оттесненные в район Октябрьской площади, отчаянно цеплялись за каждую пядь родной земли, но силы, к горькому сожалению, были неравными. Пять отборных немецких дивизий, при поддержке еще двух румынских, плотно смыкали кольцо окружения вокруг Цемесской бухты.
На Октябрьской площади вокруг старинной башни из серого известняка ощетинились пулеметами окопы, сгорбленно приподнялись над посеревшей от копоти и сажи землей блиндажи и дзоты. Когда фрицы стали давить и красноармейцам потребовалась господствующая высота, семье Новицких, для которых с довоенного времени первый этаж башни служил жилищем, пришлось перебраться в другое место, а башню заняли матросы.
До войны Новицкие жили в одной из донских станиц. Однажды ночью они проснулись от громкого детского плача, донесшегося из-за входной двери. На крыльце в деревянном корытце, укутанный в ворох одеял, лежал ребенок. Когда открылась дверь и в светлом прямоугольнике появились люди, он прекратил плакать, весело рассмеялся и потянулся к будущим родителям пухлыми ручонками.
Официально Новицкие усыновили смуглого и светловолосого Витю (так назвали ребенка) со слегка раскосыми глазами только осенью тридцать седьмого, когда переехали в Новороссийск. Год рождения записали 1930-й (не исключено, что ошиблись), а день рождения отмечали 9 сентября. Отец устроился на работу в Управление морского порта, а незадолго до этого семья получила квартиру – в той самой трехэтажной башне на Октябрьской площади.
Вите очень понравился Новороссийск. Он часто ходил на работу к отцу смотреть с пристани на корабли. Или забирался на какую-нибудь крышу, с которой был хорошо виден порт. Потом уговорил мать купить ему на рынке тельняшку. Купили. Правда, она оказалась немного велика, но что поделаешь – меньше не было, зато на вырост.
Многометровый памятник героям Гражданской войны с красной каменной звездой в основании был виден прямо из витькиного окна. Об этой войне Витя знал очень много. Ему о ней рассказывал отец, который участвовал в ней.
Утром 20 июня сорок первого года Витя по обыкновению сидел на одной из крыш и сверкающими от любопытства глазами провожал вереницу иностранных кораблей, покидающих Цемесскую бухту. Рядом с ним слащаво растянулся на солнышке младший брат Славка, широко разбросав в стороны ноги и подперев кулаками подбородок.
– Все идут? – спросил Славка.
– Идут, – ответил Витя, не сводя прикрытый ладошкой взгляд с усеянного кораблями горизонта.
– Что же их так много? – Славка приподнялся на локте и тоже стал разглядывать уходящие из порта корабли.
– Сам не пойму, – пожал загорелыми плечами Витька. – Причем все, которые уходят, – и он рукой провел по душному воздуху невидимую черту, которая должна была отделить движущиеся корабли от стоявших на рейде, – немецкие. Немцы у нас зерно берут. Действительно странно, почему они все уходят?
В Новороссийск ответ на этот вопрос прилетел спустя два месяца в виде фашисткой авиационной бомбы, которая с оглушительным грохотом проломила шиферную крышу недавно построенного Дворца культуры цементников. За несколько часов бомбежки город почти полностью лег в руины под ударами вражеской авиации. Гитлер приказал стереть в лица земли все советские черноморские города кроме Сочи, намереваясь подлечить там свои потрепанные нервы, а на месте уничтоженного Новороссийска, в Цемесской бухте, основать город фюрера – Адольфштадт.
Витя, не находя себе места, метался по заваленным обломками улицам. Почти все его друзья к тому моменту покинули город. Взрослые ушли на фронт. Большую часть детей спешно эвакуировали. Старшие Витькины товарищи, окончившие в день начала войны школу, ушли в военкомат прямо с выпускного, едва встретив первые солнечные лучи, тревожно вынырнувшие из-за зубастых вершин Маркотхского хребта.
Когда бомбардировка закончилась, Витя забрался на крышу своей башни и огляделся. Он увидел усеянные кирпичным крошевом улицы, поваленные расколотые деревья, обгоревшие разрушенные стены, густые и низко стелящиеся шлейфы черного дыма, затопившие полыхающий в адском огне город.
После этого он пропал. Несколько дней отец и мать без сна и отдыха искали его, но мальчишка как в воду канул. Он убежал под Керчь. Соврал капитану боевого катера, что он сирота и что хочет воевать. Тот долго думал и решил взять – что поделаешь, если сирота?
На катере Виктор не задержался. В одном из сражений был тяжело ранен и отправлен обратно домой. На память о том побеге на фронт ему остались черные матросские брюки и солдатская гимнастерка. Когда он тихо постучал в дверь, отца дома не было, Нину и Славку эвакуировали, а мать ухаживала за тремя ранеными краснофлотцами.
– Сынок! Где ты был?! – мать бросилась обнимать вернувшегося сына.
Он рассказывал, пока она собирала ему поесть. Погрели воды помыться. От таза с теплой водой, поставленного на табурет, тающими колечками струился густой пар. Витя начал стягивать тельняшку. Затем брюки. Правая нога перевязана.
–Что с тобой? – спросила мать.
– Ерунда, осколком задело.
– Может, стоит перевязать?
Витя кивнул. Мать разрезала и сняла старые грязные бинты. Большого пальца нет. Оторван начисто.
Вернувшись в Новороссийск, Витя крепко подружился с моряками, расположившимися в их доме. Однако, когда завязывался бой, они решительно прогоняли его из башни. Знали, что есть мать. Как он уговаривал краснофлотцев, чтобы те разрешили ему помогать им здесь! Таскал ящики с боеприпасами, носил воду. Порой вытряхивал им под ноги собранные ночью патроны для трофейных автоматов. А моряки все равно прогоняли его. Но ведь эта башня – его дом! Как он может уйти отсюда?! Тем более, его отец, когда-то учивший его читать и писать в этой вот самой комнате, недавно погиб во время очередной бомбежки в порту.
Витя как в землю врос: «Буду воевать вместе с вами. Гоните сколько угодно! А я никуда не уйду». Не успел матрос, как следует прикрикнуть на него – в глубине переулка Декабристов показались темно-зеленые фигурки гитлеровцев и начали обстрел башни. Рота фашистов стремительно рвалась к морскому порту по улице Рубина. Теперь уже, разумеется, поздно. Не вытолкаешь же пацана за дверь, прямо в руки немцам.
Витя остался в башне. Бегал по этажам подносил патроны, бросал гранаты в наседавших врагов. Как он ненавидел нацистов с их загнутыми касками, засученными рукавами, с их наглой походкой и автоматами наперевес!
Раздался оглушительный взрыв. Все смолкло. Витя поразился неожиданно наступившей тишине. Из переулка доносились разрозненные выстрелы. А в башне было тихо. Мальчишка кошкой скользнул наверх. Последний матрос миноносца «Бдительный», уткнувшись окровавленным лицом в кирпичное крошево, неподвижно лежал в полуметре от еще теплого пулемета «максим», поставленного на подоконник.
Из-за разрушенного окна, выходившего на улицу Рубина, доносился постепенно затихающий рокот и лязг железных гусениц об асфальт. Немецкий танк неуклюже отползал от башни. Окно, в проеме которого остывал пулемет, смотрело в сторону переулка Декабристов. Там были немцы, спрятавшиеся за углами домов и за деревьями. Еще одно окно выходило на Октябрьскую площадь. Там не было никого живого. Только удушливые шлейфы темного дыма обволакивали обугленные трупы и окровавленные траншеи.
Новицкий неслышно подобрался к «максиму». Ободренные наступившей тишиной фрицы выползли из укрытий и неровными рядами двинулись к башне. Витька наблюдал за ними из-за щитка пулемета. В полуметре от его головы лязгнула пуля, раскрошив вывернутый из оконного проема кирпич. Новицкий пригнулся. Короткая очередь выбила из стены над его головой несколько пучков каменных крошек, и они быстро посыпались ему на макушку.
Новицкий вскочил и решительно стиснул остывавшую гашетку. Несколько фашистов уткнулись блестящими касками в землю и распластались поперек тротуара. Остальные разбежались по подворотням и залегли. Под убитыми медленно растеклись неровные темно-красные лужи.
Мальчишка окинул комнату быстрым взглядом. В углу напротив двери стояли ящики с патронами, за ними – с гранатами. Он стремительно метнулся в угол, схватил пару гранат и кубарем скатился к выходу.
Фрицы, тем временем, вновь поползли вперед. Тому, что был ближе всех, прямо в грудь уткнулась граната, и в ту же секунду раздался взрыв. Фонтан смешанной с землей дорожной пыли и куски человеческого тела, не успевшие еще окровавиться, взлетели в воздух и неуклюже развалились в разные стороны. Тех, кто был подальше, Виктор расстрелял из пулемета, вернувшись к окну. Немногим удалось убежать обратно в переулок.
Несколько минут спустя оттуда, грохоча, огрызнулись минометы. Один из снарядов угодил в стену правее Витькиного окна. В комнату плеснули колкие струи песка, обломки разбитой стены и осколки металла. Витя, отброшенный ударной волной, полоснувшей по краю окна, отлетел от опрокинувшегося пулемета и больно ударился затылком об угол разбитого кирпича. По шее за шиворот стекла широкая струя крови. Выкарабкавшись из пыльной груды обломков, он принялся поднимать пулемет, крепко сжимая от боли свои крупные белые зубы, затекшие алыми разводами крови из разбитых губ, – и вновь пропорол улицу Рубина длинной очередью.
Пули с упругим треском продырявили разбитую дорогу, и крупные комки асфальта, со звоном вырванные из земли, хлестко брызнули в стороны и раскатились к потрескавшимся бордюрам. Рота фашистов в очередной раз отхлынула в переулок, а мальчишка пулей слетел вниз и выбросил за дверь еще одну связку гранат. Взрыв жестко сковырнул воздух, выбросив вверх густой фонтан земли и травы.
Витя распахнул гимнастерку. Пусть, гады, видят тельняшку. Моряки не сдаются! Он уже два часа сдерживал натиск немецкой роты один.
Из переулка, грузно дребезжа мощными гусеницами, выехал танк. Медленно развернулась его квадратная башня, уверенно нацеливая в Витькину сторону короткий ствол, зловеще чернеющий крупной глубокой глазницей. Грянул выстрел. Машина качнулась, подпрыгнула, дернулась назад, и ее гусеницы быстро обволоклись жидким облаком поднятой с дороги пыли. Снаряд гулко вонзился в башню – и ее стены выдержали. Мальчишка облегченно вздохнул и снова начал стрелять.
Поредевшие отряды немцев, прикрытые танком, ползли за камни, деревья, бордюры, углы домов – и тоже стреляли. «Максим» бешено строчил в ответ. Витя продолжал драться. Правда, не знал он, что в эту минуту два уцелевших фашиста уже поднимались по лестнице его неприступной башни. Они проломили наскоро замурованное краснофлотцами окно первого этажа и залезли внутрь. Скрипнули деревянные ступеньки под их сапогами, с грохотом соскользнула с ржавых петель высаженная дверь. Витя обернулся. Немец наотмашь ударил его прикладом автомата по голове.
Новицкий упал на колени и, широко разведя руки, опрокинулся лицом в пол. Фрицы швырнули оглушенного мальчишку на подоконник и облили с ног до головы керосином. Витя на несколько секунд пришел в себя, успел увидеть только, как чиркнула зажигалка в руках одного из фашистов, – и вспыхнул, как лучина. Его извивающаяся от боли, худая, охваченная жадным огнем фигура сорвалась вниз и упала к подножию башни. Он, несколько раз перевернулся, перекатываясь с одного бока на другой, и, сгорая, затих навсегда, уткнувшись обоженным и окровавленным лицом в густо усеянную еще горячими гильзами землю, за которую погиб…
15 августа 2001 г.
г. Новороссийск
У эскалатора
Монеты со звоном ударились о заплеванные мраморные плиты и раскатились в разные стороны. Парень попытался достать из кармана еще, но людской водоворот, схлынувший с эскалатора, утащил его вперед по коридору. Пожилая женщина поправила черный платок, небрежно завязанный на голове, села на корточки и стала собирать упавшие возле нее деньги.
Она появилась в этом вестибюле метро несколько недель назад. В старом потертом пальто не по сезону для двадцатиградусных московских морозов, с рваным черным платком на голове и аккуратной картонной табличкой: «Помогите. Болеет сын. Пенсия 1020 рублей». Люди проходили мимо, громко разговаривая и крича, иногда на ходу толкая ее. Она лишь торопливо отвечала: «Не беспокойтесь, ничего страшного», хотя прощения у нее никто не просил. В час пик она забивалась в дальний угол на выходе из станции, одной рукой держала перед собой табличку, другой – всегда полупустой целлофановый пакет. Ее глаза растерянно скользили по толпе, как будто боялись не только встретиться с кем-то взглядом, но даже остановиться на ком-то из прохожих. Казалось, ей очень тяжело и стыдно стоять в метро с целлофановым пакетом и измятой картонкой, что она готова в любую минуту бросить их на грязный пол и, не оборачиваясь, уйти, но необъяснимая сила удерживала ее на самом краю, не давала сделать ни шагу в сторону.
Тысячи стариков и детей, мужчин и женщин, ребят и девушек каждый день длинными потоками проходили мимо нее, а пакет почти всегда оставался пуст. Того, что ей подавали, было так мало, что оно легко умещалось в неглубоких карманах ее изношенного серого пальто. Вместе со всеми я больше двух месяцев подряд каждый день проходил мимо пожилой женщины и за это время почти перестал обращать на нее внимание. Со своей грязной табличкой и мятым пакетом она прочно вписалась в интерьер станции как обязательная и каждодневная ее деталь, вроде мозаики на стенах или кованных чугунных перил на замусоренных лестницах.
В этот день на станции не начался давно запланированный ремонт, о котором извещали многочисленные объявления, и поезда ходили в прежнем режиме. Даже серая сгорбленная фигурка по-прежнему была хорошо видна возле эскалатора. А привычный ход событий нарушился. Люди меньше кричали, быстрее сходили с движущихся разлинованных ступеней и поспешнее, чем обычно, пробирались к поездам. В глазах женщины стояли слезы, готовые сорваться в любой момент. Она еще больше сгорбилась и еще глубже забилась в зловонный угол между красной и белой мраморными плитами и оттуда растерянно и испуганно смотрела на людей, будто искала, у кого просить прощения за то, что посмела заменить на своей табличке слово «болеет» на слово «умирает».
Бережно подобрав из луж грязи монеты, выпавшие из рук парня, она положила их в пакет. В этот день ей давали больше. Даже издалека было видно, что пакет не пустой, и монеты, упав в него, звякнули о другие.
«Умирает» было написано на чистом листе бумаги и наклеено поверх прежнего «болеет». За два месяца картонка замаралась, и от этого белоснежный прямоугольник с новым словом висел в воздухе, словно чужой, не имеющий отношения к привычной для всех реальности.
На новогодние праздники я уехал с друзьями в соседнюю область и вернулся в Москву за день до Рождества. В вагонах метро догорала праздничная атмосфера. Кто-то был еще пьян, кто-то вез завернутые в разноцветную бумагу подарки и большие воздушные шары, кто-то, не попадая в ноты, пел популярные безвкусные песни. На полу станций и подземных переходов валялись кусочки конфетти и обрывки разноцветных лент, втоптанные в лужи разлитого пива и дешевых алкогольных коктейлей. Из душного смрада бетонного подземелья очень хотелось выбраться наружу.
Женщина по-прежнему стояла возле эскалатора. Вместо старого целлофанового пакета на ее руке висел новый, бумажный – с цифрой 2002, написанной золотистой краской, со смеющимися оленями и рассерженным на них Дедом Морозом. И табличка в ее руках была новая, написанная на чистой, аккуратно отрезанной картонке: «Умер сын».
Небеса не разверзлись, и струи всемирного потопа не ударили в землю. Поэтому никто не заметил, что наступил конец света. По крайней мере, на отдельно взятой станции метро для отдельно взятого человека в темном углу.
Она стояла ровно, не горбясь, безразлично отвернув голову в сторону и грустно уперевшись опустошенными глазами в пол. Платок не был завязан, а лишь небрежно накинут на голову. Табличку она держала криво, словно уже не заботясь о том, прочтет ее кто-нибудь или нет. Из обоих глаз по осунувшемуся потемневшему лицу пролегли две ровные блестящие полоски.
Люди на ходу бросали монеты и мелкие купюры в пакет с новогодними картинками и, не задерживаясь, проходили дальше. Каждый из них едва заметно улыбался, чувствуя себя щедрее, добрее, милосерднее и великодушнее, благодаря чужому горю, в этот светлый праздничный день.
8 января 2002 г.
г. Москва








