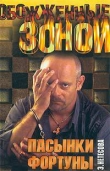Текст книги "За колючкой – тайга"
Автор книги: Сергей Зверев
Жанр:
Боевики
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Троих заключенных, в том числе и Летуна, отправили на разгрузку очередной подводы, и старик с куцей бороденкой, заметив их приближение с конвоем и недовольный таким положением вещей, погрозил зэкам залоснившимся кнутом:
– Смотрите мне, ироды!.. Штоб ни одно яйцо не пропало. В прошлом годе два десятка пропало, даже скорлупы не нашлось! И килограмм творогу исчез. Знаю я вас…
Яйца, конечно, все равно пропали. Как и небольшое количество творога. За такими событиями не могли усмотреть ни двое парнишек с буквами «ВВ» на погонах, ни бдительная немецкая овчарка. Двое носили продукты в ледник, замполит распоряжался внутри, а Летун подавал груз с телеги. Рядом с ним стоял вооруженный кнутом дед и сверял список с убывающим товаром. Все как обычно, как каждую весну.
– А что, дедушка, – тихо, как имел обыкновение разговаривать, поинтересовался Летун. – Пенсию у вас в деревне платят?
– Платят, – поморщился, недовольный, что его перебили, старик. – Лучше бы не платили.
– Что так?
– А на шестьсот рублей прожить можно?
– Шестьсот? – улыбнулся Летун. – Мы на сто пятьдесят в месяц живем.
– То вы, а то – мы, – резонно пояснил дед. – Разницу чуешь? Ты аккуратней подавай, аккуратней. Это не кедры, а яйца.
– А как же вы живете на шестьсот рублей? – снова помешал старику вести подсчеты Летун. – Хозяйство разве можно содержать на такие деньги?
– Да ты меня специально со счету сбиваешь никак? – возмутился курьер. – Я все равно с ледником сверюсь.
– Не вопрос, – согласился Литуновский. – А детки разве не помогают?
– Ты, зэк, новенький, как я догадываюсь, – осенило старика. – Детки все при нас. Куды им отсюда ехать? Кому оне в городе нужны?
Немного смирившись с тем, что его не обманывают, а просто разговаривают, как с человеком, сельчанин присел на грядку телеги и прокашлялся. Угостил Летуна папиросой, прикурил сам и, пустив в сторону дымок, признался:
– Думаешь, нам легко? У меня трое сынов, и дочка на сносях. Мотоцикл сломался, а где мне пятьсот рублей на ремонт взять? Ладно, жиры и мясо в дому есть, но мыло надо? Сахар надо? А внуков обувать во что? Просил у вашего кирзы старой, не дает. А мне вас жалко, ей-богу, жалко. Убивцы вы, конечно, но моя бы воля, упростил бы я жисть вам.
– Это каким же образом?
Андрей затянулся папиросой, и голова у него закружилась, как от стакана водки. Три месяца назад оказавшись здесь крепким человеком, в свои сорок лет он и не думал о том, что после разгрузки половины телеги с грузом у него иссякнут силы и он почувствует слабость. Это состояние немощности усиливалось с каждым днем, и он начал чувствовать приход той болезни тела и духа, которая здесь называется синдромом «дачи». Это состояние жуткой депрессии от понимания того, что ты не прожил тут и двадцатой части положенного срока, но начинаешь задумываться, как не загнуться следующей зимой. Андрей думал о зиме, потому что не знал, как тяжело на «даче» лето. Полная депрессия овладеет его разумом тогда, когда он поймет истину, доходящую до каждого новенького, прожившего здесь год. Лето на «даче» не лучше, чем зима. А весна не лучше осени. Время года меняется, а мысли о том, как сохранить силы и выжить, остаются прежними. И каждый новый год уверяет в том, что никто отсюда уже не уйдет. За три последних года во всяком случае ушло всего шестеро. И сейчас они лежат на зоновском кладбище под памятником из штакетника, на котором значатся лишь цифры. Здесь нет фамилий. Пока живешь, имеешь кличку. Ушел – получишь цифры.
– Каким образом? – Дед задумался. – Ну, лес, ведь его весь не свалить, сынок. Так зачем вас так мучить? Дорогу строят – кедры трактором валят. Потому что быстрее и дешевле. Значит, вас валить заставляют, чтобы не скучали. Скучному зэку мысли в голову бедовые лезут, да силы у его на свежем воздухе крепчают. А ведь вам, паря, сроки такие не для того дают, чтобы вы здоровье копили. Тебе, к примеру, сколько дали?
Литуновский признался, что восемнадцать. Услышав число, старик обмяк и сразу постарел лицом. Кнут в его руке уже не играл, а шевелился.
– Вот оно, значица, как… А за что, ежели не секрет?
– За убийство.
– Вот оно как, значица… А сейчас-то тебе, паря, сколько?
– Сорок один.
Старик затянулся папиросой. Подсчитал уже давно, но произносить вслух стеснялся. Деревенские, они учтивые. Пусть даже зэка, но не обидят. Чувствовалось, что старик жалеет о своем любопытстве.
– Пятьдесят девять мне будет, дед, – ответил за него Андрей. Тихо ответил, спокойно. Но столько воя и горя было в этом спокойствии, что старик покопался в телеге и вынул какой-то пакет.
– Поешь творожку, – он развернул сверток и протянул Андрею. – Это мой, не отчетный. В дорогу брал.
Зачерпнув рукой белоснежного месива, Литуновский отправил его в рот и зажмурил от удовольствия глаза. Творог на свободе он не ел, особой любви к нему не испытывал, но сейчас, когда почувствовал на небе кислый вкус сладкой свободы, вдруг перестал жевать и закрыл рукой глаза.
– Да ты не переживай, он действительно мой. Ничего не стоит.
Слез не было, Литуновский не мог их себе позволить, однако наружу могла выскользнуть и та влага, что накопилась за доли секунды независимо от его желания. Развернув вверх лицо, он посмотрел на медленно плывущее облако. Оно было похоже на плюшевого белого мишку, которого он купил сыну на пятый день рождения.
– Ты жуй, жуй, – по-доброму, не понимая, посоветовал старик, видя, как Летун сидит с полным ртом и смотрит в небо. – Я еще дам.
Творог во рту превратился в раскисшую массу. Ее невозможно было ни сглотнуть сжавшимся от тоски горлом, ни прожевать. Старик, сообразив, что происходит неладное, быстро вынул из сидорка закупоренную газетной тычкой бутылку молока, и протянул зэку.
– Спасибо, – едва отдышавшись, поблагодарил Андрей и вернул бутыль. – Спасибо…
– Вот еще яйца, вот хлеб. Пользуй.
Но Литуновский, силой заставив увести глаза в сторону, отказался:
– Тебе обратно ехать, побереги.
Двое заключенных носили товар, и по их возбужденным лицам было понятно – носят не зря. В такие минуты внимание охранников и подсчеты замполита в леднике бессильны.
– Лодку починить надо, – продолжал сетовать старик, – а на что купить смолы? Опять же, сети прохудились. Мы со старухой подсчитали, чтобы все дыры в хозяйстве заткнуть, не менее двух тысяч трехсот рублей надо. Ну, выручу я сейчас рублев триста, ладно. Рыбы кровососам городским сдам рублев на двести. А где остальные взять? До шишек еще полгода, а за мехом скорняги лишь в декабре прибудут, после линьки. Как жить? Ох, горе…
– Да, трудно вам, – пробормотал Андрей. – Вам бы две с половиной тысячи. Решение всех вопросов…
Старик посмотрел на Летуна взглядом, полным возмущения.
– Две с половиной… Да полторы бы! Я шифер бы старый использовал на дому, и делов-то. А полторы – это в самый раз.
Над их головами стремительно пролетела какая-то серая птичка и, чиркнув воздух коротким пением, скрылась в лесу.
– Скороспель, – поспешил объяснить дед. – Значит, разлетались, лето дождливое будет. Ох, горе вам, ребяты… После такой зимы такое лето…
– Ну, что там? – Из ледника показался порядком замерзший замполит.
Конвоир, тот, что с собакой, крикнул, что разгрузка завершена, и спросил, уводить ли «этих троих». Литуновский с первого дня отметил про себя одну особенность – их никогда не называли людьми. Лишь числом, в зависимости от того, какое количество человек имелось в виду. Если один – номер на телогрейке. Если несколько, то как сейчас – «этих троих».
– Ты вот что, парень, – засуетился сельчанин. – Я через две недели снова приеду, товар привезу, так я тебя на разгрузку попрошу. Начальник зоны мне разрешит, так что посидим, я захвачу для тебя поесть чего, поговорим, лады?
– Лады, – Андрей соскочил с телеги и протянул старику руку. – Спасибо за молоко. Ну, и за творог, конечно.
Если бы не этот творог, Андрей еще не скоро бы почувствовал, что его судьба расколота, как колода топором. Восемнадцать лет были настолько нереальным, плохо усваиваемым в голове понятием, что время, отбываемое на «даче», текло размеренно и спокойно. Еще не было необходимости вычитать из восемнадцати лет, обозначенных судьей с голубыми волосами, три месяца и получать результат в семнадцать лет и девять месяцев. Литуновский лишь сейчас, подталкиваемый прикладами в спину, двигающийся к бараку, стал осознавать, что в этой зоне прошла вся жизнь, а сидеть ему еще шестьдесят восемь раз по столько. Он так и зашел в барак. На негнущихся ногах прошел до нар и сел, словно боксер, только что получивший нокдаун. И еще этот запах творога свободы, что стоял во рту и отдавал теплым коровьим молоком, вкус которого он совершенно позабыл.
Белый мишка, еще даже не успевший запылиться к тому моменту, когда за Литуновским пришли, жена, с которой за шесть лет он так и не смог ни единожды поссориться, работа, которую ни разу не предавал, знакомые лица…
Все это сначала медленно двигалось перед его глазами, потом вдруг закружилось со страшной скоростью, промелькнуло, исчезло, и на смену привычному, старому, пришел затхлый запах барака, не просыхающая до утра одежда, лица, надрывающиеся от натуги, и спелые, молодые лица конвоиров, утешавших себя тем, что они здесь на два года, а он, Летун, на восемнадцать.
Восемнадцать лет…
Боже мой, думалось Андрею, Вике будет сорок восемь, Ваньке двадцать три, а ему, законченному старику, пятьдесят девять. Он даже не сможет ощутить то чувство восторга, которое испытывает мужчина… Если он выживет, если сможет уехать на свободу в вагоне поезда дальнего следования на восток, то он уже никогда не станет тем, кем был до сих пор. Черт с ней, службой, бог с ними, машиной и вещами. Он не сможет обнять жену и доставить ей удовольствие, которого она ждала восемнадцать лет…
А кто сказал, что она будет ждать столько времени? Он уже столько наслушался, что и тени сомнения не может быть в том, что Вика не откроет объятия кому-нибудь другому. Да, возможно, что она все эти годы будет жить одна. Да, она встретит его дома, но кто уверит Андрея в том, что за эти восемнадцать лет она ни разу не предала его? Ведь это просто невозможно, она человек, как и все.
Литуновский сел на нары и прислушался к себе. Смог бы он ждать Вику восемнадцать лет, не прикасаясь ни к одной женщине? И ужас овладел им, когда он понял, что однозначного ответа, того, которого он ожидал, нет. Если это не случится сознательно, то может произойти случайно. Праздник, чуть превышенная норма спиртного, легкий флирт, а утром будет уже поздно. Уже все произошло, и теперь остается только лгать. Лгать и… раз уж это случилось, и врать все равно придется… Зачем ей мучить себя ожиданием? Срок, в конце концов, дали ему, а не ей.
И он едва не сошел с ума. Выводы, которые не напрашивались в течение трех месяцев, внезапно стали очевидными, и горло вновь перехлестнула веревка горя. Он сидит и строит будущее Вики, а если это уже… Если это уже произошло? Три месяца. Вика не могла и дня обойтись без любви, она была моложе на одиннадцать лет, и от сил и нежности Андрея заводилась с первой минуты близости. Ей сейчас так не хватает этой близости, зато в избытке тех, кто готов понять и утешить…
Он поймал себя на мысли о том, что размышляет, к кому Вика отправит Ваньку, чтобы он не стал свидетелем того, как ее утешает кто-то другой, очень не похожий на папу. Ванька… Он вылитый Литуновский, лишь нос у него чуть с горбинкой, как у Вики. Он вырастет, и так и не поймет до конца, есть у него отец или нет. Не сходит с ним на стадион, на свой первый футбольный матч, и советоваться о первой близости с женщиной будет не с бывшим зэком, валившим в Красноярской тайге кедры, а со сверстником, уже пережившим эти счастливые минуты разочарования.
Уж лучше, если Вика выйдет замуж. Давя в горле слезы горя, которого ни разу не испытывал за сорок один год жизни, Литуновский думал о том, что даст ей развод не задумываясь, лишь бы не чувствовать себя здесь обманутым и забытым. Когда Ванька его увидит, сухого, иссушенного туберкулезным кашлем и язвой, ему, Ваньке, будет уже все равно. Какие чувства может испытывать взрослый человек, который последний раз видел отца в возрасте пяти лет? Да и увидит ли? Прожито всего одна шестьдесят восьмая срока, которая уже показалась вечностью. Больным сном, за который пролетела жизнь.
«Когда я отсюда выйду, Брежнев будет целовать марсианина. А.Смышляев, 1981 г.».
Не будет, Смышляев, не будет.
Фьюить! – рядом с окном, у самой земли, чиркнула тишину птичка.
Скороспель – так, кажется, назвал ее тот старик из Кремянки. К дождливому лету, сказал.
Такие вот перспективы. А как прожить этот день? Как жить здесь каждый день, понимая, что жизнь уходит, утекает как песок сквозь расставленные пальцы, и ее уже ни на что не хватит?
Лето… До лета еще два месяца. А после дождливого августа на болоте завоет выпь, и старик приедет и объяснит, что это к морозной зиме. Выпь воет от переживаний за то, что тепло закончилось, сил накоплено немного, и она не уверена, что их хватит на перелет до Африки. Там, в Египте, у нее есть облюбованный кусочек Нила, где она каждый год проводит время в компании с себе подобными. Там тепло, много лягушек, но до всего этого нужно еще долететь.
А он так хочет быть с Викой и сыном прямо сейчас, за семнадцать лет и девять месяцев до того часа, когда перед ним распахнут ворота «дачи» седьмой красноярской колонии. Он пересек бы двойное ограждение и бегом побежал к вокзалу, не ожидая вечернего рейса зоновского «ЗИЛа», чтобы оказаться попутчиком. Он сходил бы с ума, считая часы дороги, отпусти его прямо сейчас. Но перед тем как ему оказаться на перроне с билетом и справкой об освобождении в руке, должно пройти семнадцать лет и девять месяцев. Должна пройти жизнь.
Придя в себя, он стал прислушиваться к себе, пытаясь понять, какие изменения произошли в нем с того момента, как он стал думать о Вике и сыне. Через минуту вползаемое, не оставляющее его ни на минуту, как и любого другого здесь, чувство голода вновь вернуло его в реальность. Хочется есть, а до ужина еще два часа.
«Хочу мяса…»
Фьюить!..
Глава 2
Лес стоял тут тысячелетиями не для того, чтобы упасть под первым ударом топора или единственным вжиком бензопилы. Природа предусмотрительна, она растит кедры, заботясь об их будущем. Вырастает великан высотою тридцать метров, его гнут бури, прогибает ветки мокрый снег, сушат ветра, а он стоит и продолжает набирать мощь. Поддастся ли он, когда к его подножию подойдут двое измученных болезнями и голодом зэков и начнут долбить его топорами?
Долго им долбить придется. Пилой, пилой его… Когда силы двоих уже на исходе, соленый пот заливает глаза, а обезвоженный организм начинает давать сбои, кедр, чуть затрещав, указывает кроной место своего будущего падения. Ох, как не хочется ему, простоявшему сто лет, падать…
Он будет еще долго цепляться за жизнь, прогибаясь и вибрируя, не давая обессиленным зэкам повалить его огромной палкой.
Зэки упираются в землю, словно пытаясь оттолкнуться от обратного хода ее вращения, наконец стопорят ее, и кедру, которому уже некуда деваться, остается последняя надежда – забрать с собой, если повезет, хотя бы одного из этих мерзавцев. Они приехали в тайгу на четверть своей жизни, и цель у них одна – уничтожить как можно больше его собратьев, простоявших тут века.
– Не сидим, мать вашу!
Конвой зол. Кажется, не выполняется норма. На саму норму наплевать, но подходят к конвою бугры и жалуются, что день перевалил через экватор, а выработки нет. Нет плана, значит, это не зона, а дом отдыха. И конвой свирепеет. С них тоже спросят. Толяну Бедовому на все это наплевать. Он не вмешивается в дела одних и проблемы других. Его задача – вопросы решать и делать все возможное, чтобы зэки за разбором к нему приходили, а не на ножах в бараке схватывались.
– Упрели, суки? За работу!
Зол конвой. А овчарки, те вообще с ума сходят. Зачем такие тонкие поводки? Зэки косятся на них, и думают, на кого из них кинется та, ближняя, чепрачного окраса, если вдруг засаленный поводок срежется и зверь почувствует свободу? Зверь – не человек, ему думать не положено. Раз поводок ослаб, значит, ату. Кто тут ближний? Вот этот, дед с желтым лицом. Он, когда кашляет, глаза пучит. Дразнит, гад. Потому он и первый. А вторым будет, если хозяин не успокоит, вот этот сорокалетний хмырь с наглым взглядом.
Овчарка подалась было на него, но внезапно осеклась, и лай стал тоньше. А вскоре и вовсе успокоилась. Не смотрит в глаза сорокалетнему, свежему еще и сильному. Взгляд у него какой-то свой. Ему бы среди хозяина и прочих, а он с этими, вонючими, которых порвать хочется сразу, едва на глаза попадутся. И дух от этого новенького какой-то привычный, успокаивающий. Но самое главное – взгляд. Не боится собак, и собаки, встречая его глаза, успокаиваются. На своего он похож, сорокалетний этот. Иначе от него пахнет, а потому злобы нет.
Обед, а силы зэков уже на исходе. Делянка ширится, будь она проклята, а тайга не заканчивается. В России в зоне сидеть невыносимо. Леса в ней еще лет на пятьсот отсидки. А пока эти дорубишь, за спиной новые вырастут. Неисчерпаемые запасы, богатство российское…
– Мы с тобой друзья или не друзья?
Зебра впился зубами в кусок сухаря, один из тех, на которые обыграл в «буру» кухонного шныря, и протянул вторую половину Летуну.
Саня Зебров, тридцатипятилетний малый с вызывающими наколками на обеих кистях рук, попал на «дачу» сразу после того, как в возрасте двадцати восьми лет получил условный срок наказания в четыре года за кражу автомобиля из чужого гаража. Судья учел, что Зебра работает автослесарем, его положительные профессиональные характеристики с места работы (а иначе и быть не могло, поскольку человек крал автомобиль, поставленный в охраняемом гараже на сигнализацию, и в конце концов украл), наличие несовершеннолетнего ребенка в семье и пожалел. Светил реальный срок, потому что авто Саня успел разобрать и часть его продать, но раскаяние и положительная характеристика с работы и с места жительства сделали свое дело. Не помогла прокурору даже имеющаяся у Сани судимость за грабеж. Зебра так и вышел из суда, не понимая, с ним пошутили, или он действительно на свободе.
То ли на радости, то ли по глупости, он в этот же вечер вместе с друзьями отпраздновал победу адвоката, и этим же составом они взяли разбоем квартиру. Взяли их на пороге, поскольку хозяева, умные люди, перед сном ставили квартиру на охрану. И снимали лишь после того, как убеждались в том, что прибывшие не унесут из квартиры деньги, только что вырученные за проданный в деревне дом. За ними, собственно говоря, Зебра с друзьями и шел. Положительная характеристика из жилищно-эксплуатационного участка на этот раз на судью не возымела никакого действия, и он прямо-таки пошел на поводу у государственного обвинителя. Двенадцать лет лишения свободы за выбитые зубы хозяина квартиры и инфаркт хозяйки. Плюс те четыре, которые повезло не получить ранее. Из шестнадцати имеющихся Зебра провел на «даче» пять, и теперь в некотором смысле считался старожилом.
– Ну, друзья, – не особенно налегая на смысл слова, согласился Андрей.
– Так ты мне скажи тогда, Летун, почему ты постоянно смотришь на небо?
Литуновский переставил пилу на другую от себя сторону и полез в карман за сигаретами. До обеда оставалось чуть больше десяти минут, и вряд ли конвой будет настаивать на том, чтобы работа возобновлялась. Они сами голодны, хоть и не так, как Андрей.
– Чтоб я сдох, – без чувств разозлился Зебра. – Что ты все время молчишь? Мы вместе уже четыре месяца, а я никак не могу понять, стоит ли мозолить язык, чтобы расположить к себе человека. Не хочешь – скажи бугру, он разъединит нас, и ты получишь в пару того, с кем тебе будет легче проводить срок.
Спрятав сигарету в мятую и чуть сырую от собственного пота пачку, Андрей вернул ее в карман и поморщился. Мошкара любит пот, она летит на его малейший запах и пытается попасть туда, где может доставить жертве массу неудобств. Например, в глаза. Или в нос, как сейчас Зебре.
– У тебя остался кто-то на воле?
– Да, – уже не расстраиваясь от этой темы, буркнул Саня. – Как без этого. Жена есть. Пишет, что ждет. Я, конечно, как и все здесь, в сомнениях, но, судя по тексту, эти сомнения излишни. Понимаешь, я жену чувствую. Она, бывало, когда я еще на свободе был, говорит что-то, а я чувствую напряг. Начинаю выяснять – точно, опять у матери своей была, и та ее жизни учила. Поэтому сейчас, читая письма, понимаю – скучает. А Татьяна, если в чувствах, никого к себе не подпустит. Знаю, дождется, что бы ни произошло. Хотя что произойдет? – Зебра очертил прутом около своих сапог круг и зачем-то перечеркнул его повдоль. – Одиннадцать лет еще. Но письма приходят регулярно. Танька, она верная. И дочь растет. Жена пишет, что в школе у нее порядок, вот только с математикой небольшой рамс.
Сигарету Литуновский все-таки достал. В его жесте, когда он вынимал ту же сигарету из пачки, была некая едва заметная досада, но понять это мог лишь человек, хорошо знающий Андрея.
– Что еще пишет? Какая погода в Подмосковье?
– А откуда ты знаешь, что я из Подмосковья? – удивился Санька и тут же спохватился: – Ах, да, я же тебе сам вчера говорил. Когда ты опять на небо смотрел… Я забыл – о чем ты спрашивал?
Вместо ответа Летун встал, с трудом закинул на руку пилу, и решительно подался к остальным. Но, отойдя на несколько шагов от удивленного напарника, вернуться назад все-таки нужным счел.
– Вот поэтому я здесь никогда ни с кем не разговариваю, если речь идет о доме. Скорее всего да и – не скорее всего, а так оно и будет – таким же через пару месяцев стану и я. Лживым сукиным сыном, требующим, чтобы перед ним самим распахивали душу.
Сплюнул куда-то в кусты и продолжил движение в сторону сбора, где уже покрикивал конвоир и рвались с поводков овчарки.
– Подожди! – возмутился Зебра.
Схватив с земли длинную палку, он стал догонять Литуновского.
– Да ты что, с цепи сорвался? Почему это я – лживый сукин сын?! Мы напарники, так будь добр, ответь.
Идти быстро ему было так же тяжело, как и Андрею, года пребывания на «даче» стали брать свое, и вскоре он стал кричать уже из-за спины.
– Ты хороший человек, Летун, но ты совершенно непереносимый фраер! Постой, черт тебя побери!..
Андрею нужно было передохнуть, и лишь поэтому он скинул с плеч «Тайгу». Встал как вкопанный и принялся вытирать со лба льющийся ручьями пот. Дождавшись, когда Зебра подойдет, он одной рукой подцепил воротник его фуфайки и приблизил его лицо к своему.
– С математикой, говоришь, рамс? Теща жену жизни учит? Твоя жена давно наплевала на тебя. И ты, не желая казаться одним из многих здесь забытых, красишь свою жизнь и слух других фантазиями о том, как все было бы, окажись ты не здесь, а дома!
– Ты что несешь? – зашипел Зебра, вырываясь из пока еще сильных рук напарника. – Сдурел, что ли?
– Я не сдурел. И понимаю тебя, Саня. С каждой почтой тебе приходит письмо из дома, и ты, кивая головой, читаешь его на нарах и делишься событиями с другими.
Санька молчал и темными, похожими на маслины глазами смотрел на подбородок Андрея.
– Здесь, как и везде, не любят неудачников. Быть может, если бы почту от Хозяина постоянно забирал не ты, а я, мне пришлось бы тоже, каждый раз, раздавая вскрытые конверты, один из них прилюдно вручать себе. Один и тот же конверт, ты понял? Один и тот же! Старательно хранимый в целлофановом пакете, чтобы, не дай бог, не затерся до следующего раза. Ты держишь его в тумбочке, и всякий раз, направляясь за письмами, забираешь с собой. На этом конверте один и тот же рисунок, и одни и те же, что и в прошлый раз, места замазаны маркером. Кажется, это вижу один я, и боюсь – ты слышишь? – я боюсь того момента, когда стану понимать, что начинаю тебе верить. Придет этот страшный момент, и я, подыгрывая тебе, превращусь в такого же лжеца, коими тут являются все!
Литуновский отпустил воротник Зебры и легонько стукнул его кулаком в грудь.
– И после этого ты хочешь, чтобы я распахнул перед тобой душу? Зачем, Саша? Мы прокляты, и снисхождение божье на нас уже никогда не сойдет. Никогда, ты понимаешь? Земля вращается, и мы находимся в мертвой зоне, не видимой не только господу, но и остальным.
Вот теперь стало действительно трудно. Сколько кедров свалено? Десять, двадцать? Зебра знает. Он все знает, и Литуновскому считать не нужно. Зебра черта с два даст их обмануть. Доплестись бы до походной кухни. Что там сегодня? Ах, да, он опять забыл. Перловка без масла и щи из прелой капусты с тушенкой. Тушенки нет, какая тушенка может быть на два рубля в сутки на содержание особо опасного преступника? Тушенка у конвоя. Вон, один свою собаку ею кормит. Собака косится на зэков, чтобы, не дай бог, к миске не приблизился кто, и жрет, всасывая волокнистое мясо, как пылесос. И зэки косятся. Хочется мяса, хочется, но как у собак попросишь?
– Андрюха, зачем ты так?
– Чтоб не врал мне никогда, – пояснил Летун. – Свела нас зона, нары рядом поставила, в пару определила, так что будь любезен. Или как ты там говоришь? Будь добр? Так вот, Саня, будь добр, не лечи меня никогда ложью. Первый раз с тобой заговорил и сразу на кривду нарвался. Еще раз солжешь – до две тысячи двадцатого года слова не вымолвлю.
Суп проще есть, если перевернуть котелок углом вверх. За шесть-семь присестов его можно выпить, потом размеренно съесть перловку, и выгадать таким образом, на супе, минуту-другую на перекур. Хлеб лучше спрятать в карман. До ужина прорва времени, а есть хочется уже сейчас. Если не тарить хлеб по карманам, леса много не навалишь. Не будешь лес валить – ШИЗО, будьте любезны. А это тридцать дней на теплой воде с привкусом капусты и по три куска хлеба. За месяц люди сбрасывают килограммов по десять, и после этого с ними начинаются самые ужасные вещи. Сил нет, пополнять их нечем, и человек начинает болеть. С этого момента начинается волшебное исполнение желаний того, кто направил зэка не на «семерку», где рай, а на «дачу».
«Дача» – это богом проклятая больничная палата, где в одиночках лежат больные и ожидают того часа, когда их перенесут в ледник. Выздоравливающих больных на «даче» не бывает. Список зэков составлен поименно, и смыслом их помещения сюда является не исправление, а уничтожение. Эти люди опасны для общества, точнее, для лучшей его части. Исполняется воля высшего света, потому как нет в шестом бараке ни одного, кто на воле не обидел бы власть имущих. Потому лучше не болеть. Болезнь – это командировочное предписание в штрафной изолятор. А ШИЗО – стартовая площадка для рывка на волю. Воля расположена в двухстах метрах от «запретки». Сотни штакетных реек с фанерными щитками, на которых обозначен лишь номер. Литуновский, если вдруг заболеет, да не выздоровеет, будет лежать под штакетиной с цифрами 72555. Зебра – 67323.
Другого пути на волю отсюда нет. Шестеро пробовали за всю историю стояния шестого барака, но все оказались здесь. Заколдованный круг, очерченный двадцатью гектарами тайги, опоясанной колючей проволокой. Внутри – барак, административный корпус, ледник, кладовая для инструмента, караульное помещение и столовая. Снаружи – тысячи километров безмолвия и миллиарды еще не поваленных деревьев. Из населенных пунктов – селения по двадцать домов, где хозяину для поднятия хозяйства достаточно две тысячи триста рублей, да сторожки, в которые прибывают белковать те же сельчане. Никто из находящихся внутри круга не знает точного направления к ним, дорогу сюда знают лишь старожилы из местных, что до сих пор поклоняются прокопченным колодам. Дорогу отсюда не знает никто. Кроме них же. Да пилотов малой авиации, что доставляют из «семерки» тушенку для собак и капусту для зэков. Расстояния здесь меряют сотнями километров, время – десятилетиями срока.
Так-так-так-так-так!..
Цепочка зэков, бредущих с работ, хочет она того или нет, поворачивает головы на звук.
Так-так-так… Сколько мне еще умирать здесь, дятел?
– Шевелись, скоты!..
И зэки шевелятся.
Главное, не нарываться на неприятности. Если вызовут к Хозяину, жди либо беды, либо подарка. Беда приходит, когда заключенному объявляется распоряжение отбыть на две недели в ШИЗО, подарок – если вдруг на «дачу» придет бумага из Москвы о том, что комиссия по помилованию взяла под свой контроль заявление жителя шестого барака. Но даже дед, проживший тут полтора десятка лет, не может припомнить, когда бы зэка при построении объявляли помилованным. Это было бы удивительным, так как здесь отбывают наказание отбросы общества, которые на воле оказались неспособными даже к тому, чтобы зарекомендовать себя для поездки на Остров Смерти. С теми все ясно, им двадцать пять сидеть, книги читать и Библию зубрить. Туберкулез не страшен, от бессилия не загнешься. ОБСЕ каждый год «особые» шмонает, и не дай бог установит, что «полосатому» мяса на двадцать граммов меньше положили. После двадцати пяти напишешь заявление, что осознал и опасности для общества более не представляешь, и, если поверят, выйдешь здоровым, розовым и литературно образованным.
А здесь… Перед отправкой на «дачу» можно получить двадцать четыре, и уже в начале второго десятка загнуться от комплексной терапии, которую над тобой учинили туберкулез, чистка, язва и энцефалит. Замполит вон о простате еще говорил, да о почках… Парацетамолу не хватает, беда без парацетамола.
В середине апреля в зоне произошло событие, которое едва не поставило под вопрос авторитет Толяна Бедового. Смотрящий, собственно, совсем не при делах был, и о теме той ни ухом ни рылом. И поножовщина, которую устроили в бараке Гена Севостьянов, он же Сивый, и Миша Ячников, он же Яйцо, явилась даже не взрывом накопленного за годы гнета отчаяния, а сиюминутной бытовой склокой, вызванной обычным недопониманием сторон. Конвой, слава богу, привлекать не пришлось, и Хозяин ничего не узнал. Но бойня была знатная, и закончилась она лишь после вмешательства доброй половины жителей барака.
Началась эта история с того, что в конце рабочего дня, часов около семи вечера дня тринадцатого месяца апреля Сивый почувствовал жуткое жжение в месте, коим он доселе отправлял естественные надобности в деревянном туалете на улице. Не столь уж это редкое явление было в бараке, мойка для которого организовывалась раз в неделю, и Сивый решил подождать. В конце концов, подумал он, совершенно не подозревая, что думает именно о предмете своего беспокойства, я сам виноват в случившемся. Другие, кому небезынтересна судьба откровенных мест, каждый день, а то и по два раза в день, производят омовения и не считают это зазорным. Я же с таким попустительством отнесся к самому дорогому, и винить теперь за случившееся можно только себя.