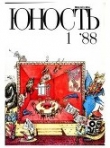Текст книги "Лети, корабль мой, лети!"
Автор книги: Сергей Вольф
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Сергей Евгеньевич Вольф
Лети, корабль мой, лети!

Без кондуктора

Автобусы – это вещь. Папа говорит: «Возникают мысли о далёких странствиях и необозримых горизонтах».
Я, когда еду, иногда… тоже… о горизонтах.
Наша школа от меня две остановки. Мы с Федькой всегда пешком ходим. Сначала бежим до угла – кто быстрей, а потом уже спокойно, а тот, кто проиграет, кто последним прибежит, тот несёт портфель другого до самой школы. Если вы видите утром толстого человека с двумя портфелями – это Федька.
А когда мы опаздываем, – едем на автобусе, две остановки. У нас теперь автобус «без кондуктора». Сам себе билет отрываешь, а водитель сам остановки объявляет, без всякого кондуктора. У него в кабине возле головы такая штука висит – микрофон, и он в него говорит, а усилители усиляют. Получается громко и здорово.
Однажды мы с Федькой побежали до угла – кто быстрей, и я прибежал первым, потому что он вообще слон и ещё он упал. Я его долго ждал на углу, потом он подошёл, и я сказал:
– Вот тебе портфель, мой дорогой.
А он сказал:
– Фигос под нос.
А я говорю:
– Не совсем ясно, почему.
А он говорит:
– Было нечестно.
А я говорю:
– Тоже не совсем ясно.
А он говорит:
– Было скользко.
А я говорю:
– Ну и что же? Мне тоже было скользко.
А он говорит:
– А мне было скользее, я…
А я говорю:
– На.
А он говорит:
– Н-на! – и как бацнет мне по голове портфелем.

Потом мы оба упали в снег, а потом нас кто-то за воротники поднял из снега и сказал:
– Нарушение порядка – раз. Все дети давно в школе – два.
Мы тогда с Федькой немного повернулись, немного стукнулись носами и увидели милиционера.
Тогда Федька запыхтел, как слон, и ка-ак дёрнется от милиционера. Сам выдернулся и меня выдернул, потому что мы нечаянно сцепились крючками, которые на пальто, у воротника. И побежали скорей на автобус, чтобы в школу не опоздать, и Федька первый раз в жизни прибежал со мной наравне, потому что мы так крючками и не расцепились.
Потом мы расцепились, подошёл автобус, мы в него залезли – а кондуктора нет. Это во-первых.
Во-вторых, сидит дядька в очках и в шляпе.
В-третьих, кто-то поёт.
Федька сказал:
– Неужели кондуктор простудился?
В шляпе говорит:
– Это новое в нашей жизни – автобус без кондуктора.
Я сказал:
– Наконец-то и у нас. А кто это поёт?
Федька сказал:
– Плакать хочется, какая песня. Душещипнутельная.
В шляпе сказал:
– Это этот чёрт поёт. Водитель. Поёт уже пятую остановку. Остановки не объявляет. Я не знаю, где мне сходить.
Я говорю:
– Как поёт! Как поёт! И как ясно слышно!
Шляпа говорит:
– У него там, у чёрта, микрофон. А вон, видите, ящички – это динамики. Я инженер, мне это понятно. Но он в микрофон объявлять остановки не хочет. Он петь хочет. От кольца поёт.
– Ох и песня! – сказал Федька. – Хочется петь вместе с ним.
– Федька! – заорал я. – Сходить! И так одну остановку проехали. В школу ведь.
– А мне-то как быть! – сказала шляпа.
Но мы уже выскочили.
С тех пор я стал в школу только на автобусе ездить, на этом самом – «без кондуктора». Даже если Федьки не было, – всё равно ехал. Я даже одну остановку в другую сторону шёл, чтобы подольше послушать, как наш водитель поёт. Он всегда в одно и то же время ездил. Тем, кто знал, где сходить, очень нравилось, как он поёт, а остальным, кто не знал, – нет: он ведь остановку часто объявлять забывал. Многие ругались и говорили, что надо бы написать жалобу. Несколько раз так говорили, представляете?
Тогда мы с Федькой однажды пораньше поехали на кольцо и разыскали его.

– Здорово, – сказал я ему. – Это – я, а это – Федька.
Он вытер тряпкой руки и поздоровался с нами за руку.
– Чем могу быть?.. – сказал он.
– Они на тебя жалобу хотят написать, – сказал я. – За то, что ты поёшь, а остановки не объявляешь.
– Уже, – сказал он. – Уже пришли три жалобы.
– Ты пой куда-нибудь в сторону, – сказал я, – куда-нибудь влево. Чтобы не в микрофон.
– Мне вперёд смотреть надо, – сказал он.
– Ну тогда ты пой потише, – сказал я. – А мы будем поближе к тебе садиться.
– Нет, – сказал он. – Это я не могу. Песня есть песня. Кое-где её надо петь тихо, а в основном – громко.
– Ну, хорошо, ладно, – сказал я, – пой громко, но объявляй ты остановки.
– Сам бы рад, сам бы рад, – сказал он. – Но вы ведь заметили? Не всегда выходит. Трудно оторваться от песни.
Я сказал:
– Беда.
И Федька сказал:
– Вариантов нет.
– Ну, пора, – сказал водитель. – Пошли в машину. Вам куда?
– Нам до школы, – сказали мы.
И пока мы ехали, он всё пел грустную песню про какого-то водителя, про то, что дождь идёт, а ехать ещё тыщу километров и кругом ночь.
А потом наш водитель пропал. Я его месяца два не видел. Я по-всякому его искал, я даже одно целое воскресенье на остановке стоял и ждал его машину. Она долго не шла, потом пришла, и там сидел другой водитель и не пел.
А однажды весной мы с Федькой шли с баскетбола, и вдруг Федька как заорёт:
– Смотри кто!
Я смотрю – а это наш водитель, шикарный такой, в красной ковбойке и белых туфлях.
– Здорово! – закричал я и стал трясти ему руку. – Узнаёшь?
Он сначала сделал большие глаза, а потом заулыбался и стал тоже трясти нам руку, мне и Федьке.
– Ну как? – спросил он.
– Когда как, – сказал Федька. – Иногда, знаете, как скучно без вас ехать.
– Куда ты делся? – сказал я.
– Уволили, – говорит. – Сняли с работы.
– Не попоёшь теперь, – сказал я.
– Ну нет, ну нет, – говорит. – Я теперь в кружке пою, между прочим.
– Раньше не мог что ли? – говорю я. – Чтобы в автобусе не петь.
– Я так не могу, – говорит. – Я должен всегда петь. Так устроен. И на работе.
– А ты сейчас где?
– Я сейчас грузчиком работаю, – говорит, – вот где. Пою всю дорогу. Там это запросто.
– Не мог что ли на другой автобус пойти? – говорю я: – С кондуктором… Чтобы петь всю дорогу.
– Голова, – говорит он. – Теперь скоро все будут «без кондуктора». Так рациональнее.
– Точно, – говорит Федька. – Так рациональнее.
– Уж что рациональнее, то рациональнее, – согласился я.
– Вот, – сказал водитель, – такие дела.
– Да, – сказал Федька. – Так вот.
– Вот так, – говорю я. – Да-а…
– Именно, – говорит водитель, – да-а…
И мы все замолчали. Стоим и молчим. Что сказать? И…
И вдруг Федька сказал то, что надо, я даже не ожидал от него, даже немного обалдел от такой неожиданности. Он сказал:
– Приходите к нам в школу на сбор. Школа 143. Расскажите про водителей. А потом и споём. По очереди и все вместе. Вот.
– Идёт, – сказал он. – Обязательно.
– Значит, точка, – сказал я. – Придёшь?
– Приду, – сказал он. – Честно.
И потом мы долго трясли все вместе друг другу руки и попрощались с ним за руку изо всей силы.

Лети, корабль мой, лети!

Если идти вдоль нашей улицы по левой стороне, от круглой башни к кинотеатру «Космос», то сначала будет Калашников переулок, потом мой дом, потом булочная-кондитерская, потом Лётная улица, потом «Пышки» и детсад № 66, потом баня, потом магазин «Синтетика», потом «Канцтовары» и «Всё для малышей», потом просто так – дом и потом уже парикмахерская, где работал Петрович.
Петрович был парикмахер. Вылитый парикмахер. Просто парикмахер – и всё.
Он был невысокий, лысый, а по бокам на голове два островка волос. Глазки небольшие, ручки небольшие. Такая внешность. Конечно, не по этому он был похож на парикмахера, по чему-то другому, не знаю, по чему.
Однажды я зарос, как говорит мама. Она дала мне денег, я пришёл в парикмахерскую, сел в кресло и сказал:
– Полубокс, пожалуйста. Пожалуйста, без одеколона.
– Пожалуйста, – сказал парикмахер. – Сейчас сделаем юному пионеру шикарный полубокс.
Я засмеялся, а он сказал:
– Не надо нам никакого одеколона. Сейчас наш юный пионер будет похож на юного пионера, а не на жителя острова Пасхи. – И голос у него вдруг стал чуть грустный. Или мне показалось.
– Вы их видели будто? – сказал я. – Этих жителей.
Он ничего не ответил, повязал меня белой простынью и взял в руки машинку, запев тихонечко: «Лети, мой корабль, лети».
Глазки у него были небольшие – я увидел в зеркало – ручки небольшие, мне стало вовсе смешно, и я сказал:
– Будто вы были на том острове? Забыл его название.
– Пасха, – сказал он. – Я плавал в тех водах.
– В каких «в тех»?
– В тех самых.
Его машинка ловко-ловко бегала по моей голове.
– Лети, мой корабль, – пропел он шёпотом и добавил: – Я был моряком.
Он сказал это так, что, даже не глядя в зеркало, я поверил. Да лучше уж было и не глядеть – вылитый парикмахер.
Я вышел из парикмахерской и пошёл домой, и пока шёл, всё мучился от какой-то мысли, глупенькой такой мыслишки, которую я почему-то ещё никак не мог вспомнить. Только ложась вечером спать, я понял, что вертелось у меня в голове: ещё очень не скоро я опять зарасту или на худой конец волосы просто будут подлиннее. Только, если раньше меня это радовало, – ну её, парикмахерскую, – то теперь огорчало.
* * *
Через два дня я не вытерпел, взял у мамы деньги, будто на кино, и пошёл в парикмахерскую.
– Мне височки, – сказал я, садясь к нему в кресло, – какие-нибудь другие. Только у меня денег всего десять копеек.
И когда он улыбнулся и как-то ловко перекинул ножницы из одной руки в другую и завернул меня в простыню, я добавил:
– И расскажите про море. Про дальние походы. Про эту песню.
Чик-чик-чик – зачикали ножницы у меня возле самого уха. Чик-чик-чик – сверху вниз.
– Мы подходили к Цейлону, – говорил он. – Чик-чик-чик. – Океан был тихий, белый и горячий. – Чик-чик-чик. – Та-ак. Теперь машинкой. Наступала тропическая ночь. Били склянки. – Чик-чик.

Я не помню, сколько времени он меня стриг. А что он рассказывал – мне не пересказать. Помню только, я спросил, когда он снял с меня простыню:
– Вы почему теперь здесь… а не там… в море… Что-нибудь с ногой, а? – добавил я глупость.
Он покачал головой и показал себе куда-то внутрь.
– Там, – сказал он. – Что-то испортилось. Не та уже машинка.
«Какая машинка?» – захотелось спросить мне, но я не спросил, потому что, кажется, понял.
– Заходи, – сказал он.
Я кивнул и вышел.
* * *
Через четыре дня я снова пошёл к нему. По-моему, в самый раз. Вообще, стричься надо через шесть или семь дней. Это уж точно.
Его я встретил возле гардероба. Он тихонько хлопнул меня по плечу, снял мою шапку, провёл рукой по волосам и сказал:
– Маленько зарос. Опять полубокс? Ну, сейчас Петрович всё сделает.
– Я не хочу к Петровичу, – сказал я. – Я к вам хочу.
– Я и есть Петрович, – сказал он.
– Я только к тебе хочу, Петрович, – сказал я.
Я просидел у него опять не знаю сколько. Чик-чик-чик – чикали ножницы. А он рассказывал. И было мне ни до чего. И мне даже самому непонятно, отчего я вдруг спросил:
– Петрович, а у тебя есть ещё кто-нибудь, кроме тебя?
– Как это?
– Ну, так… Мама, дедушка…
– Есть, – сказал он. – Другие. Жена у меня есть и дочка. И всё. Жена и дочка.
– А жена у тебя кто?
– Ну кто… Она инженер.
– А была кто?
– И была инженер. Всегда.
– А дочка?
– А дочка – балерина. Ей сколько и тебе лет.
– Здорово, – сказал я, – и уже балерина? Петрович, пойдём как-нибудь гулять, ты, твоя дочка и я.
– Зачем же дочка?
– Как зачем? А то они будут сердиться, что ты со мной гулять пошёл.
– Может, и не будут, – сказал он. – Всё. Готов полубокс. Полюбуйся. А теперь иди. Очередь! – крикнул он. – Заходи, – добавил он мне.
* * *
А я заболел. Эх, и зачем только я заболел?! Ненавижу грипп. Ненавижу ангину. Все болезни ненавижу. Зачем они?! Я долго проболел, недели две. Целую вечность.
А он почему-то был какой-то не такой, когда я пришёл. Я даже подумал, что он просто не узнал меня, заросшего и худого. Он усадил меня в кресло и спросил, и голос у него тоже был какой-то не такой:
– Где же ты был так долго? Совсем пропал.
– Я болел, – сказал я.
Он ничего не ответил и стал стричь меня. Он стриг меня долго-долго, медленно-медленно и всё молчал. И я почему-то боялся заговорить. Потом он нагнул мою голову над раковиной и налил на макушку что-то холодное и пахучее.
– Надо голову помыть, – сказал он.
– Это дорого? – спросил я.
Но он ничего не ответил. Он молча намыливал мою голову. Было ужасно странно и неловко от всего этого.
– Петрович, у меня же денег не хватит, – сказал я откуда-то из раковины, из-под пены.
– Какие деньги?! – сказал он сердито. – Какие ещё там деньги?! Не говори глупостей.
Он молча полил мне на голову тёплой воды, потом снова намылил и снова полил. Потом ещё раз. И всё медленно.
– Будешь у нас красавцем, – услышал я его странный голос.
Мне вдруг стало страшно и тоскливо. Только не Петровича страшно… А чего, я и сам не знал.
Он достал из ящика какую-то блестящую улитку с трубой, провод от неё вставил куда-то за зеркало, улитка зажужжала, он поднёс её к моей голове, и я почувствовал, как сильно она дует теплом.
– Это фен, – сказал он. – Будем сушиться.
Он долго сушил меня и всё молчал. Потом выключил улитку, достал коробочку с пудрой и попудрил мне шею. Я даже покраснел.
– Ладно… молчи, – сказал он и стал меня причёсывать. Он причёсывал меня долго и аккуратно, после взял со стола одеколон с кишкой и грушей и стал лить одеколон мне на голову.
– Петрович, – заговорил я, – зачем же… у меня же…
Но он ничего не сказал. Я поглядел в зеркало и увидел, что он не смотрит на меня, а сам всё нажимает и нажимает на грушу, а одеколон всё льётся и льётся, вот уже и за ворот мне полился и на лицо и всё льётся и льётся…
Петрович вдруг быстро поставил на стол одеколон, почти пустую бутылку, и стал быстро-быстро меня причёсывать: раз-два, раз-два, раз-два!
– Всё. Всё готово. Теперь уже всё, – говорил он. – Всё. Не вздумай платить. – Потом вдруг встал между мной и зеркалом и поглядел на меня. А я на него.
– Всё, – сказал он. – Полный порядок. Ай да красавец! А я уезжаю. Прощай. Может, и не увидимся.
– Куда? – спросил я. – Куда же ты уезжаешь?! Надолго? Навсегда?
– Да, – сказал он. – В Хабаровск. Жене там дают квартиру. Она будет самый главный инженер. Всё. Прощай. Иди, парень. Следующий! – крикнул он, поднял меня с кресла и подтолкнул к выходу.
Я оделся и вышел на улицу.
Я стоял перед парикмахерской, держа в руках шапку, и не уходил. Потом он сам вышел, в своём белом халате.

– Иди, – сказал он.
– Иду, – сказал я. – Ладно.
– Иди-иди. Ну, чего же ты стоишь?!
– Иду, – сказал я, – уже иду.
Он повернулся, и дверь за ним закрылась. Я пошёл домой.
Я шёл мимо «Всё для малышей» и «Канцтоваров».
Мимо магазина «Синтетика» и мимо бани.
Мимо детсада № 66.
Мимо «Пышек». Очень вкусные пышки.
Потом постоял немного на углу Лётной улицы.
Потом возле булочной-кондитерской.
«Чик-чик-чик, – прошептал я, закрыв глаза. – Чик-чик-чик. Лети, мой корабль. А вот и мой дом. Чик-чик-чик».

Отойди от моей лошади!

Был, знаете ли, один такой случай.
В нашем городе, в Ленинграде.
Можно даже сказать… в моём районе.
В школе, где я учусь.
На третьем этаже.
Даже в моём классе, если уж вам так хочется знать.
Между прочим, со мной.
Хотя, по правде говоря, я здесь ни при чём, не виноват, вот какое дело. Это, я думаю, с самого начала ясно.
Всё произошло на уроке рисования.
Мы всегда на этом уроке тюленя рисовали, или белого медведя. Срисовывали с картинки. Мне это здорово надоело. Честно. Я так об этом и сказал нашей новой учительнице.
Она сразу согласилась что-нибудь другое рисовать. Молодая, а понимает.
– Не тюленя! Не медведя! – закричали все.
– А что? – спросила она. – Что именно?
– А именно вот что! – крикнул я. – Про что мечтаем, то и нарисуем.
И она опять согласилась. Я же вам говорю, что она совершенно исключительная учительница.
Сначала я нарисовал ракету и себя в ней. Но у неё куда-то хвост загнулся, и я решил вернуться на землю. В общем, слетал.
Потом я нарисовал себя с новой хоккейной клюшкой.
Потом килограмм винограду.
Потом ещё полкило.
Потом вспомнил про лето и нарисовал лошадь, себя и Тимку.

Потом я нарисовал, будто я говорю, и сказал Тимке:
– Отойди от моей лошади!
– Зачем же? – спросил Тимка.
– Ни за чем, – сказал я. – Сам не можешь сообразить, что ли? Ты будешь рыцарь пеший, а я рыцарь конный.
И я нарисовал себя на лошади, а Тимку без лошади, и ещё я нарисовал себе и ему щит и меч.
Потом я забыл нарисовать ему шлем и закричал на весь класс:
– Эй, рыцарь, где ты потерял свой шлем?!
Все зашумели, а учительница сказала:
– Что? Что случилось?
– Ничего! – закричал я. – Пока ничего! Эй, Тимка! Подыми забрало!
И я быстренько нарисовал ему шлем.
Потом Тимка стал капризничать, и мне пришлось нарисовать ему лошадь.
– Эй-го-го! – закричал я на весь класс Тимкиным голосом. – Алёшка! (Алёшка – это я). Иду на тебя по всем правилам!
– Берегись, ничтожество! – крикнул я и нарисовал, как я размахиваю мечом и мчусь на Тимку по всем правилам.
– Не по правилам! – закричал Тимка.
– По правилам! – закричал я.
– Умри, несчастный! – кричит Тимка.
– Ещё неизвестно, кто! – кричу я.
Наши кони бесстрашно мчатся навстречу друг другу.
– Бенц! – кричу я и рублю Тимку изо всех сил мечом по голове. – Бенц те-ре-ренц!
– Ур-ра! – кричит Тимка. – Его шлем крепок как сталь.
– Бенц! Та-та!
– Умри, подлый рыцарь!
– Ещё не хватало! Сам! Та-тах!
– Эй-го-го!
Наши кони храпят.
– Ты-тых!
Тимка падает! Ур-ра! Его конь ранен.

– Сдавайся! – кричу я. – Мелкий, подлый враг! Задняя нога лягушки! Трусливый заяц! Пустой горшок! Двоечник! Старое ведро! Клякса! Старая галоша! Единица с минусом! Ноль! Мышь солёная!
– АЛЁША ПЕТРОВ!
– Ржавая кошка!
– АЛЁША ПЕТРОВ!
– Дырявый холодильник!
– АЛЁША ПЕТРОВ!
– Я тебе не Алёша! Я рыцарь, мрак на твою голову, синяя мочалка!
– АЛЁША ПЕТРОВ! ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?!
– Что? Что случилось? – спросил я и поднял голову.
И я увидел вот что: весь класс забрался на парты вокруг меня и смотрел, как я расправляюсь с этим наглым рыцаришкой, а потом все стали айкать и ойкать и прыгать с парт вниз, и тогда я, наконец, увидел нашу учительницу, совсем красную, и других учителей, и завуча, и директора, и медсестру, и нянечку, и всех-всех…
А про то, как я был в кабинете у директора, и про всякое такое, мне неохота рассказывать.
Теперь все говорят, что я урок сорвал.
Говорят, что подвёл новую молодую учительницу. Такая славная, просто не верится, что я мог это сделать.
Просто я не нахожу объяснения таким словам.
Похоже, что это какая-то глупость и ошибка.
Совершенно уверен.
Вы, я думаю, тоже. А?

Оттуда, издалека

Я тихо открыл дверь в класс и пошёл по тёмному классу к своей парте. Потом я попробовал в темноте крышку у парты, как она, не скрипит? – И это была совсем не моя парта, я свою знаю. Я быстро нашёл её, поменял на чужую, скрипучую, сел один, а свет не зажжёг, и стал смотреть в окно, на фонари в темноте, и думать про то место, откуда я приехал к тётке.
Я люблю приходить первым в школу, самым первым, и сидеть в темноте и смотреть в окно, на фонари, а потом вдруг услышать далеко-далеко шаги и голоса и слушать, как они приближаются, а потом в класс вбегают ребята и девчонки, – я всегда так делал, там, где я жил раньше, и теперь так делаю, потому что люблю, и ещё потому, что думаю про то место. Только здесь светает раньше, и я прихожу в школу совсем рано, а когда наступит весна, я уж совсем не знаю, как быть.
Меня иногда спрашивают: «Ты откуда приехал?»
А я, может быть, не хочу об этом рассказывать, не хочу и всё, и я всегда говорю:
– Оттуда, издалека.
А кому этого мало, те говорят:
– Откуда «оттуда»?
А я говорю:
– От верблюда. Всё. Ясно? Понял?
Кому какое дело? Может, им ещё про это расскажи да про то, да? Никого это не касается.
Я сидел в темноте и смотрел в окно, на фонари, и думал, что там сейчас снег и двор возле школы весь белый.
Весь белый, думал я, весь белый, белый-белый… и вдруг услышал, как далеко-далеко, в самом конце коридора, идёт кто-то, и звенит ведро, и ключи брякают.
Он шёл долго, медленно, я совсем извёлся, а он всё-таки отворил дверь в наш класс, и я увидел, что это нянечка. Она громко ударила ведром об пол, и я вдруг жутко напугался, что она зажжёт свет, и ещё, что я её напугаю, и я громко сказал:
– Не надо свет!
– Ой! – сказала она. – Ой, здесь кто?!
– Я, – сказал я.
– Кто ты?
– Я. Ну… мальчик, ученик.
– Ох, – сказала она и села на парту вдалеке от меня, а свет не зажгла. – Я напугалась. Так нельзя.
– Что нельзя? – спросил я.
– Пугать так нельзя. Я вся обомлела.
– Извиняюсь, – сказал я. – Трусиха.
– Трусиха, – согласилась она. – Я трусиха. В два раза тебя старше, а такая трусиха.
– Тебе скоро двадцать четыре? – спросил я.
– Уже двадцать семь.
– Стыдно, – сказал я.
– И нисколечки, – ответила она и добавила: – Так и буду сидеть без света.
– Тебе не нужно? – сказал я.
– Не нужно. Я вчера всё убрала и чернила налила. А потом я написала на доске «Митя» и не стёрла, забыла. Пришла стереть.
– Ну зажги, – сказал я.
– Я могу и так, – сказала она, – и в темноте.
– Ты всё видишь? – спросил я.
– Всё. Я привыкла.

Из окна в тёмный класс падал свет фонарей, и я видел, как она сидит на парте, маленько согнувшись, и смотрит на тёмную доску и не спрашивает, почему я здесь сижу в темноте, и я сказал:
– Смотри, как здорово, в окне.
Она повернула голову и сказала:
– Ага.
– А ещё лучше, когда снег, – сказал я. – У нас на севере сейчас снег.
– И ты там был? – спросила она.
– Был.
– Долго?
– Всю жизнь, – сказал я.
– Всю жизнь, – повторила она. – Ну… ещё.
– Что ещё?
– Как там. Расскажи. Если хочешь…
Она сказала «если хочешь».
– Я не люблю, – сказал я. – Об этом.
– Почему? Или не надо…
Но я уже говорил.
Я говорил:
– Видишь ли… там… Там у меня папы не стало. Он погиб. Он геолог был. Я у тётки здесь живу. Я не люблю рассказывать. Я много про те места знаю. Про собак, про охоту, про самолёты, про снег, про всё. Я не хочу никому про это рассказывать. Кому какое дело! Это никого не касается.
Она встала с парты, подошла к доске и вытерла её тряпкой. Потом она подошла ко мне, села рядом, и мы долго молчали.
– Я не люблю ни с кем про это говорить, – сказал я.
– Не надо так, слышишь? – сказала она. – Расскажи ребятам про собак, про охоту, про самолёты, про всё, и про снег, слышишь?
– Не надо, – сказал я. – Я могу тебе. Приходи завтра утром и потом ещё, пока не надоест – я долго могу рассказывать.
– У меня есть жених, – сказала она. – Митя. Он лётчик. Он работает на севере, там, далеко, и я скоро к нему еду. Послезавтра.
– Это хорошо, – сказал я. – Значит, я к тебе не успею привыкнуть. А ты зачем нянечкой работаешь?
– Я не люблю без дела сидеть, целый месяц надо было ждать, пока он мне письмо пришлёт, чтобы я ехала.
– Он не разобьётся, ты не бойся, – сказал я. – Он где?
– В Якутии.
– Они там не бьются, – сказал я. – Что верно, то верно. Уж там-то они точно не бьются.
– Они бьются везде, – сказала она. – Может, и не часто, но везде. Так бывает. Такая работа. Её нужно делать.
– Но уж он-то будет летать, не завалится, – сказал я. – Я знаю. Это точно. Ты только не бойся, – сказал я.
– Спасибо, – сказала она. – Слышишь, ребята идут…
– Да, – сказал я. – Уже светает.
– Я пойду. – Она встала.
– Да-да, – сказал я. – Тебе ведь ещё собираться надо.
– Да. А ты не прячься от них, – сказала она.
– От кого? – спросил я.
Но она уже уходила, а в класс вбегали ребята и девчонки, все орали и пели, а потом скоро зазвенел звонок, и пришла наша Евгения Марковна. Она улыбнулась и стало тихо. Было тихо-тихо в классе и светло, и я вдруг почувствовал, что нос у меня задёргался, а внутри, в горле и в груди что-то защемило, заныло что ли, и сейчас, вот сейчас я засмеюсь и заплачу…
– Дома вы сами должны были прочесть про Северный Ледовитый океан, – сказала Евгения Марковна. – Кто хочет отвечать?
– Я, – сказал я. – Я расскажу.