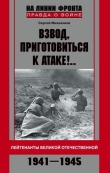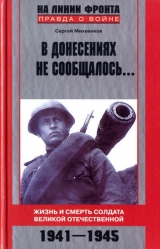
Текст книги "В донесениях не сообщалось..."
Автор книги: Сергей Михеенков
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Так началась моя партизанская жизнь. Но это уже другая история.
Вначале нас откармливали. На задания не посылали. Хотя уже зачислили во взвод разведки. Командир отряда посмотрел на нас и сказал: «Ребята вы обстрелянные, бывалые. В разведку пойдете». Ну что ж, в разведку так в разведку. «А сперва, – говорит он нам, – силенок немного поднаберитесь».
Кормили нас хорошо. Втроем мы за один раз съедали ведро картошки! До дна!
Вскоре мне дали коня и должность командира отделения. Потом – командира взвода. Во взводе у меня было отделение подрывников. Однажды пустили под откос эшелон с живой силой. Заряд был хороший, вагоны так и разметало. Да и насыпь в том месте оказалась высокой, вагоны крутило так, что в лесу долго грохот стоял. Потом из депо, где у нас тоже свои люди были, сообщили, что при взрыве погибло 309 немецких солдат и офицеров. Мой взвод, можно сказать, за дивизию дело сделал. Две полнокровные роты – это хорошая дивизионная операция!
Четырнадцать месяцев я был в отряде. И еще потом один месяц на «очистке». После операции когда наши войска продвинулись далеко вперед, на запад, в белорусских лесах осталось много окруженных групп немцев, полицаев. Да, вот такая история. В сорок втором я от них хоронился. А в сорок четвертом – они от нас. Вот жизнь как поворачивается…
Многие, кого мы брали в плен, были в немецкой форме и хорошо говорили по-русски. Некоторые были одеты в эсэсовскую форму. Тут попадались не только полицейские, но и остатки разных специальных подразделений, и власовцы, и группы из первого русского национального полка СС, и польские офицеры Армии крайовой, и дезертиры. Те прятались в лесах с лета сорок первого года. Некоторые сами выходили. В основном это были местные жители. Кого бабы прятали, кого родители.
– А уже слыхать было, особенно по ночам, как наши идут. Тяжелая артиллерия била. Фронт валом катился. Тут уж наши хломосили почем зря, не то что в сорок первом под Вязьмой.
Иногда нас отправляли на железнодорожную станцию – разгружали вагоны. Обычно, когда нас гнали туда, вдоль дороги стояли жители, в основном угнанные немцами из оккупированных областей. Кричали: «Кто из Тулы? Кто из Брянска?» Деревни называли. Слышу, кричат: «Зимницкие есть?» Поворачиваюсь, кричу вслепую: «Я из Зимниц, а ты кто?» Стоит мальчик: «Ты что, дядя Ефим, не узнал меня?» Боже ты мой, гляжу, это ж Витя Лавреев! До войны такой шалун малый был! «Что в Зимницах?» – спрашиваю. Он мне все и порассказал: что Зимницы немцы сожгли дотла, что мужиков всех, и даже ребят по пятнадцать-шестнадцать лет, постреляли, что только кое-кто случайно остался жив. «Бабы-то с детьми живы?» – «Живы!» – говорит. «А отец мой?» – «Нет, – говорит, – расстрелян». «А тесть, Кирилл Арсентьевич?» – «И он», – отвечает мне Витя. «А дядя Охрем?» – «Дядя Охрем, – говорит, – живой остался». Условились мы с ним на завтра встретиться возле проволоки. Гражданским к нам приходить разрешали, охрана не препятствовала. Да что-то не пришел Витя.
И надо ж было такому случиться, что встретились мы с ним потом еще раз, уже в Германии, куда нас дальше угнали. И рассказал он мне тогда побольше. Например, что в Минске с ним вместе Степанида была с детьми. Это одна женщина наша, тоже зимницкая. А у нас в Минске комендантом лагеря в то время был немец по фамилии Кац. Раньше, когда мы только-только туда поступили, другой был. Тот все, бывало, ходил с расстегнутой кобурой. Чуть что, стрелял без предупреждения. Много нашего брата пострелял. А Кац был добрый. Вот, помню, подойдет к проволоке женщина, уговорится с кем из наших – и к нему: мол, господин комендант, мужа нашла, отпусти отца к детям. Усмехнется немец да и прикажет отпустить пленного. Отпускал насовсем. Слыханное ли дело – на волю, после таких-то мучений… А вот же отпускал. Вот бы мне встретиться тогда со Степанидой!..
Витю Лавреева я встретил после 3 мая 1945 года, когда нас англичане освободили.
Англичане нас передали нашим.
За мной ничего такого не числилось. Поэтому после передачи я сразу попал на хозяйство и, считай, опять, как в сорок первом под Новодугинской, на должность старшины. Жили мы в польской деревне, работали на маслобойне. Снабжали войска продовольствием.
Раз приезжают двое молодых офицеров из особого отдела. Поговорили и тут же отпустили. Больше трепали тех, кто в сорок третьем и позже в плен попал. А нас, кто в сорок первом да в сорок втором… Знали, какая война на нашу долю выпала.
– Никому я раньше не рассказывал, как был в плену. Не хотелось об этом вспоминать. Но что ж, раз начал… Сколько годов прошло… Меня поймет только тот, кто сам побывал там. Тебе-то зачем это все нужно? Чужие страдания… Ну, тогда ладно, слушай, как говорят у нас, да не перебивай.
На ночь нас закрыли в каком-то складе. Стены кирпичные, прочные. Из своего полка я никого не встретил. А из дивизии нашей там народ был. И красноармейцы, и командиры.
Утром – в эшелон. Везли несколько дней. Доехали до Славуты. В Славуте выгрузили и разместили в наших довоенных кавалерийских казармах.
В дороге нас, конечно, не кормили. На станциях наши ребята, кто победовей, в дыры спускали на проволоке банки и просили прохожих или железнодорожников, чтобы налили воды. Жара. Мучила жажда. С ума сходили от жажды. Охранники всех, кто подходил к вагонам, отгоняли.
В Славуте, когда начали выгружать, только по нескольку человек из каждого вагона вышли сами, на своих ногах, или нашли силы выползти. Остальных вытаскивали и складывали в кучи, как дрова. Трупы уже закоченели. Умирали и от ран, и от голода, и от жажды. Отступали – ни пищи, ни воды. В плен попали – то же самое.
Рана моя стала заживать. Ранение оказалось неопасным. Я выжил. Сказывалась и моя хорошая довоенная физическая подготовка.
В лагере в Славуте я попал в отдельную команду медработников. Руководил нами военврач Поппель. Он знал по-немецки и договорился с немцами, чтобы те позволили пленным медработникам хоть как-то присматривать за ранеными. И даже вот что мы делали: под охраной ездили в лес, нарезали еловых и сосновых лапок, заваривали их в котлах и этим отваром поили ослабленных пленных наших солдат.
Кормили нас баландой с добавлением гречки. Гречка была не очищена. Осталась она еще от наших запасов. Когда из Славуты уходили наши войска, вывезти вороха гречки не успели, облили бензином и подожгли. Но она только сверху обгорела, а внизу вся осталась целой, только дымом пропахла и бензином. Вот нам, бедолагам, и сгодилась на прокорм.
У нас у всех были какие-нибудь посудины. У кого кружка, у кого банка, у кого котелок остался. Немцы, когда в плен брали, котелки не отнимали. Туда, в эти посудины, нам баланду и наливали.
Охраняли нас в концлагере в Славуте не только немцы, но и кубанские казаки. В картузах, в штанах с лампасами. С винтовками ходили вдоль проволоки. На вышках сидели немцы. Пулеметчики были немцы. А пешая охрана – казачки. Немцы нас не стреляли. Не помню такого случая, чтобы с вышки огонь открывали. А вот казаки в нас стреляли. Будто случая искали. И многих наших пленных красноармейцев убили именно казаки. Я напраслину не наговариваю – говорю то, что видел и пережил. Подойдет, бывало, пленный к проволоке и палочкой на конце начнет доставать какую-нибудь травинку. Палочка непростая, с гвоздиком на конце. Голодали ведь! И травинке душа рада! Вот он, казак-охранник. Идет. Винтовку с плеча сымает: «Отойди от проволоки! Стрелять буду!» Пленный ему: «Стреляй! Все одно от голода подыхать!» А сам не верит, что тот выстрелит. Но казаки выслуживались перед немцами: вот, дескать, какие мы надежные охранники! Как исправно службу несем! Другой корить его начнет, охранника: «Что ж ты, сук-кин сын! Немецкую винтовку взял. Шкура!»
Да по матушке. Глядишь – бах! Поволокли всего в крови к яме.
Так что в Славуте нас охраняли и убивали не немцы, а казаки.
А тут другая беда: в лагере начался сыпной тиф. Вши. Завшивели все. Скопище народу. Никакой санитарии. И пошло. Умирали десятками и сотнями.
Вскоре нас, кто пережил тиф, повезли в Германию.
Привезли в Говельдорф. Это – на границе Германии и Франции. Здесь, помню, произошел такой случай. Погнали нас на работы. Копали какой-то ров или котлован. Смотрю, ребята заходили, зашумели. Охранник прибежал, а поздно. Дело уже сделано: двое лежат с разрубленной головой. Так военнопленные расправлялись с провокаторами. Немцы засылали осведомителей. Те вынюхивали, доносили на командиров и руководителей. Мы хоть и пленные были, подневольные, но не стадо баранов и рабов.
После этого случая раскидали нас по разным лагерям. Я попал в городок Торн на Висле. И там встретил своего довоенного друга, тезку, Васю Жижина. Мы с ним вместе заканчивали Серпуховское медучилище. Бывает же такое! Вася воевал с сорок первого года, с 22 июня. Первый бой принял на Буге. Родом он был из Тульской области, со станции Тарусская. После войны переехал в Пущи но на Оке. Несколько лет тому назад умер. Я ездил хоронить его.
Вася меня сперва не узнал. У меня от продолжительного голода и истощения организма появились сильные отеки. Нажмешь на мышцу – ямка остается. Белковые отеки. Мешки под глазами. Я уже доходил. От прежней силы и следа не осталось.
В Торне нас было человек восемьсот. Через два месяца осталось четыреста. Остальные умерли. Они нас попросту морили голодом и изнурительными работами. Организм не выдерживал.
А тут случай нам помог. Под Дюнкерком немцы захватили английский десант. Пленных пригнали в Торн. Мы оборудовали для них лагерь. Мы, русские военнопленные, – рабочая скотина. Мы должны были работать и умирать. Каждый день – по нескольку десятков. И – в яму! В яму! А пленные английские солдаты и офицеры играли тем временем в футбол. И них было хорошее питание. Они получали от Красного Креста продовольственные посылки: мясные и рыбные консервы, колбасу, печенье, кофе, конфеты, сахар, масло. Все у них было. А некоторые из наших ребят, когда узнали об этом, от одной мысли сходили с ума. Потому что нас кормили баландой из брюквы. И воняла эта баланда как моча кролика.
Я как-то после войны, году в пятидесятом, завел было кроликов. С полгода продержал – нет, не могу! Как, бывало, подойду к клетке – баландой лагерной, брюквой пареной пахнет… Ужасом пахнет. Вывел. Клетки сжег.
Англичанам немцы варили гороховый суп с мясом. Суп этот англичане не ели. Брезговали. Ну, с посылками от Международного Красного Креста, конечно, можно было и побрезговать немецким варевом. Англичане нам отдавали свой суп. Но котел с супом надо было еще вынести из английской зоны в нашу. Не все охранники это позволяли делать. Были в охране и эсэсовцы. В основном в лагерную охрану они попадали из госпиталей. Кто без глаза, кто без руки. На фронт их не брали, а в охране служили. Такие стреляли без предупреждения. Мстили нам, русским, за свои раны и увечья.
Немцы хоть и хозяева, а с куревом и у них было трудновато. Англичане же в посылках регулярно получали хорошие сигареты. За сигареты охранники приносили нам гороховый суп. Или пропускали двоих-троих наших в английскую зону за котлом. Вот этот-то гороховый суп и снял белковые отеки, многим спас жизнь. Мы ожили. Так что спасибо англичанам! Это и был для нас второй фронт.
Англичанам мы стирали белье, чинили обувь, шили тапочки. Так что не за здорово живешь получали от них гороховый суп.
Немцы в лагере были разные. Были просто звери. Особенно бывшие фронтовики из СС. Бьет, сволочь, всем, что под руку попадется. До смерти забивали. А другой, смотришь, посылку из дому получит, позовет, оглянется и что-нибудь съестное даст. Угостит, скажет: мол, из дому получил гостинцы. Начнет о детях рассказывать, о своей фрау… Добрые люди и среди немцев были. Вытащит, бывало, фотокарточки, покажет свою семью.
Вскоре нас перевели в Грудзендз, на Вислу. Разгружали мы там товарные вагоны с углем. Тут у нас с кормежкой стало похуже. А работы – побольше. Но мы уже жить в плену научились. Шили тапочки. Шили и продавали. Охранникам или гражданским. А на эти деньги приобретали продукты.
Однажды в Грудзендзе была облава. Что-то искали. Налетели автоматчики с собаками. Выхватили из колонны двоих наших. Они несли в барак несколько брикетов с углем. Уголь мы таскали, чтобы разжечь огонь, погреться и сварить что-нибудь. Так этих ребят, которых прихватили с брикетами, избили так, что мы их несли до барака. Они их били, а мы стояли и смотрели. Не заступишься ж.
Работали и на продуктовых складах. На одном складе была мука. Туда посылали тоже часто. Начальник склада, поляк, разрешал набирать с собой мучицы. У всех у нас под одеждой были привязаны небольшие сумочки, сшитые специально для этого дела.
Фронт приближался. Шел уже сорок четвертый год. От Вислы наш лагерь погнали на запад.
Шли пешком. В дороге нас не кормили. И вот идем полем. А у дороги – бурты свеклы. Смотришь, колонна зашевелилась, и человек тридцать-сорок срываются и бегут к этому бурту. Немцы сразу начинают стрелять из винтовок. Как правило, никаких предупредительных – открывали огонь в бегущую толпу, на поражение. А мы, когда бежали к бурту и обратно, рассчитывали на то, что всех конечно же не перебьют. Уцелевшие в колонну приносили свеклу. Смотришь, вернулся цел, и 3–4 свеклицы в руках держит. А возле бурта 3–4 человека лежат…
У всех ножички: «Дай отрезать, пожевать». Начинается дележка. Потом – самое страшное, понос открылся. Присядет пленный у дороги, а охранник уже стоит ждет. Колонна уходит. Охранник стволом винтовки толкает: долго, мол, сидишь, давай скорее… Еще минуту-другую подождет и, если не встал, прикладывается и из винтовки в упор…
Наша колонна по той дороге, видать, не первой прошла: и везде по обочинам лежали убитые наши военнопленные.
Однажды на ночлег остановились у бауэра. Вечер опускался холодный, моросил дождь, и хозяин пустил нас в сарай. А в сарае были сложены снопы пшеницы. Как только нас закрыли, ребята эти снопы в руки – и пошла молотьба! – Наелись пшеницы и кое-что в сумочки насыпали, в дорогу.
Последним этапом моих мытарств и скитаний между жизнью и смертью в немецком плену стал аэродром Эльгебек. И раз ночью на аэродром налетели английские бомбардировщики. Повесили на парашютах осветительные ракеты и пошли сыпать бомбы. Основной удар пришелся на наши бараки. Видимо, англичане думали, что здесь расквартирован летный состав. Погиб и наш охранник, австриец Ешка. Хороший был человек. Много для нас добра сделал.
Меня волной отбросило и ударило о стену. Я потерял сознание.
Первая бомба попала в барак, где был Вася Жижин. Хорошо, что наши бараки по всему периметру были обложены огромными валунами. Валуны гасили ударную волну, задерживали осколки.
За одним из таких валунов лежал и я. Когда пришел в себя, услышал крики и стоны. Кричал один наш товарищ, мордвин. Его завалило кирпичами рухнувшей печи. Я хотел было подняться, помочь ему, но тут меня ударило по спине балкой. У меня сразу отнялись ноги. Вася Жижин отыскал меня и вытащил из барака на улицу, положил под куст сирени.
Самолеты еще не улетели, а военнопленные уже побежали на кухню, поискать что-нибудь поесть. Кухню тоже разбомбило. Голод пострашнее бомбежки.
Несколько дней у меня изо рта шла кровь. Мучила сильная жажда. Что-то внутри повредилось от удара.
Немцы своих раненых стали увозить в госпиталь в крытых фургонах. Последняя машина осталась пустой. И в нее погрузили несколько человек раненых из числа военнопленных. В эту группу попал и я. Хотя было страшно: брали самых тяжелых, и мы боялись, что возиться с нами не станут, довезут до первого глубокого оврага и вывалят туда…
Но привезли в госпиталь. Смотрю, ходит медсестра. Немка. Совсем молоденькая. Я ей: «Медхен, ихь виль тринкен. Битте, медхен!» Она внимательно посмотрела на меня, ушла. И смотрю, несет стакан воды. Вот тебе и медхен… Пожалела доходягу русского… Да, брат ты мой, не все немцы звери были.
Нас перевели в интернациональный лазарет для военнопленных. Медработников в том лазарете почти не оказалось. Сами ухаживали друг за другом. Среди нас были русские, французы, поляки, югославы. Кормили нас баландой и давали по тонюсенькой пайке хлеба. Хлеб был не настоящий, выпечен с добавлением опилок. Когда, помню, ешь, на зубах их чувствуешь.
Вот так Бог меня и тут сохранил. В который раз за эти жуткие годы. Через много лет Вася Жижин мне рассказал вот какую историю…
Из Эльгебека нас, тяжелораненых, вывезли на машине. Остальных, кто мог передвигаться самостоятельно, построили и сказали: «Вы идете в лазарет. Шагом марш!» Повели. Довели до ближайшего оврага. «Стой!» Выстроили вдоль оврага и постреляли. Их там было 120 человек.
Вот тебе и судьба… А меня в это время немка водой поила…
Тем временем американцы и англичане стали нажимать с запада. И однажды мы узнали: немцы оставили Гамбург. А от Гамбурга до нас – 90 километров! И мы уже знали, что дня через два союзники будут здесь.
И правда, вскоре немцы побежали. Уходили они поспешно, к датской границе. Госпиталь охранял один немецкий солдат. Когда пришли англичане, он куда-то исчез.
К тому времени я уже поднялся на ноги. Мне ребята нашли подходящую палку, и я опирался на нее, как на костыль. Мы вышли посмотреть на англичан, какие они, наши освободители. Английские солдаты и офицеры ехали на машинах. Радостные, возбужденные. Многие одеты в шорты.
К нам пришел английский офицер. С ним кто-то из Красного Креста. И нам всем сразу раздали продуктовые посылки. Вначале – по одной коробке на двоих. А потом – каждому по коробке. Некоторые сразу навалились на еду, и несколько человек умерло. Я открыл пачку печенья, съел несколько штук и больше не стал.
Через несколько дней объявили: всем русским собраться в школе. Неподалеку стояло четырехэтажное здание школы. Нас готовили к отправке в советскую оккупационную зону. Тут же через переводчика всем объявили: «Кто не желает переправляться в советскую оккупационную зону, может об этом заявить. Мы вам поможем».
В советский сектор перевозили на грузовиках. Нас встретили военные в офицерской форме. Определили в барак. Происходило это в городке Штейнберге. Так мы попали в фильтрационный лагерь. Спали на нарах. Нары такие же, как и в немецком лагере. Кормили хорошо, выдавали полный солдатский паек. И вот, по очереди, начали вызывать в специальное помещение. Спрашивали: где воевал? Когда и при каких обстоятельствах попал в плен? Я все хорошо помнил и назвал номер своей дивизии, полка, фамилии командиров, даты боев и пленения. Ко мне особых вопросов и не было. Но вызывали несколько раз и спрашивали одно и то же. Каждый раз я вспоминал какие-нибудь новые подробности, но вскоре понял, что подробности их не интересовали. Все запишут, я распишусь, и все: «Идите».
Некоторых, помню, уводили даже без проверки. Один с нами был, с аккордеоном… Где он взял этот аккордеон? Пришли, взяли, вывели и во дворе расстреляли.
Рядом со мной на нарах лежали полковник и младший лейтенант, оба из Ростова. Земляки. Полковник ночами не спал, все вздыхал. В плен попал еще в сорок первом, под Вязьмой, раньше меня. Его часто вызывали. Но не уводили – каждый раз возвращался. Младший лейтенант все за него переживал. Виду не показывал, но я замечал, что волнуется за полковника. А сам он был летчик-истребитель.
Первую нашу колонну из фильтрационного лагеря к советской границе отправили пешком. Когда шли по Польше… Шли-то усталые, голодные, мимо деревень, где полно продуктов. А поляки знаешь какие… Выйдут посмотреть, и вместо того, чтобы кусок хлеба вынести, начнут насмешничать. Ну и пошло… – Главное – голод. Это надо понимать. А охрана что? В своих же стрелять не будут. После того случая стали отправлять только поездами.
Отправили вскоре и наш эшелон. В Берлине на железнодорожной станции произошла такая история. Когда вышли из вагонов, увидели стоявший рядом вагон-цистерну. На цистерне трафарет – череп с костями. А ребят наших этим не остановишь, полезли разведать, что там. Почти пустая, но на самом дне что-то похожее на спирт. Надо ж знать нашего брата… Нахватали в котелки, во фляжки. Младший лейтенант, ростовчанин, принес и нам с полковником. Я пить не стал: «Ты что, не видел, что там череп с костями нарисован? Немцы зря такой знак не поставят». Он мне: «Не бойся! Вот смотри, горит!» Плеснул этой жидкости в ложку, поднес спичку: «Видишь? Все в порядке! Не сомневайся!» Я все равно пить не стал. А вот другой лейтенант, гвардеец, который тоже ехал с нами, выпил. Он был командиром стрелкового взвода. Попал в плен недавно. Еще и форму не износил. В Германии на пересыльном пункте встретил свою сестру. Ее немцы угнали на работы в Германию, на каторгу. Много нашей молодежи там было. Тоже ехали назад эшелонами. Вот лейтенант-гвардеец и разыскал свою сестру. И вместе с ней ехал домой, в Россию.
И только мы отъехали от Берлина, он мне и говорит: «Что это у меня с брюками?» Я ему: «А что?» – «Да лампасы куда-то делись. Были лампасы, а теперь вот где они? Нету!» И щупает свои галифе. Я смотрю: лампасы-то – на месте. А это у него уже от выпитого началось… Галлюцинации. Тут и другим стало плохо.
Эшелон остановили на ближайшей станции. Человек пятьдесят сдали в госпиталь. Хорошо, там стояла наша воинская часть. А человек пятнадцать уже умерли. Умер и лейтенант-гвардеец. Вот так, ехал-ехал домой… И сестру нашел… Выпил на радостях…
Привезли нас в Вышний Волочек. Снова – на нары. Снова – проверка. Вместе со мной ехал санинструктор. На Днепре в плен попал. Так ему «тройка» сразу зачитала указ: десять лет лагерей. Что уж там у него было, не знаю. Наши документы приехали в Вышний Волочек раньше нас. А в плену, скажу я тебе, люди вели себя по-разному.
Кто прошел проверку, мог выбирать: хочешь служить, присваивали звание и отправляли в часть, кто сильно ослаб, того отправляли домой.
Я поехал домой, в свою деревню Уваловку под Тарусой. Там жили мои родители.
В Тарусе меня однажды встретил уполномоченный НКВД Максимов: «Зайди. Поговорим». Зашел. Поговорили.
Я устроился на работу. В Тарусском районе после войны начался тиф. Специалистов по санитарному делу не хватало. А я все же был санинструктором стрелковой роты. И хоть там, на фронте, в донской степи, у меня была работа другая, я таскал раненых с поля боя, но и в санитарном деле кое-что понимал. Да и в лагерях приходилось заниматься тифозными больными. Вот и пошел я работать санитарным врачом. Так и остался в тарусской санэпидемстанции, и проработал в ней сорок шесть лет!