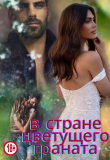Текст книги "Петр Аянка едет в гости"
Автор книги: Сергей Диковский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Диковский Сергей
Петр Аянка едет в гости
Сергей Диковский
Петр Аянка едет в гости
Ртутные градусники лопались, когда Вострецов и Строд вели из Иркутска на Охотск красные части. Позже говорили, что это был совсем неожиданный, немыслимый маршрут. Ведь даже прокаленные морозами иркутяне с трудом выдерживали ночевки в тайге и тундре. Ведь шли пустыней. Быки и кони падали, не выдержав полярного дыхания.
И это было неверно. Красные стрелки, нанесенные на карту уральским кузнецом Вострецовым, были так же мыслимы, как сивашский удар или атака под Волочаевкой. Точно только одно – неожиданность. Ни полковник Пепеляев, ни его заокеанские друзья не ожидали, что Красная Армия осмелится выйти за Полярный круг.
Если бы Вострецов желал выражаться картинно, он мог бы сказать с дровень:
– Солдаты революции! Спустя два столетия вы проходите старыми тропами казаков Хабарова и Пояркова. История Охотского края смотрит на вас с вышины этих сосен!
Но он не умел выражаться картинно. Огромный, костистый, с пропеченным лицом, на котором до смерти сохранились следы кузнечной окалины, он шел рядом с дровнями, говоря:
– На первом же привале перемотайте портянки.
И морщился, вспоминая, что на пулеметах слишком густая смазка, а у полковника Пепеляева сани бронированы ледяными плитами.
Эти ледяные броневики и теперь нет-нет вспомнит кто-нибудь из пограничников-командиров на Охотском побережье. Или расскажет на разборе тактических занятий, как однажды в затылок Строду неожиданно обрушился офицерский отряд, как, видя бойцов без укрытия, Строд отдал простой и жестокий приказ, который только пулеметные дула могли вырвать у кавалериста:
– Перестрелять лошадей и быков!
Так и не мог полковник Пепеляев достать красноармейцев, укрывшихся за обледенелыми трупами лошадей.
А еще свежее в памяти пограничников последняя вспышка белогвардейщины на севере. Только отчаяние, вера в свои ноги, в непроходимость тайги и обилие спирта могли родить этот откровенно разбойничий план: зимой, когда нет пароходов, взорвать радиостанции, зажать рот Охотскому краю и, разграбив фактории, перестреляв партийцев и сельсоветчиков, отступить подальше от побережья.
Матерые бандиты, возглавлявшие эту отчаянную авантюру, делали ставку на феодалов тайги – тунгусских князей. Щекоча национальное чувство, раздаривая ворованный спирт, они верили, что вместе с обрезами и трехлинейками по сельсоветам ударят тунгусские винчестеры и пистонки бродячих охотников.
Но к 1928 году в тайге уже было известно: кооперация расплачивается в двадцать – тридцать раз лучше, чем князь. На побережье бесплатно лечат трахому и даже строят большие юрты, где тунгуска может рожать. Вовсе не нужно отдавать за железный котел столько белок, сколько могут умять в него шкурок цепкие пальцы перекупщика. Не надо выпрашивать у купца пуд муки или десять лет отрабатывать старое ружье...
Далеко не заманчивым показался тунгусам белый северный рай.
Ружья ударили в обратную сторону. Да... Если бы не нарты и олени тунгусской бедноты, если бы не дружный отпор населения, отряд Петрова не так скоро взял бы в кольцо белый штаб в Оймяконе.
Теперь на побережье, в тайге и тундре поднят невидимый и грозный барьер. На прочный замок взята граница, что идет по четырем восточным морям, от залива Петра до мыса Дежнева.
С моря кажется: редки рыбацкие поселки, дико щерится гольцами берег из-под шапки тайги. Кажется, никто не заметит, как выплывет на берег нарушитель. Тишина. Пустыня. Только утки ныряют в воде. Хочешь – корпус высаживай на глухие участки, хочешь – соболя бей или с тазом иди промывать золото по ручьям.
Хочешь... Но еще не добралась до берега лодка, как навстречу уже выгребают бойцы или, врезавшись в пену, тревожно стучит серый катер чекистов.
И так всюду: у серебряных скал Тетюхе, в узкой щели Татарского моря или на Камчатском, пропахшем рыбой и водорослями, побережье. Пустынной кажется граница, а нет дороги. Можно в тумане, рискуя лбом, обойти контрольные пункты, но нельзя ожидать поддержки от комсомольцев, забивающих в бухте сваи причалов, от геолога, дятлом выстукивающего скалы, от мотористов ударного катера.
На замке побережье. Но не так давно настежь в море была открыта пограничная дверь. Чудеса бизнеса творились тогда на берегах. За патефон и десяток фокстротов шла покрытая великолепной изморозью черно-бурая лисица. На дешевые ножи меняли тунгусы моржовые бивни. За ламповое стекло отдавали оленьи рога.
Еще живы тунгусы, знавшие таксу: литр спирта – полсотни оленей.
А многие носят на шее и до сих пор следы изобретательного поповского издевательства – голубые стеклянные кресты. Их надевали монахи, согнав испуганное население к морю и выкупав всех без разбору в ледяном прибое.
В 1928 году мисс Элеонора Рокфеллер в компании подобных себе бездельников путешествовала в северных водах. Туристы обогнули Канаду, повертелись у Аляски, и в один хмурый день белая яхта – "Мисс Мэри-Анна Спаттль Уайт" – бросила якорь у неизвестного берега.
Берег был гол. Нерпы высовывали из воды любопытные кошачьи головы. Пахло хорошей охотой, и молодые Рокфеллеры начали налаживать ружья.
Но тут от берега отделилась лодка. В лодке стоял человек в шлеме и оленьей малице. Человек делал такие же жесты, как любой милиционер, сдерживающий любопытных пешеходов во время демонстрации. Он энергично показывал руками на дорогу из бухты.
Когда посетитель поднялся на палубу, миллионеры увидели плохо выбритое лицо, звезду на шлеме и трепаные оленьи унты.
Это был Пяткин – милиционер и пограничник Уэлена в то время.
Пяткин, кроме слов "No" и "Yes" ["нет" и "да"], ничего не знал по-английски.
Владельцы яхты ни слова не знали по-русски.
Пяткин явился объявить протест против вторжения яхты в советские воды. Его немедленно окружила стая молодых шалопаев с "кодаками". Мистеры и мисс целились в усталое пяткинское лицо объективами.
Леди и джентльмены вопили, перелистывая "бедекеры":
– Рэшен козак! Чика... Кепеу!
После чукотских яранг, жировых плошек, мороженого оленьего мяса Пяткин увидел рояли, купальный бассейн, хрустальную сервировку стола.
Он возмутился: какие-то шалопаи смеют бить по нерпам из маузеров, кидать апельсинные корки в советскую воду и оглашать через радиорупоры побережье фокстротным заиканием.
Он сказал, указывая на берег:
– No!
Потом на открытое море.
– Yes... Вира якорь!
Капитан спросил:
– What? [Что?]
Тогда Пяткин энергичными жестами пояснил, что "Мисс Мэри-Анна" должна немедленно отойти подальше от советского побережья. Сухо откланялся и уехал на берег на своей валкой лодчонке.
Через три часа яхта выбрала якорь.
В просторном ковше, в Нагаевской бухте, жмется у берега потемневший бревенчатый дом. Возле дома гигантские шаги, затертый до блеска руками турник, и узкий флажок на шесте врезался в небо. На фоне сумрачного колизея сопок и стремительных туч этот красный лоскуток кажется торжественнее флага, вечно струящегося над зданием ЦИК.
В прошлом году этот дом был почти одинок. Тогда только культбаза светилась свежим тесом и поблизости не было ни одной лысой сопки. Теперь же двухлетний поселок вырвался из подковы бухты. Его рождение еще не отмечено на картах, а он уже смял тайгу и азартно размахивает руками новых просек. Первые линии далеко впереди – там, где бараки Союззолота пустынными окнами в упор смотрят на тайгу.
Это Нагаево – лучший порт Охотского побережья, в котором слабеет даже сентябрьский шквалистый ветер, будущая столица Охотского моря.
Дом на краю – пограничный контрольный пост. Здесь все так же обыденно, как и в заставах Уссурийской тайги. Буденный сидит, опираясь на клинок. Ворошилов скачет за тысячи верст мимо башен Кремля. Трехлинейки стоят в строю, и каждый ремень скошен вправо, точно головы бойцов на вечерней поверке.
Тот же прицельный станок, тот же стрелок, в обмотках и каске, грозно целится со стены. И ильичевка, конечно, "На страже". И буквы на лозунге не одинаковы ростом.
И все-таки это особая граница.
В Приморье на каждой заставе – конюшня, манеж, учебные рыси, рубка лозы...
Здесь – поездка на нартах под контролем начальника, тонкий шест в руках ездока-пограничника, крик, клубком пара взрывающийся в морозном ветре: тах-тах!
Другой конь, широкопузый, смоленый, с зеленым флажком на носу, рвется с железной цепи у берега.
И ухабистая, водяная дорога из бухты нисколько не легче топких тропинок в тайге.
В этой казарме, в пику тайге, наперекор грязной облачной сумятице, особенно подтянуты молодой командир и бойцы. Снег ли солит ветви деревьев, дождь ли оспинами покрывает серую воду – начальник никогда не забудет побриться, пройтись щеткой по костюму и сапогам. Его квадратные плечи, красная щегольская розетка под значком отличного стрелка, рукопожатие, встряхивающее руку до плеча, – все это открытый вызов обстановке. Он держится так, точно всегда хочет сказать: "А чертовски занятно, ребята, пройтись на лыжах сотню-другую километров!"
Когда не было овощей и цинга показала в казарме свои унылые десны, начальник ввел добавочную гимнастику, выстроил турник и гонял красноармейцев, как мальчишек, на гигантских шагах. Он не позволял ни на минуту раскиснуть, расстегнуть крючки гимнастерок, слечь на койки в полной апатии к еде и движению.
Рубите дрова! Больше ешьте, больше двигайтесь! И цинга отступила, не осилив этой дисциплинированной, великолепной полнозубой молодости.
Это совсем особая граница. Трудно сказать, где здесь кончается пограничник – участник походов на северные банды – и начинается педагог, где кончается педагог и начинается кооператор, охотник, статистик и врач.
Три года длится вахта бойца-пограничника на восточных морях нашей страны. Каждый месяц проходит в разъездах. И так велика привычка к переходам, к вечно ухабистому Охотскому морю, что бойцы перестают ценить расстояние. Здесь говорят, надевая на ноги лыжи, короткие, как теннисные ракетки:
– Я пошел на Средникан.
А до Средникана – декада пути. Могут быть ночевки в тайге, может быть пурга. Морозы не в счет. Давно привыкли бойцы к тому, что плевки падают на землю стеклянными, хрупкими бомбами и временами тяжело поднимать обиндевевшие веки.
Ни в каком уставе, конечно, не написано, как нужно управлять упряжкой собак, как, подходя к берегу, не поставить боком под волну катер, как сохранить равновесие, сидя в легкой туземной лодке, сквозь тонкую кожу которой проходят холод и зеленый свет от воды. Но все это нужно знать, потому что нигде так не разнообразна и не инициативна работа пограничников, как на Севере.
Сегодня поднимается по пароходному трапу колымский приискатель. Ему пофартило. По старой алданской привычке он припрятал золотую крупу. Попробуй отгадай, где везет он песок: в меховой шапке, складках американских холщовых штанов или в долбленой крышке сундука?
Но напрасно, попав на контрольный пункт, вор торопится снять сапоги. Он усажен за стол, в руки ему всунут костяной частый гребень.
– Причешитесь получше!
И тогда из жирных, грязных волос золотой, ворованный у страны песок осыпается на бумагу.
Это сегодня. А завтра капитан иностранного парохода шепнет пару слов спекулянту. Капитан – страстный любитель черно-бурой лисицы, особенно если ее можно выменять на десяток флаконов шотландского виски. Он будет ждать весь вечер момента, когда на легкой лодчонке подойдет к борту любитель наживы. И тоже напрасно! Давно на полдороге остановлен пограничниками спекулянт, и черно-бурая шкура лежит на столе у начальника.
Оставшиеся еще феодалы-князьки, скупщики золота и пушнины, контрабандисты, спиртоносы – оплот бандитизма на севере. Точно водоросли по берегам, переплетены в Охотской тайге родовые отношения, власть феодалов и самая наглая спекуляция на трудностях снабжения и особенностях севера.
Есть участки, где воля князя – первого оленевода своего племени неоспорима. Не разрешит князь – не быть родовому собранию. Скажет князь и родовое собрание подтвердит, что ржавая берданка – достойная плата за долгие годы батратчины.
Так до 1931 года хитрейший тихоня, владелец десяти тысяч оленей Громов был Госторгом, ЦРК, розничной торговлей, попом и судьей своего племени.
Так играл на цинге, меняя свежее мясо на золото, знаменитый в тайге Александров – виртуоз-скупщик, выросший с великой мукой из бедноты в кулаки. Михал Петровича знали за четыреста километров от Нагаева, на Буенде. Испытавши на своей шкуре жестокую лапу князей, он был особенно эластичен, цепок и чуток.
Самый жестокий удар Трахалевым и Громовым принесла кооперация. Она не ожидала покупателей на побережье. Собачьи упряжки с товарами, огромные караваны легких нарт были отправлены в тайгу. Кооператоры бежали рядом с собаками. Они кричали упряжкам: "тах! тах!.." [оклик собакам – "направо!"] Они разрубали топорами мерзлый хлеб и на ночевках залезали в меховые мешки. Это были не "работники прилавка", не придатки к весам, а настоящие кооператоры Севера: пропагандисты, ветеринары, врачи, учителя и охотники.
Бой был дан за четыреста километров от моря, за Яблоновым хребтом, куда вслед за тунгусами дошли разъездные торги кооперации. И там на местах кооперация расплачивалась неслыханно, небывало: за белку – кирпич чая, за черно-бурую лисицу или соболя – в двадцать – тридцать раз больше, чем князь.
В эти дни кооператорам и партработникам района случилось беседовать с князем Хабаровым. В юрасе их встретил моложавый, чисто выбритый тунгус, одетый в отличный заграничный костюм. Он заговорил на чистом английском языке (след шхун, забиравших пушнину), удивляясь расточительной политике кооперации:
– Уверяю вас, вы проторгуетесь... При таких расценках тунгус не станет работать... Он – лентяй... Кирпич чая за белку! Сто рублей в месяц оленьему пастуху!.. Это безумие...
Угощал чаем, заводил канадский патефон, показывал коллекцию винчестеров – все с приветливо застывшим лицом, и, угощая, должно быть, уже думал о резком повороте своей политики.
Коллективизация прошла по тайге. И тотчас тунгусские феодалы повторили волчьи приемы их волжских и кубанских собратьев.
Князья стали ярыми сторонниками коллективизации. Почти все. Сразу. Кто сказал, что князь Громов против колхозов? Он первый отдаст им свои юрасы, шкуры, десять тысяч оленей. Больше того, он согласен взять на свои стариковские плечи все тяготы административной работы. Колхозам нужны опытный глаз и хозяйская рука. Вот они. Князь охотно отдает их на службу колхозу. Он согласен стать председателем. Не сажать же в председатели нищего пастуха с десятком оленей.
А согласие князя в районах некорчеванного феодализма – приказ.
Голыми руками князьков не возьмешь. В тридцать первом году пограничники наткнулись в тайге на молодых генштабистов княжеских совещаний. Два тунгуса – ленинградские Студенты – были вызваны отцами в свои юрасы. Несколько лет они учились, ели, спали бок о бок с товарищами по вузу, и никто не подозревал, что молчаливые, скромные парни – сыновья злейших врагов.
Они впитали культуру, не растеряв и крохи дедовских заветов. Они были много осторожнее, гибче, чем старшее поколение феодалов. На родовом съезде тунгусов в тридцать первом году выступал князек Трахалев реорганизующийся феодал, скользкий в речах, внешне податливый, даже простодушный. Осторожная молодая лиса в торбазах и богато расшитой кухлянке.
Зная отлично русский язык, он дипломатничал, разговаривал с секретарем окружкома партии через переводчика.
Трахалев первый выстрелил в собеседника вопросами:
– Почему в правлении АКО [Акционерное камчатское общество] нет тунгусов? Почему в факториях заведующие сменяются чаще, чем шерсть на оленях? Тунгусы не любят изменять старым скупщикам. По какой цене продает Госторг шкуры в Америке?
И засмеялся, блеснув зубами, когда секретарь назвал фамилии тунгусов, работающих в факториях АКО и конторах Союззолота.
– Их не знают в тайге. Разве вы доверите исполком прохожему? Такие люди не могут иметь авторитета в чужих юрасах...
– А кого бы вы хотели видеть в АКО?
Он улыбнулся, глядя в лицо собеседника предательски ясными глазами, и повторил, не дожидаясь переводчика:
– Они не имеют авторитета...
В юрасе Трахалева американский примус, патефон, отличный мельхиоровый прибор для бритья, но осторожно, по-своему обоснованию, он высказывается против изменения быта якутов, тунгусов, чукчей.
Разве можно в чукотских ярангах ставить железную печку взамен жировых ламп? Всем известно: она слишком быстро высушивает шкуры, и яранга трескается. Так же и чужая культура в тайге: она подобна палящей печке в яранге.
Он, бреющийся и чистый, высказывается против больницы, которая "изнеживает людей", против мыла, "ведущего к простуде". Он, побывавший на шхунах Свенсона, рослый и сытый, зовет свой народ назад к феодализму, к трахоме, в прошлые столетия.
Начальник поста вспоминает об этом князьке лаконично:
– Молодой еще, но шерстка папашина.
Папашина шерстка, папашины зубы. И когда, объезжая район, пограничник встречает вырезанный на сосне портрет человека, он знает: где-то было убийство. Суеверный преступник оставил на сосновой коре портрет убитого, чтобы мертвец не преследовал по пятам. А дальше, шаг за шагом, иногда месяцами, выясняется, что убитый – или пастух, ездивший с жалобой к прокурору, или комсомолец, выдавший родича – скупщика.
Бой феодалам, спекулянтам-контрабандистам дается сразу за Яблоновым хребтом, в Нагаевской бухте, на приисках, в тайге и пароходных трюмах. И трудно сказать, что энергичнее вышибает почву из-под ног феодалов и спекулянтов: скупщик, задержанный в трех лисьих шубах, или старый тунгус, принесший в ячейку вместе с заявлением в партию подарок – рисунок из "Правды", переведенный на бивень моржа? Лучший плес на реке, отвоеванный пограничниками для туземцев-рыбаков, или десять охотников, из которых каждый положит дробину в глаз белке, десять новых осовцев, давших клятву всегда помогать пограничникам?
Трое суток Петр Аянка едет тайгой на собаках. Дважды в дороге его жестоко треплет пурга. Тогда он прячет под оленью малицу, к животу, самого рослого, самого горячего пса из стаи и засыпает в снегу, воткнув в головах тонкий шест.
Если мороз невелик, дорога легка и собаки хорошо отдохнули, Петр Аянка садится на нарту. Он сидит, как удильщик, со своим длинным шестом, подгоняя собак, и поет длинную песню. Он начал ее, отъезжая от юрасы, и кончит петь, когда собаки спустятся по просеке к бухте. Это песня – длиной в четверо суток быстрой езды. Ее суровая музыка – что-то среднее между свистом ветра и скрипом узких полозьев.
Петр Аянка поет:
Коршун летит очень быстро,
Но олень обгоняет его...
Девять собак быстрее оленя.
И-ия... Охи-и-э-э... И-и-э-э...
Девять собак бегут быстро.
Первая, черная, очень больна.
Ей давали медвежью желчь
И посыпали горячей золой.
Ничего не помогает:
Она скоро умрет.
И-э-э... Ао-у-у-эх...
Скоро будет море,
Морская вода – как водка:
Если пить много – вытекает обратно.
Тах! тах! тах!..
В море стоит дом из железа.
Дом идет по воде.
Если Петр Аянка захочет,
Он отдаст двадцать белок
И поедет в большое стойбище.
Чтобы объехать стойбище кругом,
Нужно месяц и шесть дней.
Когда белые гуси пролетают над стойбищем,
Они становятся чернее угля,
Так велик дым от больших юрас.
И-ия... Ихи-и-э... И-иэ...
Трое суток – триста километров для хороших собак. На четвертые нарта выносится к бухте Нагаево. Мимо райсовета, мимо складов, где моржовая шкура висит на дверях, – к дальнему дому под красным флажком.
– Здравствуй, товарищ Аянка!
Сам начальник выходит навстречу. Эта дружба не первого года. И не один самовар, среди полного молчания, был распит вместе с Аянкой в летнем рогожном шалаше пограничников.
Аянка здоровается обеими руками. Начальник – надежный человек. Он изъездил всю тайгу от Нагаево до Колымы. Ему можно рассказать кое-что. Но об этом потом, за вторым самоваром, когда оттает и прорвется наружу обида на князя.
Петр Аянка рассказывает о случае на охоте. Это очень длинный рассказ, потому что медведь был выше дома и ломал Аянку очень долго. Аянка лежал как убитый, но медведь был старый и хитрый. Самый хитрый. Хитрее бобра. Он знал, что у мертвых не вытекает кровь, как текла из Аянки. Лапой, толще сосны, он содрал с головы тунгуса волосы так легко, как снимают американцы кожуру апельсина.
Тогда Аянка ударил его ножом – раз и другой. И нож запрыгал в руке, когда его конец вошел в сердце, – такой сильный был медведь.
Только после третьего самовара Петр Аянка просит начальника достать свой блокнот. Пусть начальник запишет, как на Оймяконе шел родовой суд, как спорили пять дней старики и Романов, тот, что хромой, как за четырнадцать лет работы дали хромому батраку пачку махорки и двенадцать оленей.
Петр Аянка приехал за триста километров спросить пограничников.
– Суд сказал: "Жадный морж хватает рыбу без счета. Разве хочет Романов быть похожим на глупого моржа?.." Э! Как думает начальник, хорошо сказал суд?
Нет, начальник не думает, что княжеский суд сказал хорошо. Он записывает рассказ про хромого Романова и про Семичанский сельсовет, в котором четыре года не было председателя.
Они пьют еще и еще. Аянка доволен: чай настоящий, такой черный, что вяжет десны.
Потом начальник надевает шинель. Он приглашает Аянку на стрелковые состязания пограничников и тунгусов-охотников. Старый тунгус степенно кивает головой. Он охотно будет стрелять, но предлагает другую мишень. Зачем портить патроны – стрелять в бумагу? Лучше взять лыжи и пойти в сопки за белкой. Можно еще стрелять в коршуна или в нерпу, которая высовывает голову из воды... Нельзя?.. Ну, ладно. Петр Аянка согласен стрелять и в бумагу. Черный глаз посредине будет глазом большого медведя.
Четверо тунгусов стреляют из древних пистонок, с прикладами узкими, как топорище. Стреляют мастерски, как подобает белковщикам: быстро и точно. Петр Аянка занимает первое место, красноармеец Терентьев – второе.
В мишени Аянки одно отверстие величиной в три копейки. Пули вбиты одна в другую. Петр Аянка снимает мишень и по привычке начинает выковыривать металл из дерева. Зачем пропадать дорогому свинцу?
– Петр Семенович, постреляй еще из винтовки!
Старый тунгус оставляет свою пистонку, опутанную проволокой и веревками. Он выменял это ружье и два бачка спирта за три медвежьих шкуры и семьдесят белок. Это было еще в 1916 году.
Аянка ложится в снег и целится из винтовки. Левая рука его обтянута ремнем по-динамовски, как учит начальник.
Гость доволен винтовкой. Ладно. Очень ладно. Если бы у Аянки была такая винтовка, он убил бы мед" ведя одним выстрелом. Сильный огонь. Жалко только – много рвет шкуру.
Увидев противогаз, старый тунгус удивлен. Какая странная маска! Разве начальник мало-мало шаман?.. Для войны?.. Зачем обманывать Аянку? Он начинает спорить, и никакими доводами нельзя доказать Аянке, что и воздух может быть отравлен.
...Петр Аянка ночует в комнате начальника, по привычке забравшись в спальный мешок. Докуривая трубку, старый тунгус одобрительно смотрит, как начальник делает физзарядку: нагибается, приседает на одной ноге, вертит руками. Очень хороший танец, надо только, чтобы пришли другие, пели и били в ладоши. Ладно...
Утром, когда тунгус высовывается из мешка, красноармейцы собирают белье, режут бечевками мыло.
– Товарищ Аянка, пойдем в баню.
– В баню?.. Ну, можно.
Вслед за бойцами он входит в предбанник, но решительно отказывается расстаться с трубкой и меховыми штанами. Разве он мертвый, что его хотят раздевать? Зачем лить на себя столько горячей воды, когда ее можно пить? И потом человек – не глупый тюлень, чтобы самому залезать в воду.
Только пример начальника заставляет Аянку расстаться со штанами. Он с любопытством подставляет черную спину и бока под мочалку. В самом деле, как непонятно линяет кожа, совсем как у оленя.
И вдруг Аянка начинает хохотать. Он смотрит на стены и смеется до того заразительно, что прыскают отмывающие его красноармейцы – Шепелев и Страменко.
– Что с тобой, Петр Семенович?
На тунгусском языке нет этого слова, а по-русски Аянка не знает, как сказать про ручей, что течет из стены. Его рассмешили не красная кожа и скользкий обмылок, а краны, из которых так послушно вытекает вода.
Красноармейцы уже застегивают шинели, когда из бани выходит Аянка краснее помидора, с расцарапанными мочалкой боками. Потухшая медная трубка торчит во рту тунгуса. И на старческой шее прыгают, стукаясь друг о друга, голубой стеклянный крест и божок из моржового бивня. Две печати одной эпохи: монашеская награда после крещения в проруби и амулет от шамана.
Шепелев, сам только в армии снявший кипарисовый крест, уже готов убрать амулеты с шеи тунгуса. Но Страменко отдергивает его руку.
– Осторожнее... Это не сразу.
– Не сразу... – машинально повторяет Петр Аянка.
И первый раз, после первой бани, воротником назад надевает рубаху.
1932