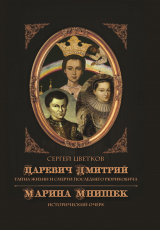
Текст книги "Царевич Дмитрий. Тайна жизни и смерти последнего Рюриковича. Марина Мнишек: исторический очерк"
Автор книги: Сергей Цветков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Сергей Цветков
Царевич Дмитрий. Тайна жизни и смерти последнего Рюриковича. Марина Мнишек

© Цветков С., текст, 2020
© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2020
Царевич Дмитрий. Тайна жизни и смерти последнего Рюриковича

20 июня 1605 года, с раннего утра, москвичи и пришлый люд толпились на улицах, ведущих из Кремля в Коломенское. Кровли домов и церквей, деревья, колокольни, башни и стены были усыпаны народом. Ждали приезда того, кто десять дней назад в грамоте, зачитанной на Лобном месте его гонцами, объявил москвичам о забвении прошлых вин и подписался: «Мы, пресветлейший и непобедимейший монарх, Димитрий Иванович, Божьей милостью Император и Великий Князь всея Руси и всех Татарских царств и иных многих Московской монархии покоренных областей Государь и Царь».
Ровно в полдень показалось торжественное и пышное шествие, растянувшееся на несколько верст. Впереди ехали польские латники, в крылатых шлемах и блестящих панцирях. Примкнувшие к ним польские музыканты играли на трубах, литаврах и барабанах. За ними шли полки стрельцов, медленно катились царские кареты, заложенные шестернями, и праздничные кареты бояр. Следом, окруженный толпой бояр и окольничих, на белом коне, в великолепном платье и дорогом оплечье ехал сам царь.
Под звон всех московских колоколов толпа падала ниц и кричала:
– Здравствуй, отец наш, государь и великий князь Дмитрий Иванович! Сияй и красуйся, солнце России!
Новый царь отвечал:
– Дай Бог вам тоже здоровья и благополучия. Встаньте и молитесь за меня!
Доехав до Красной площади, царь слез с коня и направился в Архангельский собор, чтобы помолиться у гроба своих предков. Небольшого роста, коренастый, с круглым безбородым лицом и проницательным взглядом маленьких глаз, он приветливо кланялся расступавшемуся перед ним народу. Отовсюду слышались крики: «То истинный Дмитрий!»
А спустя одиннадцать месяцев, в ночь на 18 мая 1606 года, покалеченный и окровавленный, он лежал на полу в своем дворце и на настойчивый вопрос склонившихся над ним бояр и стрельцов: «Кто ты таков, злодей?» – отвечал: «Вы знаете: я Дмитрий, несите меня к моему народу». Мушкетный выстрел прекратил его мучения.
Толпа три дня ругалась над его телом – плевала, колола ножами… Чья-то рука положила на лицо убитого маску – символ его удивительной судьбы.
Часть первая
Спасенный царевич
«… Никто не увенчавается, если не пострадает».
Житие святого мученика Уара

Осенью 1580 года, в разгар Ливонской войны, грозный царь Иван Васильевич шумно отпраздновал в Александровской слободе свою восьмую свадьбу. На этот раз его супругой стала Мария, дочь боярина Федора Федоровича Нагого. В храме, где происходило венчание, не было ни митрополита, ни епископов. Литургию служил поп Никита, государев любимец из опричников, поставленный в священники Спасо-Преображенского собора по желанию Ивана Васильевича; он же и повенчал молодых.
Молчаливое попустительство церкви столь вопиющему нарушению ее уставов уже давно стало обычным делом. Когда после внезапной смерти третьей жены Марфы Васильевны Собакиной царь решил учинить дотоле неслыханное на Руси беззаконие, взяв себе четвертую супругу, Анну Алексеевну Колтовскую, он еще озаботился тем, чтобы получить святительское благословение этого брака. На церковном соборе Иван Васильевич жаловался духовенству, что злые люди чародейством извели его первую супругу Анастасию, отравили вторую, черкасскую княжну Марию Темрюковну, погубили третью; что в отчаянии, в горести он хотел посвятить себя житию иноческому, но видя жалкую младость сыновей и государство в бедствиях, дерзнул на четвертый брак, так как жить в мире без жены соблазнительно, и ныне, припадая с умилением, просит святителей о разрешении и благословении. Собор, возглавляемый новгородским архиепископом Леонидом, пошел на откровенную сделку с царем. Ради «теплого, умильного покаяния» государева решили утвердить брак, наложив на царя епитимью, а чтобы беззаконие царя не было соблазном для народа, пригрозили анафемой всякому, кто подобно государю дерзнет взять четвертую жену. Через год Иван Васильевич сослал надоевшую супругу в монастырь; главного своего пособника в этой женитьбе, архиепископа Леонида, вскоре приказал зашить в медвежью шкуру и затравить собаками, после чего, уже не советуясь с духовенством, разрешил сам себе еще несколько супружеств. Пятая жена Мария Долгорукова не сохранила для царя девственность и была утоплена; шестая и седьмая – Анна Васильчикова и Василиса Мелентьева – исчезли неизвестно куда.
Все на этой свадьбе было так же, как бывало и на предыдущих свадьбах царя, – визжали дудки, гнусаво блеяли рожки, тупо позвякивали бубенцы на бубнах, гости объедались диковинными блюдами – жареными лебедями, сахарными кремлями, мясом во всех видах, выпеченными из теста оленями, утками, единорогами, опивались дорогими винами, развязно шутили, орали пьяные песни. Необычно было лишь распределение свадебных чинов. За один стол с Иваном Васильевичем и Марией Федоровной уселись: посаженный отец царя его младший сын Федор, царский дружка князь Василий Иванович Шуйский, посаженная мать невесты Ирина Федоровна, жена царевича Федора, и царицын дружка – окольничий боярин и кравчий Борис Федорович Годунов, брат Ирины.
В тот день никто из присутствовавших на свадьбе не мог и предположить, что рядом с царской четой сидели те, кому в будущем суждено было, вопреки их происхождению и положению, наследовать московский престол. Судьба уже незаметно связала их судьбы, и с этого неприметного узелка начался отсчет Смутного времени.
Свадьба лишь ненадолго отвлекла царя от черных дум. Иван Васильевич пребывал в оцепенении, вызванном военными успехами поляков и шведов. Ливонская война близилась к своему бесславному концу. Шведский генерал Делагарди взял Нарву, вырезав в ней несколько тысяч жителей, овладел Корелою, берегами Ижоры, городами Ямом и Копорьем. Войска Стефана Батория брали в Ливонии и в самой Росии город за городом; Радзивилл, сын виленского воеводы, совершил набег на берега Волги и дошел до Ржева. Успехи воеводы Ивана Петровича Шуйского, отстоявшего Псков и тревожившего войско Батория смелыми вылазками, не могли вернуть грозному царю былого мужества и веры в непобедимость своего оружия. «Ты довольно почувствовал нашу силу; даст Бог, почувствуешь еще!» – гордо писал ему Баторий и насмехался: «Курица защищает от орла и ястреба своих птенцов, а ты, орел двуглавый, от нас прячешься… Жалеешь ли крови христианской? Назначь время и место; явись на коне и сразись со мной один на один, да правого увенчает Бог победой!» Ему вторил Курбский: «Вот ты потерял Полоцк с епископом, клиром, войском, народом, а сам, собравшись с военными силами, прячешься за лес, хороняка ты и бегун! Еще никто не гонится за тобой, а ты уже трепещещь и исчезаешь. Видно совесть твоя вопиет внутри тебя, обличая за гнусные дела и бессчисленные кровопролития!» Так оно и было. Иван Васильевич страшился измены и боялся посылать войско навстречу врагам; был уверен, что воеводы схватят его самого и выдадут Баторию.
Вскоре после свадьбы в Александровской слободе возобновились оргии, со скоморохами, девками и казнями. Иван Васильевич тяжело наливался вином, стараясь заглушить в себе страх и стыд за свое унижение. Он совсем охладел к своей новой супруге. Красота Марии не могла надолго прельстить пресытившегося царя, похвалявшегося тем, что он за свою жизнь растлил тысячу дев. Сохранилось известие, что он женился на ней лишь для того, чтобы успокоить царевича Ивана и ближних бояр, раздраженных его намерением добиваться руки английской королевы Елизаветы. Старея, Иван Васильевич начинал побаиваться старшего сына и порой ненавидел его, может быть, потому что видел в нем себя. Участник – поначалу невольный – всех отцовских оргий и казней, царевич Иван платил царю тем же, все чаще заглушая страх перед родителем своеволием и дерзостью.
В ноябре 1581 года противостояние отца и сына разрешилось злополучным ударом острого железного посоха (наши летописцы сообщают, что при этом пострадал и Борис Годунов, пытавшийся заступиться за царевича). Через четыре дня Иван скончался. Осталось неизвестным, был ли повинен Грозный в убийстве своего сына или, как сообщал членам Думы сам царь, смерть наступила от некоей тяжелой болезни, которой царевич Иван страдал в эти дни. Достоверно лишь то, что гибель наследника надломила царя. Неподвижно сидел он у тела сына те трое суток, пока шли приготовления к погребению… Родные, духовные, окольничие, подходившие к нему с увещеваниями и утешениями, не могли добиться от него ни слова. В Архангельском соборе, куда из Александровской слободы на руках принесли гроб с телом царевича, царь, в одной черной ризе, приникнув к гробу, прорыдал всю службу и отпевание, и потом, после погребения, с тоскливым звериным воем долго бился о землю…
Возвратившись в Александровскую слободу, Иван Васильевич на некоторое время уединился ото всех. Окольничие, дежурившие у дверей его покоев, целыми днями слышали доносившиеся оттуда всхлипывания, молитвы и глухие выкрики, словно царь разговаривал с кем-то, требовавшим от него ответа. Но особенно жутко было ночью, когда Иван Васильевич вдруг вскрикивал, падал с ложа и катался по полу, стеная и вопя; изнуренный, он утихал лишь под утро, забываясь в минутном сне на сломенном тюфяке, который клали для него на полу возле ложа.
Но вот однажды он появился в боярской думе – истаявший, желтый, щуривший воспаленные глаза. В мертвой тишине торжественно объявил, что слагает с себя Мономахов венец и постригается в монахи, чтобы кончить дни в покаянии и молитве, в надежде на одно милосердие Господне; бояре же должны выбрать промеж себя достойного государя, которому он немедленно вручит державу и сдаст царство.
Нашлись такие, которые были готовы поверить в искренность царя. Однако большинство бояр, благоразумно опасаясь, что в случае их согласия у царя вдруг может исчезнуть влечение к схиме, принялись умолять его не идти в монастырь, по крайней мере до окончания войны. Иван Васильевич с видимым неудовольствием согласился продлить попечение о государстве и людишках, ему Богом врученных. Но в знак своей скорби он отослал в кремлевскую сокровищницу корону, скипетр и пышные царские облачения. Двор вместе с царем оделся в траур и отрастил волосы в знак покаяния. Иван Васильевич ежедневно служил панихиды. Каялся. Слал богатые дары на Восток, патриархам – в Константинополь, Антиохию, Александрию, Иерусалим, – чтобы молились об упокоении души его сына. Усиленно припоминал всех казненных и замученных им людей, вписывал их имена в синодики. О тех, кого не мог вспомнить, писал просто: «Они же тебе, Господи, ведомы!»
Вероятно, под влиянием покаянного настроения он примирился и с Марией. В феврале 1582 года, на втором году своего брака, она почувствовала себя беременной.
К концу зимы царь, усердно молясь за упокоение душ других, наконец успокоился и сам. Вспомнив о Ливонии, которой он так добивался и которая ускользнула из его рук, приказал привести в Александровскую слободу ливонских пленников и пустил на них медведей. На изрытом снегу двора звери рвали людей на куски, а он, стоя у окна, упивался их муками. Были казнены и русские ратники, вернувшиеся из польского плена. Новгородского митрополита царь заточил в темницу, обвинив в измене, мужеложестве и содержании ведьм; одиннадцать его доверенных слуг были повешены на воротах его двора в Москве, а ведьмы четвертованы и сожжены. Прежние любимцы – боярин Никита Романович, брат первой жены царя Анастасии, и дьяк Андрей Щелкалов – подверглись опале и были обобраны до нитки. В промежутках между казнями во дворце гремели пиры. Царь гнал от себя людей, неспособных веселиться беспрерывно. Но прежняя выносливость покинула Ивана Васильевича. Ему случалось засыпать среди всеобщего разгула. Он стал забывать имена своих любимцев, иногда называл Бельского Басмановым, удивлялся, что за столом нет Вяземского, казненного много лет назад.
Как-то в боярском совете он громко поинтересовался, почему так долго не видит подле себя Годунова. Федор Федорович Нагой, обрадовавшись случаю напомнить о себе и заодно очернить окольничего в глазах царя, сказал, что Годунов сидит дома, досадуя и злобясь на государя за полученные увечья. Иван Васильевич, скучавший по веселому и услужливому любимцу и чувствовавший свою вину перед ним, сам поехал на дом к Годунову узнать истину. Борис, встретивший царя в постели, в исподнем, показал ему свои раны. Их неоднократно прижигали, но некоторые из них еще гноились. Иван Васильевич обнял больного, умолял простить его. Потом поинтересовался, как зовут целителя, который так искусно прижег раны Годунова. Узнав, что это купец Строганов, в знак особенной милости пожаловал ему право называться полным отчеством, как именитые мужи, и велел в тот же день сделать прижигания на груди и боках своего тестя, клеветника.
Издевательство над Нагим было вызвано, видимо, новой вспышкой ненависти царя к Марии. Беременная супруга окончательно опостылела ему. Иван Васильевич возобновил проекты брачного союза с английским королевским домом. В августе 1582 года он послал в Лондон дворянина Федора Писемского обговорить условия его брака с Мэри Гастингс, племянницей королевы Елизаветы. О Марии Писемскому велено было сказать, что хотя у царя и есть жена, но она не какая-нибудь царица, а простая подданная, не угодна ему и ради королевиной племянницы можно ее и прогнать.
Осенью двор переехал в Москву. Здесь 19 октября, в день памяти святого мученика Уара, Мария родила мальчика, нареченного при крещении Дмитрием. Возможно, имя для сына было выбрано ею в честь одного из своих предков. Нагие происходили из Дании. Их родоначальник Ольгерд Прега, в крещении Дмитрий, в 1294 году выехал из Дании к великому князю Михаилу Ярославовичу Тверскому, и был у него в боярах. Восприемником царевича был выбран князь Иван Федорович Мстиславский, потомок древних князей литовских, породнившихся с царствующим домом.
Зимой 1584 года стало ясно, что девятый брак царя не состоится. Писемский писал из Лондона, что племянница королевы больна оспой и притом не хочет переменять веры. У Марии, ежеминутно ожидавшей разлуки с сыном и пострижения в монастырь, отлегло от сердца. Но ее будущее по-прежнему представлялось неясным.
В январе Иван Васильевич заболел: у него распухли половые органы, внутренности гнили, тело царя издавало отвратительный смрад. Два месяца страшной болезни, которую врачи затруднялись определить, хотя усматривали ее причину в прежней развратной жизни и необузданных страстях царя, превратили его в дряхлого старика. Однако никогда еще он так сильно не хотел жить. Отчаявшись в искусстве иноземных врачей, он раздавал щедрые милостыни монастырям, искал спасения в ведовстве знахарей и знахарок, которых по его приказу привозили в Москву с далекого севера… Он то готовился к благочестивой кончине, каясь и выпуская из темниц заключенных, то, прогнав духовных, лютовал и распутничал, словно старался смертями и зачатиями утвердить собственную жизнь. Говорили, что однажды, распалясь похотью, он набросился даже на свою невестку Ирину Федоровну, пришедшую к нему с утешениями.
В половине марта ему стало хуже. Царь едва мог ходить и его носили в кресле. Ежедневно он приказывал нести себя в сокровищницу, где в присутствии бояр и царевича Федора хвалился ученостью перед представителем английской торговой компании Джеромом Горсеем, раскрывая ему таинственное достоинство каждого драгоценного камня: «Вот прекрасные коралл и бирюза, возьмите их в руку. Их природный цвет остался ярок. А теперь положите их на мою ладонь. Я отравлен болезнью; вы видите, они изменили цвет из чистого в тусклый. Они предсказывают мою смерть». Указывал на изумруд: «Этот произошел от радуги, он враг нечистоты». Брал в руки рубин, любовался им на свет: «О! Этот наиболее пригоден для сердца, мозга, силы и памяти человека, он очищает сгущенную и испорченную кровь». Ласкал сапфир: «Я особенно люблю его, он сохраняет и усиливает мужество, веселит сердце, приятен всем чувствам, особенно полезен глазам, очищает взгляд, кроме того укрепляет мускулы и нервы. Все эти камни – чудесные дары Божьи, они – друзья красоты и добродетели и враги порока». Почувствовав дурноту, приказывал нести себя на воздух и там принимался уверять всех, что будет жить еще долго. Бояре, стараясь не смотреть на его волдыри и не морщиться от нестерпимой вони, поддакивали ему и на чем свет стоит честили иноземных докторов, невежд и обманщиков.
Возле умирающего царя сцепились Годунов и Бельский. По их наущению Иван Васильевич каждый день составлял и менял завещания. Бельский настраивал его вручить управление государством в руки австрийского эрцгерцога Эрнеста, которого царь некогда хотел сделать польским королем. Кравчий оказался ловчее: добился передачи престола Федору и назначения при нем опекунского совета, куда вошел он сам, Бельский, боярин Никита Романович Захарьин и князья Иван Федорович Мстиславский и Иван Петрович Шуйский. Дмитрию с матерью царь назначил в удел Углич; воспитание царевича вверил Бельскому.
Это последнее завещание было подписано 15 мая. До кончины царя оставалось всего двое суток. За это время Бельский, позабыв про австрийского эрцгерцога, подбил Нагих – отца, братьев и дядей царицы – совместно добиваться престола для Дмитрия. То, что полуторогодовалый царевич по канонам церкви считался незаконнорожденным, не смущало их – все-таки он был природный государь, плоть от плоти грозного царя. Неизвестно, одобряла ли Мария планы заговорщиков; скорее всего ее и не спрашивали о согласии. Не исключено, что Бельский имел более далекие виды на будущее. Возможно, что, используя имя Дмитрия, он надеялся снять Мономахов венец с головы Федора, чтобы потом возложить его на себя, женившись на Марии.
17 марта Иван Васильевич почувствовал себя лучше. Повеселел, возобновил занятия государственными делами. Около трех часов пошел в баню, с удовольствием мылся, тешился любимыми песнями. Освеженный, накинул на себя широкий халат и, усадив рядом с собой Бельского, велел подать шахматы. Принесли доску и два ларца с фигурами. Иван Васильевич опустил руку в свой ларец, вынул первую попавшуюся фигуру. Это был король. Царь хотел уверенным движением поставить его на положеннное место – и не смог. Клеток на доске вдруг стало слишком много, они плыли, мигали, меняли цвета… Невыносимая боль в груди и мгновенный приступ удушья погрузили все в темноту. Король с глухим стуком упал на доску.
Еще по дворцу сломя голову бегали слуги, посланные кто за водкой, кто за розовой водой, еще врачи растирали бездыханное тело царя своими снадобьями, еще митрополит Дионисий наскоро совершал над ним обряд пострижения, – а Бельский уже приказал верным ему стрельцам закрыть ворота Кремля и принялся убеждать опекунов передать скипетр и державу Дмитрию.
Тем временем ударили в колокол за исход души. Москвичи бросились в Кремль. Найдя ворота закрытыми, заволновались. Послышались крики, что Бельский извел великого государя и теперь хочет умертвить царевича Федора. Там и тут над головами людей уже колыхались бердыши, мушкеты, дреколье. Всем миром вытребовали из Кремля народного любимца Никиту Романовича и под охраной отвели его домой. Потом откуда-то появились пушки. Их поставили напротив Фроловских (Спасских) ворот и стали стрелять. Бельский пошел на мировую. Спустя некоторое время стрельцы со стен крикнули, чтобы прекратили огонь. Ворота открылись, Годунов, Мстиславский, Шуйский и дьяки Щелкаловы вышли к народу. Они заверили горожан, что царевич и бояре целы, а Бельский повинился в измене и будет сослан воеводой в Нижний Новгород. Волнение мало-помалу улеглось.
Той же ночью Марию с сыном, ее отца, братьев и дядей выслали в Углич. Для приличия дали прислугу, стольников, стряпчих, детей боярских и почетный конвой – двести стрельцов. Всадники, подводы, телеги, кареты тронулись в темноту. Щелкали кнуты, ржали лошади; факелы бросали багряный отсвет на рыхлый снег, разваливавшийся под полозьями. Передают, будто Федор подошел к карете, в которой сидела Мария с Дмитрием.
– Езжай, братец мой с Богом, – прошептал он, склонившись над младенцем. – Вот вырастешь, тогда поступлюсь тебе отцовским престолом, а сам в тихости пребуду…








