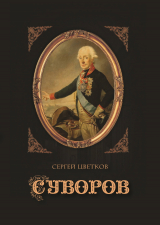
Текст книги "Суворов"
Автор книги: Сергей Цветков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

Сергей Цветков
Суворов

© Цветков С., текст, 2020
© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2020
Молодые годы
1729/1730–1756
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Д. В. Давыдов

Поздним вечером 18 января 1730 года Лефортов дворец по обыкновению светился огнями, но в нем было тихо, не радостно. Император Петр II, внук великого преобразователя, умирал от оспы на пятнадцатом году жизни. В больших гулких комнатах вполголоса переговаривались придворные, сенаторы, генералы, из залы в залу бесшумно скользили вышколенные лакеи.
Врачи и священники уже выполнили свой тягостный долг: первые – отняв надежду у окружающих, вторые – подарив ее умирающему. В ту же ночь Петр II скончался. С его смертью пресеклась мужская линия дома Романовых, царствовавшая 118 лет.
Сейчас же в соседней зале собрался Верховный тайный совет, взяв на себя почин в деле замещения престола. В него входили двое князей Долгоруких, канцлер Головкин, князь Дмитрий Голицын и граф Остерман. Нашли так же нужным пригласить еще двоих Долгоруких и брата Д. Голицына. Совещание проходило бурно, «с немалыми разгласиями». Престол остался без законных наследников и без ясного закона о престолонаследии. Заявление князя Алексея Долгорукова о праве его дочери на престол (княжна Екатерина была помолвлена с покойным императором) и чье-то предложение о царице-бабке были отклонены как «непристойные». Одного за другим отвергли и дочь Петра I Елизавету, и герцога голштинского, мать которого была старшей сестрой Елизаветы (их черед придет много позднее), и других членов царствующего дома. К каждой кандидатуре подходили с пристрастием, стремились не допустить усиления соперничавших домов. Недавно пришедшее известие о смерти в далеком Березове опального Меншикова лишний раз напомнило всем о судьбе свергнутых фаворитов. Конец спорам, грозящим свести совещание к боярской склоке, положил шестидесятилетний князь Д. Голицын – единственный из присутствующих преследовавший здесь собственно политические цели. Возвысив голос, он предложил остановиться на вдовствующей герцогине курляндской Анне, второй дочери царя Ивана, государыне, по словам Голицына, умной и сердечной, которой в Курляндии все довольны.
– Так, так! Нечего больше рассуждать, выбираем Анну, – зашумели верховники, смертельно уставшие от династических экскурсов. Зевая, они начали подниматься со своих мест, но следующая фраза Голицына заставила их снова опуститься в кресла.
– Воля ваша, кого изволите, только надобно и себе полегчить.
– Как это себе полегчить? – спросил Головкин.
– А так полегчить, чтоб воли себе прибавить, – ответил Голицын.
Боярские дрязги кончились, начиналась политика.
Голицын пояснил, что следует послать ее величеству пункты, которые обязали бы Анну, в благодарность за предложенный престол, в брак не вступать, преемника себе не назначать и править согласно с Верховным тайным советом «в восьми персонах». Предложение Голицына, возвращавшее Россию чуть ли не ко временам «семибоярщины», было сделано всего пять лет спустя после смерти Петра Великого!
Пункты были составлены и под строжайшим секретом посланы в Митаву вместе с письмом, извещавшим Анну об избрании ее императрицей. Анна на все условия легко согласилась и тотчас выехала в Москву, затребовав десять тысяч рублей на подъем.
В Москве тем временем зрел второй заговор. По труднообъяснимому в его положении и возрасте демократизму, почерпнутому, вероятно, частью из западноевропейских политических теорий, частью из полузабытых отечественных преданий о Земских соборах, Голицын желал, чтобы решение Верховного тайного совета непременно получило одобрение «всего отечества». Он полагал, видимо, что общество по своей природе больше склонно к республиканизму, чем к деспотии – заблуждение, не изжитое, впрочем, и в наши дни. Возможно, однако, и то, что Голицын слишком презирал это самое отечество, чтобы предполагать, что оно осмелится противиться воле могущественных верховников. Действительно, добиться согласия от Сената, Синода и генералитета было нетрудно. Но к несчастью для верховников, Москва в те дни оказалась наводнена провинциальным дворянством, съехавшимся в первопрестольную по случаю объявленной на 19 января свадьбы Петра II с Екатериной Долгорукой. В этой среде замысел Голицына был встречен глухим ропотом. Каким-то непостижимым инстинктом эти полуграмотные дворянчики учуяли, что верховники хотят «вместо одного толпу государей сочинить». По городу поползли недобрые слухи. Недовольство шляхты передалось и высшим военным и гражданским чинам, которые 2 февраля отказались до приезда государыни подписывать торжественно оглашенные верховниками пункты с собственноручной подписью императрицы: «По сему обещаю все без изъяна содержать. Анна». Общее настроение выразил одинокий сдавленный выкрик откуда-то из середины раззолоченной толпы:
– Не ведаю и весьма дивлюсь, отчего пришло на мысль государыне так писать?
«Отечество», к большому смущению Голицына, вопреки всем политическим теориям и преданиям явно склонялось к самодержавию.
Подъезжавшая к Москве Анна охотно присоединилась к заговору против самой себя. В подмосковном селе Всесвятском она озадачила верховников, самолично назначив себя подполковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов. Раздача ею из собственных рук водки гвардейцам вызвало всеобщий верноподданнический восторг. Офицеры кричали, что скорее согласятся быть рабами одного монарха, чем многих.
Верховники старались не падать духом, еще надеясь на подпись Анны под пунктами. Но когда 25 февраля в присутствии восьмисот сенаторов, генералов и дворян ей поднесли прошение о пересмотре проектов Верховного тайного совета в сторону приведения формы государственного правления с желанием народа, Анна на глазах у изумленных верховников покорно склонилась перед волей «всего отечества» и тут же подписала бумагу. Вслед за тем в зале поднялся невероятный шум, в котором громче других слышались возгласы гвардейских офицеров, что они не хотят, чтобы государыне предписывали законы: «Она должна быть самодержицею, как были первые государи!» На уговоры Анны прекратить беспорядок они повалились перед ней на колени:
– Прикажите, и мы принесем к вашим ногам головы ваших злодеев!
Заключительный акт заговора против честного слова императрицы разыгрался после обеденного стола, к которому были приглашены и верховники. Дворянство подало Анне вторичную просьбу принять самодержавство, на этот раз со 150 подписями.
– Как? – вскинула брови императрица, простодушно удивленная упорным нежеланием принять ее жертву на алтарь отечества. – Разве эти пункты были составлены не по желанию всего народа?
– Нет! – единогласно прозвучало в ответ.
– Так ты обманул меня, князь Василий Лукич, – с укоризной сказала Анна Долгорукому и у всех на глазах разорвала подписанные ею в Митаве пункты. Офицеры кинулись целовать ей руки, а верховники стояли, не смея шелохнуться, иначе бы, по замечанию одного присутствовавшего при этой сцене иностранного посла, гвардия побросала их в окна.
Согласие формы государственного правления с волей «отечества» было восстановлено.
Подпоручик Преображенского полка Василий Иванович Суворов в этом, столь бурном проявлении чувств не участвовал. Напротив, в том же году подал в отставку. Сделал это не столько в силу каких-либо политических убеждений (хотя, кажется, начавшегося онемечения не одобрял, – несмотря на то, что род свой возводил к выходцам из Швеции, обосновавшимся в России чуть более века назад, считал себя природным русаком)[1]1
«В 1622 году, при жизни Михаила Федоровича, выехали из Швеции Наум и Сувор и по их челобитной приняты в Российское подданство. Именуемые честные мужи разделились на разные поколения и по Сувору стали называться Суворовы…» (из прошения А. В. Суворова, поданного в 1786 году в Московское депутатское собрание о включение его с семьей в дворянскую родословную книгу Московской губернии). «Родословный сборник русских дворянских фамилий отодвигает дату приезда предков Суворовых в Россию еще на сто лет назад – к началу XVI века.
[Закрыть], сколько просто тяготясь по свойству характера воинской службой.
Василию Ивановичу было тогда двадцать пять лет. Его родителем был Иван Григорьевич Суворов, генеральный писарь Преображенского и Семеновского полков, а крестным отцом – сам Петр Великий, благоволивший генеральному писарю. После смерти Ивана Григорьевича царь принял на себя заботу о его семье. Недоросль Василий был определен для обучения инженерному делу и по достижении им шестнадцати лет «употреблен» в государственную службу – взят к царю денщиком и переводчиком потребных для государственных дел книг. Образование Василий Иванович, судя по всему, получил недурное – знал несколько языков и толстые волюмы[2]2
Volume (фр.) – том.
[Закрыть] по инженерному искусству перепахал с изрядным усердием: уже в девятнадцать лет по повелению Петра перевел на русский язык труд знаменитого Вобана[3]3
Вобан Себастьян Ле Претр де (1633–1707) – французский военный инженер, маршал Франции (1703). Изложил научные основы фортификации, построил и укрепил 300 крепостей.
[Закрыть] «Прямой способ укрепления городов». Царь переводом остался доволен. Вообще, в царском денщике отмечали к чтению книг «охоту и любопытство», а его собеседники выносили убеждение, что он «довольно сведущ во многом и отменно любил науки». Проявил Василий Иванович на службе, так же, примерное послушание, исполнительность, честность, – все то, что Петр требовал и так часто не находил в своих подчиненных. Правда, на досуге подумывал о более покойном месте, где-нибудь по хозяйственной части, но перечить воле царя, конечно, не смел.
После смерти Петра он был определен сержантом в Преображенский полк, через два года произведен в прапорщики, затем в подпоручики. Скука вахт-парадов, бессмысленное времяпровождение в кутежах (помимо морального неприятия праздности, Василий Иванович был еще и скуповат) и нарождающиеся янычарские повадки его сослуживцев оказались еще более докучливыми, чем прежняя деятельность, – иногда лихорадочная, часто бессонная, но всегда исполненная тем высоким смыслом ответственности и жертвенности, который Петр умел вкладывать в свои начинания в зрелую пору жизни. Василий Иванович никогда не принадлежал не только к деятельным проводникам, но даже и к сколько-нибудь самостоятельно мыслящим сторонникам петровских преобразований – он был просто безотказным инструментам в руках царя, подобно еще тысячам таких же безотказных инструментов, обеспечившим петровским замыслам прижизненный успех – на полях сражений, в учебных классах, в канцеляриях, – однако и он не мог смотреть равнодушно, без грусти (негодовать было не в его характере) на разгром, учиненный делу Петра его диадохами[4]4
Полководцы Александра Македонского, поделившие после смерти царя его империю.
[Закрыть]. Инженерные познания и административные способности Василия Ивановича остались без применения, и потому льготы, ослаблявшие обязательность военной службы, пришлись ко времени, позволив ему оставить полк. Знал, что удерживать не станут – вакансия в гвардии будет очень кстати чьей-нибудь курляндской родне.
Поселившись с семьей в своем московском доме на Большой Никитской (в то время Царицынской) улице, Василий Иванович всей душой отдался делу, к которому чувствовал подлинное пристрастие – хозяйственным заботам о фамильных поместьях. Имения были небольшие – 300 душ у самого Василия Ивановича, да у его жены, Евдокии Федосеевны, что-то около того, – но разбросанные по Московской, Орловской, Пензенской, Новгородской губерниям и потому требовавшие значительного внимания в присмотре. Василий Иванович сил не жалел: в два часа ночи был уже на ногах, за бумагами. Хозяйствовал умело, расчетливо, бережливо. Роскоши не любил, ходил в простой одежде, был прижимист, но приличия соблюдал и бедняком не прикидывался. Дела шли хорошо, вскоре Василий Иванович смог и прикупать имения. Начал с того, что дал гардемарину Скрябину 112 рублей под залог села Никольского, на год, и за неуплату в срок получил половину поместья, которую заложил уже за 1000 рублей и заплатил вовремя. Старался не для себя – для детей. Большим семейством Василий Иванович обременен не был, имел малолетнюю дочь Анну, и к осени жена должна была разрешиться вторым чадом. Василий Иванович желал, чтобы это был сын: было бы кому оставить дела. В домашние хлопоты, впрочем, особенно не вникал, вполне полагаясь на Евдокию Федосеевну.
О жене Василия Ивановича почти никаких сведений не сохранилось. Известно только то, что она была дочерью дьяка Поместного приказа Манукова, который во время празднования при петровском дворе знаменитой свадьбы князя-папы участвовал в потешной процессии в одежде польского пана и со скрипкой в руке. Позднее, став вице-президентом Вотчинной коллегии, Мануков занимался описью поместий Московской губернии и урочищ Ингерманландии. Это занятие, по-видимому, и позволило ему дать за дочерью солидное приданое в виде движимого и недвижимого имущества. Следы Евдокии Федосеевны полностью теряются в 1763 году, после рождения ею младшей дочери Марии.
13 ноября у Суворовых родился сын, названный при крещении Александром[5]5
Год рождения Александра Васильевича точно не установлен. На его гробнице в Александро-Невской лавре значился 1729 год. Существует ряд свидетельств и в пользу 1730 года, в том числе указание вдовы полководца и данные служебного формуляра А. В. Суворова, составленного в конце 1763 года. Больше всего путаницы внес в этот вопрос сам Александр Васильевич: в разное время жизни он указывал и 1729, и 1730, и даже 1727 годы! Большинство дореволюционных биографов считают более вероятным 1729 год, послереволюционные сошлись на 1730-м. Точно так же не известно и место рождения А. В. Суворова. Помимо наиболее вероятного – московского дома – указывали и на другие усадьбы Суворовых в Московской и проч. губерниях.
[Закрыть]. В святцах на этот день такого имени нет, и почему родители выбрали именно его – неизвестно.
Александру уделяли не слишком много внимания. Он не был ни любимцем, ни баловнем в семье. Несомненно, что он рано освободился из-под родительского влияния. Василий Иванович, всецело занятый обеспечением семьи, часто и подолгу отлучавшийся из дома, требовал от детей только примерного послушания, да и то, кажется, не слишком строго. Что же касается Евдокии Федосеевны, то ее роли в воспитании сына проследить и вовсе невозможно; во всяком случае, в объемистом эпистолярном наследии Александра Васильевича она не упомянута ни единым словом. Суворов, вообще, принадлежал к тем, может быть, несколько ущербным при кажущейся цельности натурам, в жизни которых женское влияние обнаружить так же невозможно, как увидеть след змеи на камне.
Трудно было предполагать в тщедушном, болезненном мальчике с голубыми глазами и жидким хохолком светлых волос независимость характера, граничащую с упрямством. Однако уже в 10–11 лет он приводил в отчаяние отца. Василий Иванович ни под каким видом не желал отдавать сына в военную службу, Александр же бредил войной.
Обнаружилось это однажды в ненастную осеннюю ночь. В детской хлопнула дверь. Мальчика хватились. Возле его еще не остывшей постели горела свеча и на подушке лежал том Плутарха, раскрытый на XVII главе жизнеописания Цезаря. Василий Иванович наклонился и прочитал отчеркнутое сыном место: «Любовь его к опасностям не вызывала удивления у тех, кто знал его честолюбие, но всех поражало, как он переносил лишения, которые, казалось превосходили его физические силы, ибо он был слабого телосложения, с белой и нежной кожей, страдал головными болями и падучей, первый припадок которой, как говорят, случился с ним в Кордубе. Однако он не использовал свою болезненность как предлог для изнеженной жизни, но, сделав средством исцеления военную службу, старался беспрестанными переходами, скудным питанием, постоянным пребыванием под открытым небом и лишениями победить свою слабость и укрепить свое тело». Василий Иванович бросился к дверям. На улице в кромешной тьме вперехлест лились холодные струи дождя. Крик Василия Ивановича потонул в шуме ливня и завываниях ветра.
Саша вернулся через полчаса, промокший, пронизанный ветром.
– Солдат должен привыкать ко всему, – твердил он в ответ на расспросы и угрозы наказания. Горячую ванну принимать ни за что не захотел, позволил только обсушить себя и растереть водкой.
Озорство продолжалось и дальше, – сначала во время отлучек Василия Ивановича, потом и в его присутствии. Саша лазил по деревьям, скакал на неоседланных лошадях, месил босыми ногами осеннюю грязь, купался в дождь и заморозки… Василий Иванович махнул на сына рукой, следил только, чтобы проказы не шли во вред наукам. Впрочем, опасение было излишним. Чтение книг Саша предпочитал всем остальным развлечениям. В компании сверстников он скучал; в отместку они наградили его обидной кличкой. Странная замкнутость при чрезвычайной живости темперамента выработала в нем привычку к уединению. Набегавшись, Саша уходил в свою комнату и проводил в ней весь день. Читал запоем, до рези в глазах. Отмечал на картах движения войск, вычерчивал планы сражений. Чужое величие было его величием, чужая слава – его славой. Это он, десятилетний Александр Суворов, громил левое крыло персов при Гавгамелах и обращал в бегство несметную армию Азии; это он, потеряв в ущельях Альп половину армии, врывался на равнину Италии во главе чернокожих наемников и уничтожал римские легионы у Канн; он давал «золотой мост» красавчикам Помпея, испугавшимся ударов меча в лицо; он крушил железные ребра ветеранов испанской пехоты при Рокруа; это на его израненном лице, с ресницами, сожженными порохом, светилась счастливая улыбка, когда после бессмысленно-героической обороны янычары выносили его из горящих Бендер[6]6
Перечисленные эпизоды относятся соответственно к жизни Александра Македонского, Ганнибала, Цезаря, Конде, Карла XII.
[Закрыть]… Через сорок лет все это произойдет вновь с другим мальчишкой – на далекой Корсике. Люди всегда читают книги только про самих себя.
Саша еще не знал, что слава является последним разочарованием великих людей: безвестность представлялась ему худшим из земных уделов. Он не смел вслух попросить у Бога необыкновенной судьбы и бессмертной славы, он хранил эти желания в глубине души, где они пока что только сладко щекотали самолюбие, не раня и не оставляя мучительных язв. Маленький Суворов доверял жизни, он не думал, что ему придется вырывать славу из ее цепких рук.
В 1740 или 1741 году Василия Ивановича посетил Абрам Петрович Ганнибал, артиллерийский генерал, его прежний сослуживец и давний приятель. Любимец Петра, знаменитый «арап», при Меншикове он был сослан служить в Сибирь, а вернувшись оттуда, почти безвыездно жил в деревне, благоговейно храня воспоминания петровских дней. Василий Иванович не преминул в разговоре пожаловаться на странное поведение сына. Ганнибал заинтересовался маленьким нелюдимом. Он прошел в комнату Саши и застал его лежащим на полу с большой картой. Заглядывая в книгу, мальчик отмечал на ней движения войск Монтекукколи[7]7
Монтекукколи Раймунд (1609–1680) – граф, имперский князь и герцог, австрийский фельдмаршал, военный теоретик. Одержал ряд побед над шведами и турками.
[Закрыть] против шведов в кампанию 1646 года. Ганнибал подошел к книжной полке, провел ладонью по корешкам книг: Плутарх, «Жизнь Александра Македонского» Квинта Курция, записки Цезаря, Корнелий Непот, исторические фолианты Роллена, Фоларда… На столе лежали листы с начерченными планами сражения при Рокруа и Полтавской битвы. Последнее особенно тронуло Ганнибала, он поцеловал мальчика в лоб.
– Если бы наш великий Петр Алексеевич увидал твои работы и занятия, то, по своему обычаю, поцеловал бы тебя в голову, как я теперь целую!
И, обратясь к отцу, добавил:
– На что ты жалуешься, Василий Иванович? Твой сын уже знает больше иных генералов. Он рожден быть великим полководцем!.. Прошу тебя, не медли и тотчас запиши его в полк.
У Саши перехватило дыхание. Он поцеловал руки Ганнибалу и насупившемуся отцу.
Закон о военной службе дворян позволял зачислять малолетних дворянских детей рядовыми в списки гвардейских полков. По достижении ими 12 лет недоросли – уже в чине капрала или сержанта – обязаны были явиться на смотр. Те из них, чьи родители владели более чем 100 душами, получали право на отпуск для продолжения образования дома, а те, кто были победнее, зачислялись в государственные школы. Всем им предписывалось «быть в науках» до 20 лет, после чего они становились офицерами. В одном только Преображенском полку числилось свыше тысячи подобных малолетних унтер-офицеров.
Получив от Ганнибала совет записать сына в полк, Василий Иванович, тем не менее, медлил с этим еще почти целый год. Упорное нежелание отдавать Сашу в военную службу коренилось, конечно, и в самом миролюбивом характере Василия Ивановича, и в опасениях за здоровье и нравственность сына в армейском кругу, но главным образом его останавливали те мрачные раздумья, которые не выходили из головы русского человека в продолжение всего царствования Анны Иоанновны. Впустую прожитые годы в России вообще, не редкость, однако позорные эпохи, позорные целиком, от начала до конца, знает только XVIII век. Десятилетнее царствование курляндской герцогини – одна из таких эпох. Анна вызывает отвращение и как правительница, и как женщина. Митавская дыра была далеко не лучшим местом для приобретения европейского лоска и расширения провинциального кругозора. С государственным и личным достоинством здесь были незнакомы. Все усилия направлялись на беспринципное лавирование между российскими, прусскими и польскими дворами. Раннее вдовство озлобило и ожесточило Анну, женщину и без того черствую и злобную. Рослая, тучная, с мужеподобным лицом, невежественная и ограниченная, она не могла рассчитывать ни на любовь, ни на преданность, и предавалась только запоздалым удовольствиям и грубым развлечениям, поражавших иноземных наблюдателей смесью мотовской роскоши и безвкусия. Двор Анны обходился в пять-шесть раз дороже, чем при Петре I, хотя государственные доходы падали. «При неслыханной роскоши двора, в казне нет ни гроша, а потому никому ничего не платят», – извещали послы свои правительства (впрочем, у тех, кому они писали, зачастую не было ни денег, ни роскоши). Сама императрица не стеснялась приличиями, зевая, расхаживала по дворцу в чепце и простеньком домашнем платье в сопровождении зевающих фрейлин, которых она звала своими девками; одиночество и скука терзали ее в Москве, посреди беспрерывных увеселений, точно так же, как и в митавской глуши. Императрица окружила себя толпой карлов и карлиц и находила удовольствие в ежедневных издевательствах над ними. Анна по своему опыту слишком хорошо знала, что такое унижение и потому никогда не упускала случая полюбоваться чужим падением.
Ее царствование заставляло вспомнить времена опричнины. Политический сыск достиг своего апогея. Тайная розыскная канцелярия, созданная вместо закрытого при Петре II Преображенского приказа, казнями, крепостями и ссылками изводила целые гнезда русских вельмож и дворян. Беспощадная расправа с Голицыными и Долгорукими показала, что всем подданным дарованы равные права перед эшафотом. Не забывали и о церкви: архиерейский сан не спасал от ссылки, одного священника даже посадили на кол. Ссылка зачастую была завуалированной казнью. Ссылали без записи, изменяя имя ссыльного, порой даже не сообщив об этом Тайной канцелярии. Всех ссыльных при Анне числилось до 20 тысяч человек; о 5 тысячах из них нельзя было сыскать никаких следов.
Важные места приберегались для «клеотур» двух соперничающих фаворитов: всемогущего, но невидимого Бирона и обер-шталмейстера графа Левенвольда, азартного игрока и взяточника. Русским не доверяли, их боялись. Сколько-нибудь значительная карьера, особенно военная, сделалась для них невозможной. Бирон открыто называл гвардию янычарами и подумывал о том, чтобы расформировать гвардейцев по армейским полкам, а вместо них набрать гвардию из простолюдинов. Кое-что в этом направлении было сделано. Военные должности раздавались безродным немцам, сыновьям подмастерьев и лавочников. В противовес двум гвардейским полкам – Преображенскому и Семеновскому – создали Измайловский гвардейский полк, состоявший преимущественно из немцев и малороссов. Последними наполовину разбавили и состав Священного синода.
Между тем крестьяне годами не обрабатывали поля, жители пограничных областей искали спасения в Польше и Австрии от военной службы, торговля хирела. Иностранцы отмечали, что многие провинции выглядят опустошенными войной или повальным мором. Гвардия посылалась в экзекуционные экспедиции, напоминавшие татарские нашествия. Устраивались настоящие облавы на провинившихся: неисправных областных правителей ковали в цепи, помещиков и старост в тюрьмах морили голодом до смерти, крестьян били на правеже и продавали их имущество. Записки современников доносят до нас настроение «общественного мнения» тех лет: «Бирон и Миних великую силу забрали, и все от них пропали, овладели всем у нас иноземцы; тирански собирая с бедных подданных слезные и кровавые подати, употребляют их на объедение и пьянство; русские крестьяне для них хуже собак, – пропащее наше государство! Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет; какое ныне житье за бабой?» Про «каналью курляндца», умевшего только разыскивать породистых собак (так отзывались о Бироне), ходили упорные слухи, что в его дворце в Курляндии пол вымощен рублевиками, поставленными на ребро.
Как обычно бывает в подобных случаях, правительство пыталось поправить дела за счет успехов во внешней политике. Вводили войска в Польшу, доходили до Рейна и, выручив Австрию из беды, уходили назад с сознанием выполненного долга перед отечеством. Миних, обремененный всеми мыслимыми военными должностями, пробился-таки в доселе непроницаемый Крым и занял Молдавию, уложив под турецкими крепостями до 100 тысяч русских солдат. Но плоды славных побед под Ставучанами и Хотином были отданы в руки французского посла в Константинополе Вильнева, который распорядился ими таким образом, что по условиям мира Россия не могла иметь на Черном море ни военных, ни даже торговых кораблей, укрепления перешедшего в русские руки Азова срывались, а султан отказался признать императорский титул Анны. Восхищенное дипломатическими успехами Вильнева, русское правительство отблагодарило его векселем на 15 тысяч талеров и Андреевской лентой, не забыв одарить и его содержанку.
Императрица Анна Иоанновна накануне своей смерти (17 октября 1740 года) назначила своим преемником Иоанна VI Антоновича, сына своей племянницы Анны Леопольдовны и ее мужа герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. Регентом при двухмесячном ребенке был сделан всемогущий Бирон. Императорская милость смутила умного временщика, побаивавшегося столь открытого надругательства над национальной честью. «Не бойся», – ободрила его умирающая императрица, привыкшая за десятилетие к русской безропотности. Польский посол выразил французскому послу опасение, как бы русские не сделали теперь с немцами того же, что они сделали с поляками при Лжедмитрии. «Не беспокойтесь, – возразил тот, – тогда у них не было гвардии».
Но Бирон в своих сомнениях оказался проницательнее: на этот раз первой зашумела именно гвардия. Офицеры громко плакались на то, что регентство дали Бирону, солдаты же бранили офицеров, зачем не начинают. Тайная канцелярия находилась в каком-то замешательстве и не пресекала толков. На Васильевском острове капитан Бровцын, собрав толпу солдат, горевал с ними о том, что регентом назначен Бирон, а не родители малолетнего императора. Кабинет-министр Бестужев-Рюмин, ставленник Бирона, увидев беспорядок, погнался с обнаженной шпагой за Бровцыным, который едва успел укрыться в доме Миниха.
Расстановка сил обозначилась, но честолюбивый фельдмаршал превосходно выдержал паузу. Пообедав и дружески просидев вечер 8 ноября 1740 года у регента, Миних ночью с дворцовыми караульными офицерами и солдатами Преображенского полка, командиром которого состоял, арестовал Бирона в постели. Все участники этой сцены были вне себя: кто от возбуждения и радости, кто от изумления и страха. Солдаты порядком поколотили «курляндца» и, засунув ему в рот носовой платок, завернули в одеяло и снесли в караульню, оттуда в накинутой поверх ночного белья солдатской шинели отвезли в Зимний дворец, а затем отправили с семейством в Шлиссельбург.
Анна Леопольдовна, мать императора, провозгласила себя регентшей. Началась полная неразбериха, продолжавшаяся около года. Супруг Анны, произведенный в генералиссимусы русских войск, никак не мог решить, много это или мало, склоняясь все-таки к тому, что мало. Сама Анна Леопольдовна целыми днями просиживала в своей комнате неодетая и непричесанная, не в силах придумать, с чего начать свое правление.
Немцы грызли горло друг другу, и Миних должен был уступить Остерману. Рядовые чины не стеснялись иметь политические убеждения. Регентство и немцы, связавшись в одно в народном сознании, сделались одинаково ненавистны. Толковали о цесаревне Елизавете Петровне: «А не обидно ли? Вот чего император Петр I в Российской империи заслужил: коронованного отца дочь государыня-цесаревна отставлена». Были и такие, которые открыто отказывались присягать новому императору: «Не хочу – я верую Елизавет Петровне».
Дочь Петра была настроена весьма решительно. Переворот был подготовлен лейб-медиком Лестоком при участии послов Франции и Швеции.
В ночь на 25 ноября 1741 года, горячо помолившись Богу и дав обет в случае удачи во все царствование не подписывать смертных приговоров, Елизавета надела кирасу и в сопровождении всего троих приближенных отправилась в казармы лейб-гвардии Преображенского полка. Там она сказала уже подготовленным гренадерам, число которых доходило до трёхсот:
– Ребята, вы знаете, чья я дочь. Клянусь умереть за вас. Клянетесь ли вы умереть за меня?
Гвардия ответила утвердительным ревом и, увлекаемая Елизаветой, устремилась к Зимнему дворцу, фасад которого выходил в сторону Адмиралтейства.
У каждого гвардейца было при себе по шесть боевых зарядов и по три гранаты. Однако ничего из этого боекомплекта, к счастью, им не понадобилось. Переворот совершился бескровно – настоящая дамская революция, по словам В. О. Ключевского.
Как вспоминал современник, князь Шаховской, «ночь была тогда темная и мороз великий». Солдаты спешили, а цесаревна путалась в длинных юбках и всех задерживала. «Матушка, так нескоро, надо торопиться!» – слышала она со всех сторон. Наконец, видя, что матушка не может ускорить шаг, гвардейцы подхватили ее на плечи и внесли во дворец, словно новую Палладу в сияющих доспехах…
Позднее, в день коронации Елизаветы, архиепископ Арсений, изумляясь свершенному императрицей в ту памятную ночь, помянул мужество ее, когда она была принуждена «забыть деликатного своего полу, пойти в малой компании на очевидное здравия своего опасение, не жалеть… за целость веры и Отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью против неприятеля».
Никакого сопротивления не было, дворцовая стража почти поголовно перешла на сторону красавицы-цесаревны. Елизавета вошла в спальню Анны Леопольдовны и разбудила ее словами:
– Пора вставать, сестрица!
– Как, это вы, сударыня? – спросила Анна и была арестована самой цесаревной. (Впрочем, некоторые источники утверждают, что Елизавета не присутствовала при аресте своей двоюродной племянницы.) Свергнутую регентшу отвезли во дворец Елизаветы. Герцога Ульриха, завернутого солдатами в одеяло, отправили вслед за его супругой.
Одновременно были взяты под стражу все влиятельные вельможи предыдущего царствования. «Все совершилось тихо и спокойно, – свидетельствует Миних, – и не было пролито ни одной капли крови; только профессор академии г. Гросс, служивший в канцелярии графа Остермана, застрелился из пистолета, когда его арестовали».
Некоторая заминка случилась при аресте годовалого императора. Солдатам был дан строгий приказ не поднимать шума, не применять насилия и взять ребенка только тогда, когда он проснется. Около часа они молча простояли у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не закричал от страха при виде свирепых физиономий гренадер. Кроме того, в суматохе сборов в спальне уронили на пол четырехмесячную сестру императора, принцессу Екатерину. Как выяснилось впоследствии, от этого удара она оглохла.



![Книга Контроль [Новое издание, дополненное и переработанное] автора Виктор Суворов](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)



