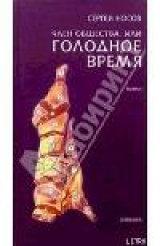
Текст книги "Член общества, или Голодное время"
Автор книги: Сергей Носов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Сергей Носов
Член общества, или Голодное время
РОМАН
Глава 1. Падение самовара
Кого ни спроси (тех, кто помнит еще) – помнят до мелочей
День Великого Катаклизма. Я-то помню день предыдущий. В этот день я сдал Достоевского.
В 30 томах, или 33 книгах, двухпудовое, полное – сочинений собрание – я тащил на себе в этот день на далекий Рижский проспект, по-тогдашнему проспект Огородникова… закоулками, огородами, проходными дворами, пролазами… просто тамошний “Букинист”, он работал по воскресеньям.
Почему я не взял такси? Потому что не было ни копейки.
Ничего, ничего, он бы понял меня,Федор Михайлович, и простил, а то бы еще и благословил даже на сдачу его сочинений (так я себя утешал), ибо знал он, что такое долги, кредиторы и неплатежеспособность.
Полагаю, при определенных обстоятельствах он бы сам отнес, не задумываясь, в “Букинист” на проспект Огородникова, окажись такой комплект у него пускай даже в единственном экземпляре,– свое полное собрание произведений – со всеми рукописными редакциями, вариантами, приложениями, примечаниями, списками несохранившихся и ненайденных писем, сводными указателями, включая фундаментальный (в числе позиций более двухсот) указатель опечаток, исправлений и дополнений.
Уже по этому перечню видно, что я ПСС открывал.
Не то слово. Я прочитал все 30 томов, или 33 книги, от корки до корки – от первых слов “От редакции: Настоящее
Полное собрание Ф.М.До…” -.К.Раухфуса” вместо
“К.А.Раухфуса”.
И все 30 томов, или 33 книги, я прочитал за три дня и три ночи! Это покажется невероятным. Поверить в это нельзя.
Лично я ни за что б не поверил, что такое возможно!.. Но я знаю: возможно!.. За три дня и три ночи! И это было со мной!
Весной 91-го я имел глупость посещать платные курсы сверхбыстрого чтения по методу Шелеховского-Картера. Тогда этот сомнительный метод широко разрекламировали в газетах как “ основной вспомогательный инструментарий метаинтеллектуального развития ”; никто не знал, что сие означает, но верили, что что-то хорошее. Вот я и пришел по газетному объявлению в ДК им. Крупской, заплатил девяносто рублей (тогда я работал и мог позволить), попал в группу студентов и домохозяек, наслушался умных речей, ощутил прелести глубинного погружения в “ метаинтеллектуальный сфероид расширяющихся потенциалов ” – в меру предрасположенности к этому делу. Нам говорили, что учат нас будто бы по рассекреченной методике ГРУ – ЦРУ; тогда все время что-нибудь якобы рассекречивали, а якобы рассекретив, тут же выгодно втюхивали восторженным потребителям через всевозможные платные курсы.
Трехсуточная атака на Достоевского была мне засчитана как дипломная работа. Другие атаковали Теккерея,
Серафимовича, многотомную “Жизнь растений ”, словари, энциклопедии, “Махабхарату ” – в общем, то, что оказывалось под рукой. В целом я выдержал испытание.
Получив свидетельство об окончании курсов и едва добравшись до дома, до койки, я, рухнув, понял, что еще чуть-чуть – и сошел бы с ума, я вырубился, уснул, стал поленом, веслом, дирижаблем, оглоблей, а когда пробудился и посмотрел с ужасом на книжные полки, решил, что с
Достоевским в одном доме мне делать нечего. (Забавно, что и жена моя – только уже по отношению ко мне, а не к
Достоевскому – тоже пришла к аналогичному умозаключению…)
Несколько дней я не мог смотреть на печатные знаки. А когда посмотрел, то не смог внятно воспринимать напечатанное. Я не понимал, о чем читаю. Я даже не понимал, читаю ли я, когда я читаю, или я не читаю? А читал я так: или стремительно, или совсем никак, вперив неподвижный взгляд в одну букву.
Я запил. Водка подействовала благотворно; я исцелялся.
Через месяц-другой я снова научился читать по-человечески: как все – сначала по слогам, потом бегло – правда, влечения к чтению напрочь лишился.
… А вот чему я был бы рад придать значение (но не решаюсь) – престранному разговору в троллейбусе, приключившемуся между мной и одним ниже обозначенным субъектом вскоре после того, как я получил за Достоевского денежку. Итак, по порядку.
Мой нетерпеливый кредитор проводил август в поселке
Солнечном. А до Солнечного, как известно, можно добраться с Финляндского вокзала. А от проспекта того Огородникова до Финляндского ходит, по счастью, троллейбус – “ восьмерка ”; вот я и поехал на нем.
Я сидел у окна и листал от нечего делать (здесь бы надо подробнее…) старинную с ятями книжку. Называлась она красиво: “ Я никого не ем ” и вся кишела овощными рецептами. Эта книжка досталась мне в наследство от одной давней подружки, которой была не нужна, – ну а мне и подавно. Я сегодня ее собирался по случаю сдать, приложив к Достоевскому, но Достоевского взяли охотно, а эту нет, ну и пусть. Их право.
Ладно. Троллейбус наш повернул на Загородный. На остановке возле пожарной каланчи вошел некто и сел рядом. Я книгу листаю; не прошло и минуты, как он подает голос: “Что-то интересное… Судя по всему что-то суворинское… Или нет?
Маркса?.. ”
“Энгельса! ” – обрезал я довольно-таки грубо. Но он не обиделся. “Понимаю. – Он дал мне понять, что ценит юмор.
– “Анти-Дюринг ” в переводе Ве ры Засулич ”. Не обиделся – и блеснул эрудицией.
Я посмотрел на субъекта: зрелых лет, худощав, гладко выбрит. Он неприятно – неприятно доброжелательно – улыбался. И еще: несмотря на жару, был он в костюме. И костюм был с иголочки.
Скрывать я не стал, пусть знает: “Я никого не ем ”.– “Вы?
” – “Нет, это название. – Я закрыл книгу и показал обложку. – Видите? “Я никого не ем ””.
“Зеленковой. Ольги Константиновны Зеленковой, – сказал мой сосед. – Как же не знать… 365 вегетарианских блюд…
Петербург, тринадцатый год, если память не изменяет… У вас третье издание? ” – “ Понятия не имею ”.– “А вы на титул взгляните ”.– “Третье, третье ”.– “Зеленков редактировал, Александр Петрович, супруг Ольги
Константиновны, известный врач в свое время…” – “Вот как? ” – поразился я необыкновенным познаниям. “Он, он ”, подтвердил незнакомец. “ А я и не знал ”. (И знать, честно говоря, не хотел.)
“У вас редчайшей сохранности экземпляр. Просто редчайшей
”.– Я заскромничал: “Корешок поврежден ”.– “ Пустое! – энергично возразил мой попутчик. – Это же поваренная книга, вы понимаете? Поваренная! Часто ли вы видели поваренные книги в издательских переплетах? ”
“Никогда не видел, – честно сознался я.– Только эту ”.
“И неудивительно! Такого рода литература до дыр зачитывалась. Елена Молоховец на аукционе дороже Ахматовой идет прижизненной, почти как Чехов с автографом! А все потому, что в издательском переплете. Это Елена-то
Молоховец! Она в каждом доме, у каждой хозяйки была, и где теперь ее переплеты? Нет, нет, берегите свою Зеленкову, такой экземпляр, я вам просто завидую. Разрешите? ”
Я хотел ему дать книгу в руки, чтобы полистал, если хочет, но он брать и листать не стал, а лишь прикоснулся к обложке двумя пальцами, тогда как “Я никого не ем ” по-прежнему держал я. Мне стало смешно. “Возьмите, не бойтесь ”.– “Да? Вы разрешаете? Знаете, там у вас, я видел, печать какая-то… на титуле… Разрешите взглянуть? ” – “ Сделайте милость. Это первого владельца, наверное ”. “Какая прелесть! Какая прелесть! – Он внимательно рассматривал печать на титуле. – Какая прелесть, однако! ”
Печать же (однако) была самая обыкновенная – овал, по краям надпись: “Кабинетъ для изученiя массажа и лечебной гимнастики ”,– а в середине:
“ П. Я. Струцъ ”.
“Уж не родственник ли ваш? ” – спросил я попутчика.
“Родственник, да не мой ”.– “А чей? ” – “Откуда ж мне знать? – проговорил незнакомец, возвращая книгу. – Вам лучше известно. Я думал, что ваш. Но не ваш. Вижу, не ваш.
В принципе все люди родственники. И вы, и я”.– “Но вы сказали “ какая прелесть ””.– “Просто я от печатей, от книг с печатями, сам не свой. Страсть такая во мне… книги с печатями. Я их, знаете ли, коллекционирую… Каких у меня только нет их… с печатями. Извольте ”.
“Долмат Фомич Луночаров
Общество друзей книги ”,
– прочитал я на визитной карточке.
Значит, не сумасшедший. Как будто. А то уж подумал. Все может быть.
“ Вам выражение “ маргинальная сфрагистика ” о чем-нибудь говорит? ” – спросил Долмат Фомич Луночаров. “Нет, ни о чем ”.– “Сфрагистика – это наука о печатях, позвольте напомнить, вообще о печатях. А маргинальная сфрагистика – то, чем я занимаюсь. Моя тема ”.
Я почтительно промолчал.
“Есть у меня Пушкин брокгаузский, великолепнейшее издание… А печать? Не догадаетесь: “Всесоюзный Совет рабочих точного машиностроения. Библиотека завкома имени
ОГПУ”. Как вам нравится?” – “ Редкий, должно быть, экземпляр ”,– сказал я уклончиво. “Еще бы. Ваш тоже редкий
”.– “Вообще-то это не моя книга ”.– “Я сразу понял ”.– “
Почему? ” – “Для приверженца безубойного питания у вас не тот цвет лица, извините. Вы сегодня жарили что-то на свином жире, бьюсь об заклад ”.– “Верно, картошку… ” -
“А вчера, не хочу вас обидеть, пили портвейн. Молдавский.
Где вы только достали его? Все спирт “Ройяль ” пьют ”.
“ Потрясающе! ” – вымолвил я, без дураков потрясенный, ибо действительно был угощаем вчера молдавским розовым.
“Очень был бы признателен вам, – продолжал Долмат Фомич, – если бы вы нашли возможным позволить мне переснять как-нибудь титульный лист этого замечательного экземпляра
– с печатью. Верну, верну обязательно!.. В моей коллекции нет ничего касаемо лечебной гимнастики. У меня больше по общественным дисциплинам, по сельскому хозяйству, по искусству… ”
Почему же не дать? Я дал ему книгу, пусть переснимет. Он бережно положил ее в кейс. Мой телефон записал и даже адрес, обещал позвонить. Спросил: “Когда лучше – утром? вечером? ” – “Утром. Вечером меня не бывает… – “ трезвым
” следовало бы добавить. – Только соседям не передавайте, у нас плохие отношения”. (Под “ соседями ” я подразумевал жену с ее не скажу кем.)
“Понимаю. А может, у вас по музыке есть что-нибудь? Я печать имею в виду… Нет? Хотя бы школы какой-нибудь музыкальной? ”
У меня ничего по музыке не было, ничего музыкального, даже слуха не было, не то что школы, – о чем я и доложил
Долмату Фомичу, сам не знаю зачем. Медведь, сказал, наступил на ухо. “Вот уж не поверю, музыкальный слух может развить каждый ”.– “А я не могу. У меня патологическое отсутствие слуха ”.
Я не обманывал. Я не чувствую ритма. Я не способен отхлопать на ладошах пять слов по слогам. Спеть что-нибудь
– Боже упаси! Не способен танцевать. Буду наступать на ноги. Да еще не в такт. Самое невероятное: мне снятся музыкальные сны, а иногда (и нередко!) звучат в голове мелодии – знакомые, полузнакомые и, главное, совсем незнакомые, я слышу их!.. Но чтобы воспроизвести, хотя бы самую простенькую… никогда в жизни!.. Даже “ Чижик-пыжик
” спеть не могу. Полное отсутствие слуха.
Я так и сказал. Вообще-то я человек скрытный, но не знаю сам, зачем-то я разоткровенничался.
“Выходит, внутри вас живет музыка? ” – спросил Долмат
Фомич, привстав (его остановка). “Живет, да не выходит! ”
– Я засмеялся. “Гений! Гений! – восхищенно воскликнул мой собеседник. – Ну мне пора ”.– И, пожав руку, выскочил из троллейбуса.
В Солнечном я был недолго. Встретился со своим нетерпеливым кредитором (о чем рассказывать неинтересно) и отдал ему почти все деньги, вырученные за Достоевского, – расплатился. На душе посветлело.
Того, что осталось, хватило еще на две бутылки “Стрелецкой
” – по самой что ни на есть коммерческой цене (не по талонам).
На Достоевского, на тридцатитомного, полного, академического, можно было бы жить больше месяца, если б не долг. А месяц был август. Краснели гроздья рябины.
Помню, смотрел я в окно электрички и думал, как продал легко его, сдал. Страна у нас при всем при том (при том, что я сдал Достоевского) оставалась по-прежнему литературоцентрической: ехали и читали – кто детективы, кто классику… кто роман, кто басню… А кто-то в окно смотрел, кто читать не желал или нечего было. Кончилось лето почти. Гроздья рябины. Я лета не видел.
Это по прошествии дней многим будет казаться, что в те часы накануне грандиозных событий все только и думали об одной политике. Вот и не так. Я лично, глядя в окно электрички, переводил полного Достоевского в килограммы говядины (а также хлеба и сахарного песка) – в денежном эквиваленте.
Самым дорогим был Достоевский в спичках (если в мировых ценах). А также в отечественных презервативах. А также в ворованных дрожжах, что продают пачками возле проходной комбината на Курляндской улице.
Но и без спичек, и без отечественных презервативов, и без ворованных дрожжей можно было бы жить на Достоевского месяца два-три, получалось.
Если б не долг. Я второй месяц нигде не работал. А жил я у парка Победы в сталинском доме с высокими потолками. Один
– не один.
С некоторых пор я полюбил не торопиться домой, если это можно называть домом.
В тот вечер вот что случилось.
Около девяти приходит ко мне с куриным паштетом институтский приятель Валера, и не один. “Познакомься,
Надей зовут ”. Ну, Надя и Надя.
Хлеб я купил, и мы выпили за Надежду. И за наше общее, что ли, здоровье. И потом, не чокаясь, ни за что – по простоте отношений.
Поначалу пить не очень хотелось. Однако “Стрелецкая” славно пошла.
За стеной загудело. Это включился пылесос не без помощи моей полубывшей жены. Он всегда включается, когда ко мне приходят гости. Жена полюбила чистить ковер. Ненавижу с детства этот ковер, эту мещанскую роскошь.
“Удивительный человек, – сказал Валера, показывая на меня ,– он женился на аферистке. Она с ним фактически развелась, живет с хахалем в его же квартире, оттяпали комнату, и теперь они, представляешь, вы-тра-вли-вают, вы-трав-ляют его отсюда, гонят на улицу! Олег, помяни мое слово, ты здесь жить не будешь! ”
“Преувеличиваешь, – сказал я,– сильно преувеличиваешь ”.
Я не против истины, но Валера действительно преувеличивал.
Хотя в его словах доля правды была. Не хочу развивать коммунальную тему, она мне противна. Если послушать Валеру, я какой-то болван, недотепа. Все гораздо сложнее.
“ Слушай, а ты знаешь, на что мы это… пьем сегодня? – вдруг встрепенулся Валера. – Олежка Достоевского продал! ”
“Бюст? ” – спросила Надежда. “Сочинений, – сказал я, собрание. Полное! ” “Бюст, наверное, дорого стоит ”,– о каком-то все грезила бюсте.
“Живет на Сенной, – Валера мне объяснил, – у тетки живет.
А ты был на Сенной? Барахолка… Три тыщи народу… ” -
“Если есть что продать, я продам, – сказала Надя, обнимая
Валеру. – Хоть бюст, хоть что ”.
“Книга не водка, – я тоже сказал, – она должна быть дорогой ”.
Чужая мысль, не моя. (И небесспорная.) От того, что я вспомнил ее, чужую, меня замутило. С некоторых пор организм не переносит цитаций. Я встал и пошел на кухню.
Шатало.
Я хотел попить холодной воды, но из крана почему-то текла только горячая, видно, кран у нас работал неверно. Горячую я пить не желал.
Элька вылезла из-под стола и зарычала. “Поди прочь, животное! ” – сказал я собаке.
“Не называй Эльвиру животным! ” – Это вышла моя жена, вернее, уже не жена из своей… моей, вернее… в общем, из другой комнаты.
“Сука ”,– сказал я собаке назло жене. “Алкоголик! – закричала Аглая. (Па-па-па-бам!.. К вопросу о музыке…)
– Ты нарочно дразнишь ее, чтобы она тебя укусила! ”
Я не был алкоголиком. Я стал выпивать лишь в последнее время. И потом не потому на меня рычала собака, что была мною дразнима, а потому, что… не знаю сам почему… потому что, знаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда некуда больше пойти?.. “ Пошла отсюда, пошла отсюда,
– повторял я собаке, – скотина плешивая!..”
“ Артем! Он хочет, чтобы его укусила Эльвира! ”
“Сука ”,– продолжал я свои оскорбления.
Ее вошел в турецком халате. “Артем! Посмотри на него!.. ”
– Ее по смотрел.
“Гашенька, моя дорогая,– заскрежетал ее зубами (своими зубами), – Гашенька, моя дорогая, ты только скажи мне, я его в порошок сотру!.. ”
“Скажи скорей ему, Аглая, за что тебя твой муж имел? ” – не удержался я передразнить Пушкиным. На сей раз цитата, точная или неточная, получилась все-таки к месту, и для меня – как глоток свежего воздуха (право, не ожидал).
Аглая взвизгнула. Собака тявкнула. Ее дал мне в глаз. Я дал в глаз ему. Мы сцепились. Затрещал халат турецкий. Попадали стулья.
Посуда полетела со столика.
В общем, картина нелицеприятная.
Стоял у нас большой медный самовар на буфете. Память о бабушке. В детстве я прятал в нем сигареты. Жена говорила, что я подарил ей самовар этот на день почему-то ее рождения. Неправда. Я не дарил. Но пусть.
Он-то и загремел мне на голову.
В глазах потемнело. “Уездили клячу ”,– послышалось мне
(или вслух произнес – кто теперь знает?). Я потерял сознание.
Моя фамилия Жильцов. Олег Жильцов.
Жильцов Олег Николаевич.
Странная фамилия – Жильцов; Нежильцов мне кажется более внятной.
Естественно, в школе я был Жильцом. И во дворе был я
Жильцом. Что лучше, конечно, как думаю я сейчас, чем быть
Кирпичом, например, каковым был мой враг Кирпиченко. Но кирпич, я думал тогда, – это твердость, увесистость, прямота, а что такое жилец? Я недолюбливал свою фамилию. Я недолюбливал свою фамилию за то, что она начиналась почему-то с малосимпатичной буквы Ж, за то, что в ней явно слышалась ЖИЛА, за мягкий знак, за желе, за глупое цоканье. Учителя, мне казалось, произнося “Жильцов ”, сглатывали слюну.
Иногда я протестовал. Ко мне обращались: “Жилец ”. “Я не жилец ”,– отвечал я сурово.
В шестом классе в гостях у Оли Кашицкой я впервые увидел словарь Даля. Полюбопытствовал. Не найдя слов неприличных, ни того, ни другого, ни третьего, открыл на “ жильце ”. Так вот кто такой жилец.
“Кто жив, кто живет или кому еще суждено жить ”.
Хорошо это или плохо? Пожалуй, с этим можно смириться.
Хуже: “Постоялец, нанимающий помещение ”. Еще хуже:
“Паренек для прислуги ”.
Неясно, как относиться к – “ уездному дворянину, жившему при государе временно ”. Вроде бы дворянин – вполне сносно, но почему “ при ” и каком еще государе?
Сотрясенный мой мозг алкал безмятежности. Сотрясенный мой мозг алкал, говорю, безмятежности, а тут такие события.
Вот и я теперь: кого не спроси (всех, кто помнит еще) – до мельчайших подробностей помнят День Великого Катаклизма.
Мне же нечего вспомнить.
В больнице им. 25-го Октября встретил я день 19 августа, и тем он запомнился мне, что сильно тошнило. 20-го тоже сильно тошнило, и 21-го тоже тошнило, но меньше, не так уже сильно. Потому что кололи магнезию. Мировые силы сходились в единоборстве, решались судьбы народов, а мне, равнодушному к их судьбам, кололи магнезию в задницу – такое ужасное несоответствие!
Прежде чем уколоть, сестра сообщала обязательно новость: дан такой-то приказ, ультиматум такой-то отвергнут, Борис
Николаевич почему-то с броневика обратился к народу.
Тошнило. С победой демократии перестало тошнить, и я снова почувствовал желание что-нибудь съесть; но, странное дело, когда я потом, по прошествии дней, месяцев, лет, видел на телеэкране лица героев, особенно то, одутловатое, с выражением отеческой заботы, сразу припоминался нервный, неровный сестрицын голос и начинало поташнивать.
В те дни я и не думал вникать в происходящее, я вообще старался не думать. Просто не думалось – вот и вся моя мысль.
Отголоски исторических потрясений, затухая в сотрясенном мозгу, ничего не доказывали, кроме – что тошнит не без причины. “Белый дом… – переговаривались сестры -… наш
Белый дом… ” “ Белый дом. Белый дом. Белый дом ”, позвякивали ложками нянечки и везли макароны желающим есть. Не наш ли? – глухо во мне отзывалось и глохло.
“Будет штурм, – тревожились, – Белого дома ”. А мне так представлялось: дом, в котором лежу (обязательно белый), вот-вот начнут штурмовать и будут брать поэтажно.
Теперь, когда почасовая хроника событий опубликована, я склонен считать, что самовар загремел мне на голову в исторический момент: мятежники собрались на последнюю сходку. Трубецкой сказал: “Да! ” Самовар навернулся. Я потерял сознание. Не сомневаюсь, Валера с Надеждой в этот миг, счастливые моим отсутствием, разрядились, как молнии, в любовной схватке, и я даже многих спрашивал потом: а что было с вами накануне известных событий – в такое-то время ? И ведь с каждым что-то случалось. А раз так, раз произошел, в самом деле, некий неведомый всплеск вселенской энергии или что-то вроде того, мирового порядка-масштаба, должен ли я, многогрешный, со своей стороны роптать на Аглаю? Ну упал самовар и упал. О другом вспоминать не хочу. Аглая, прости.
Ждали жертв. В ночь на 20-е, узнал я потом, когда вспоминали другие, а мне полегчало, – в ночь на 20-е ждали жертв. Кого-то действительно привезли, но не в нашу палату. Привезенный оказался белогорячечным.
Я поправлялся. Меня посещали. Пришел как-то Валера, принес бутылку кефира и печенье со знаковым именем “Привет
Октябрю ”. У него остались мои ключи. Жил Валера теперь в моей комнате – вместе с Надеждой. “ Не волнуйся, мы присмотрим за комнатой. Все будет в порядке ”.
Я и не волновался нисколько.
Оказывается, в ночь на 20-е Валера и Надежда были на баррикадах. Они защищали Мариинский дворец, оплот тогдашней законно избранной местной власти. К счастью, нападающих не было. Защита прошла успешно.
“Ты представить себе не можешь, – вдохновенно говорил мне
Валера, – как это было здорово! Как прекрасно! Какое единение людей! Самых разных! Самых-самых разных людей! Ты знаешь, я впервые ощутил себя счастливым. Такой был единый порыв! Общий восторг!.. Как жаль, что тебя не было с нами!
Если б не это, – он показал на мою голову (мне – на мою),
– ты бы был обязательно с нами ”.
“Извини, – сказал я как можно мягче, чтобы не обидеть
Валеру, – вас тоже не было со мной ”. “С тобой?
Сравниваешь… Все было так стремительно. Когда мы вбежали, ты лежал на полу ”. “Ну и ладно, Валера ”.– Я пожал ему запястье по-дружески. Он сидел рядом, я лежал, улыбался.
Страшно представить, что было бы, если бы на площадь перед
Мариинским дворцом выехали настоящие танки. А тут Валера с
Надеждой на баррикадах. Все гибнут, кроме Валеры. Надежда гибнет последней. А Валера контужен. И вот мы с ним лежим в больнице им. 25-го Октября. Соседние койки. Я, поправляясь, подаю ему пить. Он герой. Я – пришибленный самоваром.
Как-то раз я получил передачу – экзотический фрукт киви (в тот год он был нам еще в диковинку), а к нему прилагалась записка:
“Дорогой друг! Знаю, знаю, что Вы поправляетесь. Искренне желаю скорейшего и полного выздоровления. Не смею обременять Вас своим непосредственным присутствием, но прошу принять мое заверение в дружбе. У меня есть для Вас небольшой сюрприз. Когда выпишетесь, обо всем узнаете. Жму руку. Ваш Д. Ф. Л.”.
Кроме “ дефлорации ” и “ дефиле ”, никаких ассоциаций “ Д . Ф. Л.” не вызывало. Я был больше обескуражен, чем тронут. Я не знал – от кого. Целый вечер перебирал всевозможных знакомых, и только ночью, во сне, вдруг озарило: Долмат Фомич Луночаров, троллейбусный пассажир! Я мигом проснулся. Палата храпела. Луночаров мог найти меня через Аглаю, я же дал ему телефон. Я был потрясен вниманием Луночарова. И немного испуган. Сюрприз… Не люблю я сюрпризов.
Незадолго до выписки еще раз пришел Валера, принес опять же кефир и печенье принес, “Радость детства ” печенье.
“Понимаешь, они тебя изведут. Тебе не ужиться с Аглаей ”.
“ Понимаю, – сказал я,– а что же мне делать? ” “Главное, не делать глупостей ”,– дал Валера дельный совет. “Ну спасибо, Валера ”.– “А что? Тебе нужен покой. Плюнь на эту квартиру. Пока. А потом – видно будет… Давай сделаем так. Мы сейчас поживем у тебя, поприсмотрим с Надеждой за комнатой… Ничего, у нас получается, мы справляемся, ты не волнуйся… А ты… Ты пока что у Надькиной тетки поселишься, есть каморка свободная, в двух шагах от
Сенной… Комфорт не обещаю, но зато в центре города, вид из окна, сам понимаешь, и второе – отдохнешь, расслабишься, она бандитов боится, не хочет одна… По крайней мере не сумасшедший дом, это я тебе гарантирую.
Соглашайся. Ну? ”
“Гну ”,– сказал я Валере. Он был прав. Возвращаться мне не хотелось. Я хотел сменить обстановку. “Тетка-то, – спросил я,– наверное, сильно ненормальная?” – “Нормальная тетка.
С ней Надька жила. Соглашайся ”.
Я подумал: “Пожалуй ”… И ответил: “Давай ”.








