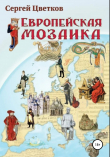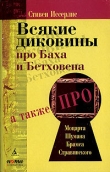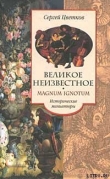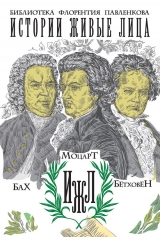
Текст книги "Бах. Моцарт. Бетховен"
Автор книги: Сергей Базунов
Жанры:
Музыка
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава IX. Смерть
Бах перед смертью. – Потеря зрения. – Последняя фуга. – Смерть. – Погребение. – Судьба вдовы Баха. – Ученики. – Памятник. – Лейпцигское общество «Bach-Gesellschaft»
К концу жизни, то есть в конце 40-х годов XVIII столетия, силы великого композитора ослабели очень заметно. Обыкновенно столь бодрый и деятельный, перед смертью он стал избегать всего, что сопряжено было с утомлением, всяких поездок, хотя бы недалеких, предпочитая всему спокойную домашнюю жизнь, насколько, разумеется, спокойная жизнь вообще была возможна в его положении всегерманской знаменитости. Более и более начинали давать себя чувствовать неизбежные старческие немощи, особенно же удручала его все усиливавшаяся слабость зрения. Как известно, глаза его очень пострадали от долгих и напряженных занятий еще в молодости, и затем в течение всей последующей жизни он страдал близорукостью. К началу же 1749 года, то есть года за полтора до смерти, его глазная болезнь резко усилилась. Осмотрев больного, врачи определили безнадежную в те времена катаракту, и композитору предложено было подвергнуться операции. Но операция глаз в середине прошлого столетия, при сравнительно мало развитой технике тогдашних окулистов, представлялась, разумеется, предприятием чрезвычайно рискованным, на которое с трудом мог бы согласиться человек даже очень решительный. Бах, естественно, колебался; к тому же не следует забывать, что в то время пациенту шел уже 65-й год от рождения, когда принимать подобные решения становилось особенно тяжело. Тем не менее бедному композитору почти не оставалось выбора, ибо болезнь быстро усиливалась, зрение ухудшалось, а впереди представлялась перспектива полной слепоты. Не без тяжелой внутренней борьбы Бах наконец решился испытать счастье и подвергнуться рекомендуемой операции. Она не удалась, была повторена, и несчастный музыкант ослеп совершенно.
Теперь приходилось призвать на помощь всю силу своего духа, весь запас нравственной энергии, чтобы как-нибудь примириться с новым ужасным положением, чтобы не впасть в отчаяние. И надо сказать, что престарелый композитор принял и переносил свое несчастие самым достойным образом. Он не проявлял никакого раздражения, столь понятного в подобном положении, не предавался бесполезным жалобам и старался заглушить свое горе, по-прежнему отдаваясь привычной творческой работе. Свет и мир красок перестали существовать для него, и тем полнее желал он углубиться в мир звуков, пока еще эта область оставалась в его распоряжении… Не в силах более писать, он продолжал сочинять, диктуя свои композиции.
Но не одно зрение изменило старому маэстро, постепенно ослабевал и расшатывался окончательно весь его организм. Протянув кое-как первые месяцы 1750 года, летом того же года бедный страдалец был уже очевидно у порога неизбежного конца. Но творческое вдохновение временами все еще посещало его угасающую душу. Так, перед самой смертью он сочинял одну весьма оригинальную композицию, довести которую до конца, однако, не успел. Выше мы говорили уже, что этот предсмертный опыт имел форму фуги, излюбленную Бахом и наиболее ему привычную. Оригинальность же ее заключалась между прочим в том, что основная тема пьесы слагалась из тонов (si-bemoll, la, do, si), немецкие название которых составляют фамилию самого композитора (b-a-c-h).
Наконец, как рассказывают, дней за десять до смерти больной музыкант неожиданно прозрел. Сначала он сам не решался поверить, что к нему вернулось зрение, окружающие же приняли это поразительное известие со страхом, видя в нем предзнаменование наступающего конца. И в самом деле, в тот же день 18 июля его поразил апоплексический удар, а 28 июля 1750 года певца «Страстей Господних» не стало. Германия потеряла величайшего из тогдашних своих музыкантов…
Торжественная похоронная служба 31 июля 1750 года ознаменовалась громадным стечением народа и привлекла к себе не только всех обитателей Лейпцига, имевших какое бы то ни было отношение к музыке, но и массу приезжих почитателей великого музыканта, желавших поклониться и отдать последний долг усопшему гению. Не все присутствовавшие, – а может быть, только лишь немногие, – понимали и оценивали весь объем и всю тяжесть утраты, понесенной культурным миром, однако все более или менее знали, кто и что был великий покойник, вызвавший такое небывалое стечение народа. Всякий обыватель Лейпцига, всякий подросток даже знал или хотя бы видел знаменитого старика-кантора, двадцать семь лет прослужившего в церкви Святого Фомы, и всякий мог рассказать о нем что-нибудь – каждый по мере своего понимания…
Внимание лейпцигских горожан к усопшему композитору выразилось и в том, что покойного похоронили вблизи церкви, той самой церкви, где он так долго служил на пользу и великое духовное утешение прихожан храма. На могиле его положен был надгробный камень для того, чтобы и позднейшее потомство знало и находило место последнего упокоения гениального автора музыки «Страстей Господних».
Однако читатель должен знать, что, несмотря на такую добрую и почтенную заботливость лейпцигских горожан, потомство все-таки не найдет могилы великого музыканта и место его последнего упокоения останется навсегда неизвестным, именно вот по каким причинам. В начале текущего столетия через то место, которое прежде состояло под кладбищем церкви Святого Фомы, понадобилось провести улицу, и по этому случаю всякие памятники и намогильные камни были убраны… Таким образом, случилось, что там, где покоились останки бедного Баха, теперь пролегает улица, впрочем, как говорят, весьма благоустроенная…
Когда церемония отдания последнего долга бренным останкам великого человека была окончена, наступило время подумать об обеспечении его семейства. Семья же усопшего композитора была, как известно, очень велика. Правда, мужчины и старшие ее члены могли сами заботиться о своем существовании, но еще оставалась престарелая вдова композитора, Анна Магдалена Бах, с тремя незамужними дочерьми на руках. Обеспечить ее, конечно, следовало, и зависело это доброе и необходимое дело от лейпцигского городского совета. Говорят, что бедная женщина сначала все ждала и надеялась… Потом, видя, что совет сам ничего не предпринимает, она подала ему смиренную просьбу, в которой объясняла, что не в состоянии, из-за своего преклонного возраста, зарабатывать средства на пропитание себя и своей семьи. Далее, принимая во внимание, что покойный супруг ее Иоганн Себастьян Бах беспорочно прослужил в должности кантора церкви Святого Фомы в Лейпциге двадцать семь лет, она ходатайствовала перед высокопочтенным советом о назначении ей пенсии в размере, какой угодно будет усмотреть, и проч. Говорят также, что, подав такое прошение, бедная женщина надеялась на скорое и благоприятное решение своей участи… И нам чрезвычайно грустно сообщить читателю, что на такую вопиющую просьбу лейпцигский городской совет имел жестокость ответить отказом. Этот отказ объясняют тем, что городской совет в то время будто бы еще не успел забыть старых счетов с непокорным ему в свое время кантором церкви Святого Фомы…
Затем целых три года вдова Себастьяна Баха бедствовала, перебиваясь скудными вспомоществованиями посторонних людей, пока наконец лейпцигский совет не решил назначить ей какое-то ничтожное пособие, которое, впрочем, облегчило ее судьбу очень ненадолго, и, по словам биографов великого композитора, в 1760 году его несчастная вдова умерла все-таки в бедности…
Нам остается досказать немного. Деятельность Баха оставила по себе яркий след не только в виде написанных им великих музыкальных образцов. Во все периоды своей жизни он посвящал много времени и труда еще преподавательской деятельности и постепенно создал целую школу учеников-последователей, сохранявших и распространявших в Германии музыкальные традиции своего гениального учителя. Из числа этих учеников многие в свою очередь успели потом прославиться как замечательные исполнители и более или менее известные композиторы. Некоторые биографы Баха приводят целые списки таких выдающихся и прославленных учеников его; мы же назовем здесь лишь два-три наиболее известных имени, каковыми являются, например, Доль, преемник Баха в должности кантора лейпцигской церкви Святого Фомы, затем веймарский органист Фоглер, берлинский капельмейстер Агрикола Эйнике, довольно известный композитор, и многие другие.
Но, говоря об учениках и последователях Баха, никак нельзя умолчать о некоторых из сыновей композитора, которые, бывши также его учениками, естественно, стали затем во главе его последователей, занимая между ними первые места и по силе унаследованного таланта. Уже в начале нашего очерка мы говорили, что все поколение Бахов являет собой замечательный пример наследственной талантливости, причем не только все предки нашего композитора были музыканты, но этот же талант передался и его потомству. Семья композитора была, как известно, очень велика, ибо от первого брака он имел семь человек детей, а от второго – тринадцать. Все эти дети, как сказано, унаследовали – хотя и в разной степени – музыкальные способности отца и знали музыку более или менее. По преимуществу же талант гениального отца перешел к его сыновьям Фридеману и Филиппу Эмануилу. Оба эти сына отличались вполне выдающимся музыкальным дарованием, особенно последний из них, Филипп Эмануил, впоследствии успевший составить себе очень солидную репутацию талантливого и оригинального композитора. Конечно, немаловажную роль в музыкальной карьере этих сыновей Баха играла отличная подготовка, полученная ими под руководством великого отца…
Мы уже говорили выше, что, несмотря на чрезвычайную популярность, какой пользовался автор музыки «Страстей» к концу своей жизни, его великие музыкальные идеи, его гениальные творения не были оценены по достоинству не только при жизни, но и долгое время после его смерти. Более полустолетия понадобилось музыкальному миру, чтобы прийти к той правильной оценке, какой эти творения заслуживали, и признание Баха в настоящем смысле этого слова должно быть отнесено, таким образом, лишь к началу текущего XIX века. Только в настоящем столетии прежнее печально-странное равнодушие к сочинениям великого композитора исчезло и заменилось всеобщим и страстным увлечением. Их стали изучать, разыскивать и распространять, не щадя никаких трудов; музыканты всех стран и национальностей начали восторгаться ими, проникаясь идеями Баха все более и более; о них принялись говорить и писать едва ли не на всех европейских языках. Таким образом, известность великого человека как бы вновь воскресла в нашем столетии, имя его прогремело заслуженной славой, и бессмертная музыка наконец получила подобающую оценку.
К началу 40-х годов текущего столетия среди германского общества созрела мысль о необходимости увековечить имя гениального музыканта подобающим памятником, и в 1843 году эта идея была приведена в исполнение: задуманный памятник был открыт в Лейпциге, то есть в том городе, службе которому великий композитор посвятил всего больше времени и сил. Замечательно, что в Германии еще и в это время существовало потомство Баха, и на торжестве открытия памятника присутствовал родной внук Себастьяна Баха – Вильгельм Фридрих Эрнст Бах, с сыном которого, Вильгельмом, умершим в 1876 году, замечательное поколение наконец прекратило свое существование. Нужно прибавить, что и внук, и правнук, о которых мы упоминаем, были также музыканты.
Но не один памятник явился наглядным следствием проснувшегося общественного внимания к богатому творческому наследству, которое оставил миру великий художник. Раз пробудившись, увлечение это продолжало жить в среде германских музыкальных кругов, и через несколько лет после открытия памятника в Лейпциге в том же городе образовалось особое музыкальное общество, основанное со специальной целью отыскивать, изучать, печатать и распространять произведения великого мастера. Эта ассоциация, открытая в 1850 году и соответственно своим целям усвоившая название «Баховского общества», или «Общества Баха» (Bach-Gesellschaft), проявила немало энергии и в настоящее время успела уже собрать и издать большую часть сочинений Баха, то есть все, что поныне дошло до нас из творений великого артиста. Деятельность общества продолжается…
Источники
1. «Iohann Sebastian Bach», von Philipp Spitta. Leipzig. Bd. l, 1873. Bd. 2, 1880.
2. F. Brendel, «Geshichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich». Leipzig. 1878.
3. Batka, «I. S. Bach» (Philipp Reclam’s Universal-Bibliothek. N3070).
4. «Руководство к изучению истории музыки». Аррей фон Доммер. Пер. с нем. А. Желябужского, под ред. З. Дурова. Москва. 1884.
5. «История развития камерной музыки и ее значение для музыканта». Л. Ноль. Пер. с нем. М. Иванова. Москва. 1882.
6. «Очерк всеобщей истории музыки» Л. Саккетти. Изд. 2-е В. Бесселя. СПб. и Москва. 1891.
7. «Обозрение всеобщей истории музыки». Соч. Шлюттера. Пер. с нем. Бесселя. СПб. 1866.
8. «Музыка и ее представители» А. Рубинштейна. СПб. 1891, и др.
Вольфганг Амадей Моцарт. Его жизнь и музыкальная деятельность
Биографический очерк М. А. Давыдовой

Глава I. Детство и первое путешествие
Происхождение. – Отец, его занятия и характер. – Мать, ее характер. – Набожность семьи. – Воспитание детей. – Характер маленького Моцарта. – Его сестра. – Первые проблески музыкальности. – Первое сочинение. – Игра на скрипке. – Необыкновенный слух Моцарта. – Его ученье. – Первое путешествие: Нассау и Вена. – Прием при дворе. – Скарлатина. – Париж: Гримм, Помпадур и прием в Версале. – Лондон: Манцуоли и Хр. Бах. – Болезнь отца. – Первая симфония. – Возвращение, первая оратория и дальнейшее образование
«Маленький волшебник», которым любовалась и восхищалась вся Европа, Вольфганг Амадей Моцарт родился 27 января 1756 года в бедной семье придворного органиста и капельмейстера города Зальцбурга, Леопольда Моцарта. Его отец, родом из Аугсбурга, происходил из семьи простых ремесленников-переплетчиков; в детстве своем он терпел большую нужду и тогда еще поставил себе целью добиться некоторого благосостояния.
В молодых годах он переселился в Зальцбург для изучения юриспруденции, но недостаток средств к жизни вынудил его поступить в услужение к графу Турну. Впоследствии, когда обстоятельства несколько изменились, он стал заниматься преподаванием музыки и вскоре настолько прославился как очень сведущий музыкант, отличный скрипач и органист, что получил место придворного органиста и капельмейстера. Леопольд Моцарт достиг своей цели: хотя жалованье полагалось крошечное и требовалось много труда, но отец Моцарта не боялся его и был обеспечен, – вот все, чего он желал. Богатство же его заключалось в светлом уме, твердой воле, горячей вере, чем он и воспользовался с необыкновенным умением, чтобы из своего маленького Вольфганга воспитать великого Моцарта.
Его жена, Анна-Мария Пертль, уроженка Зальцбурга, отличалась необыкновенной красотой, и в дни молодости муж и жена считались самой красивой и счастливой парой в Зальцбурге. Непреклонный, несколько суровый нрав Леопольда смягчался веселостью и добродушием его жены – двумя драгоценными душевными свойствами, которые маленький Моцарт всецело унаследовал от матери. Кроткая, преданная, она благоговела перед своим мужем, во всем ему подчинялась и всю свою душу вложила в любовь к нему и детям. И муж, и жена были католики, отличались большою набожностью, соблюдали все посты, часто ходили в церковь и детям своим передали свою горячую веру и любовь к Творцу. Религиозность их была лишена всяких предрассудков, ханжества и темного суеверия: все ложное, невежественное было противно светлому уму и честной душе Леопольда. Из семерых детей в живых остались только дочь Мария-Анна и сын Вольфганг, любимец и гордость матери. Насколько мать была склонна к баловству, настолько отец был строг и требователен. С раннего возраста занялся он воспитанием детей, приучая их к порядку и к неуклонному подчинению долгу. В то же время он исполнял роль няньки, укладывал Вольфганга спать, причем должен был непременно поставить его на стул и петь с ним песню, которую мальчик тут же сочинял на фантастические слова вроде: oragnia fiaga tafa. Затем Вольфганг целовал отца в кончик носа и обещал ему, что когда он вырастет большой, то посадит отца под стеклянный колпак, чтобы предохранить его от всего дурного, и будет постоянно держать его при себе в большом почете… Каждый вечер повторялась эта церемония, и только после нее мальчик спокойно засыпал. Так, под надзором горячо любящего и боготворимого отца, лелеемый ласками матери, рос будущий гений, и в его чистой художественной душе на всю жизнь отразился свет его счастливого детства.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ И КОМНАТА В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ, ГДЕ РОДИЛСЯ МОЦАРТ. ЭДУАРД ГУРК
До трех лет Вольфганг ничем не отличался от обыкновенных детей, это был живой и веселый ребенок, с чрезвычайно нежной и впечатлительной душой: он постоянно спрашивал, любят ли его, и начинал плакать, если даже в шутку получал отрицательный ответ; он плакал также, если его чересчур хвалили. Все свои игры он любил сопровождать музыкой, и пока в этом единственно выражалась его музыкальность.
Сестра его Наннерль, как называли ее в семье, обнаружила большие музыкальные способности, и, когда ей минуло семь лет, отец начал ее учить игре на клавесине. Первый урок, на котором присутствовал трехлетний Моцарт, произвел на него такое сильное впечатление, что совершенно его переродил. Невольно припоминаются слова нашего великого родного поэта:
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется, —
Как пробудившийся орел.
Для Моцарта этот урок был божественным глаголом, который говорил о его назначении и указывал ему его путь на земле. С этих пор Моцарт забыл все свои прежние игры и всецело погрузился своей детской, но гениальной душой в музыку. По целым часам стоял он у клавесина, отыскивая разные созвучия, и хлопал в ладоши от радости, когда находил терцию или квинту. Отец попробовал показать ему маленький менуэт, и так как Вольфганг безошибочно его повторил, то отец решился начать с ним занятия музыкой. С первого же урока у Леопольда Моцарта, опытного педагога, не осталось более сомнений, что в его крошечном сыне скрывается великий гений и что ему предстоит трудная задача развить его. Будучи человеком глубоко религиозным, он взглянул на необыкновенный талант ребенка как на ниспосланное ему свыше чудо и приступил к его воспитанию с любовью и благоговением как к святому делу.
Отец боялся слишком рано знакомить Вольфганга с правилами сочинения, но это не помешало маленькому композитору написать свой первый концерт, когда ему было всего 4 года. Однажды отец застал его за целой кипой нотной бумаги, на которую дождем сыпались кляксы. Эти кляксы мальчик спокойно вытирал рукой и поверх них писал ноты. На вопрос отца: «Что ты пишешь?» – он уверенно отвечал: «Концерт для клавесина; первая часть уже почти готова». К этому заявлению отец отнесся, конечно, с недоверием и смехом, но когда заглянул в бумагу и разобрался в этой массе клякс и нот, то слезы умиления и восторга выступили у него на глазах: перед ним лежал неисполнимый по трудности, но совершенно правильно написанный концерт! Дом Леопольда Моцарта посещался местными музыкантами, которые приносили ему свои сочинения и часто их вместе исполняли. Так, однажды один из них принес шесть своих новых трио. Сели их играть. Но не успели музыканты разместиться, как явился маленький Моцарт со своей собственной крошечной скрипкой, полученной им в подарок, и предложил свои услуги. Услуги эти были отвергнуты, так как Моцарт никогда не учился на скрипке. Оскорбленный музыкант залился горючими слезами. Чтобы утешить его, ему позволили сесть возле Шахтнера, его большого друга, и играть с ним вторую скрипку, «но так тихо, чтобы не было слышно».
Моцарт уселся. Шахтнер, как он сам рассказывает, заметив вскоре, что он лишний, перестал играть, а мальчик сыграл с листа все шесть трио. Тот же Шахтнер рассказывает, что у него была скрипка, которую Моцарт очень любил за ее мягкий, нежный тон. Шахтнер часто играл на ней у Моцартов. Однажды он пришел к ним и застал Вольфганга, занятого своей, только что полученной им скрипкой. «Как поживает ваша скрипка?»[7]7
Моцарт называл эту скрипку Buttergeige – масляная скрипка – за ее нежный тон.
[Закрыть] – спросил он, продолжая играть, и затем, прислушавшись, сказал: «А знаете, ваша скрипка на полчетверти тона ниже настроена, чем моя, если вы ее не перестроили с тех пор». Шахтнер посмеялся, но отец, зная необыкновенный слух своего сына, послал за скрипкой, и по проверке оказалось, что мальчик был прав.
Почти до десяти лет Моцарт чувствовал непреодолимое отвращение к звуку трубы. Даже самый вид ее вызывал в нем такой страх, как будто ему показывали дуло заряженного пистолета. Желая отучить сына от такого нервного страха, Леопольд Моцарт попросил своего друга, трубача Шахтнера, затрубить изо всей силы в присутствии мальчика. Но при первых же звуках ребенок смертельно побледнел, стал опускаться на пол и, наверно, лишился бы чувств, если бы Шахтнер не прекратил этого испытания. С этих пор отец не пытался больше приучать сына к звукам трубы, и со временем его отвращение к этому инструменту прошло само собой.
Ученье у маленького Моцарта шло очень успешно: всякому занятию, за которое он принимался, Моцарт предавался всей душой. Особенно нравилась ему математика; он испещрял мелом стены, скамьи, пол и мог решать в уме очень сложные математические задачи. Во время его музыкальных упражнений никто не смел подойти к нему с шуткой или даже просто заговорить с ним. Когда он сидел за фортепиано, лицо его делалось таким серьезным и сосредоточенным, что, глядя на этот преждевременно развившийся талант, многие опасались за его долговечность. В шесть лет он был настолько законченным артистом, что отец решился предпринять путешествие, чтобы показать и за границей искусство своих талантливых детей. Они отправились всей семьей, и сначала попытали счастье в Мюнхене, а затем, поощренные необыкновенным успехом, в 1762 году отправились в Вену. По дороге им пришлось остановиться в Нассау, где их пожелал слышать местный епископ, который за пять проведенных там дней, вместе с игрой, наградил их одним дукатом (3 руб.). Проезжая мимо одного монастыря, они зашли в него помолиться. Моцарт тем временем пробрался к органу и заиграл. Монахи, сидевшие с гостями за трапезой, услыхав чудные звуки, побросали еду и гостей и в немом восторге столпились вокруг маленького виртуоза. На границе гениальный ребенок так очаровал таможенных чиновников своей игрой и своей детской прелестью, что их пропустили без осмотра. В Вене их встретили как желанных знакомых гостей, так как слава о необыкновенных детях дошла туда раньше их. Можно сказать, что Вена положила начало их триумфальному шествию по Европе. Тотчас по приезде они получили приглашение ко двору в простой, а не приемный день, чтобы можно было лучше ознакомиться с детьми. Император Иосиф был большой любитель музыки и отнесся к ребенку с живым интересом. Он подверг всестороннему испытанию талант и искусство мальчика, заставлял играть одним пальцем трудные пассажи, велел закрыть клавиши салфеткой, но Моцарт и поверх салфетки сыграл так же безукоризненно, как без нее, так что в конце концов император прозвал его «маленьким колдуном». Но в этом маленьком колдуне скрывалось высокомерие великого артиста; он не любил играть перед людьми, не понимающими музыки; если же просьбами или обманом удавалось его уговорить, то он играл только пустые, незначительные вещи. И при дворе он остался верен себе: не соглашался играть ничего серьезного, пока наконец не позвали Вагензейля, одного из лучших композиторов и музыкантов того времени. «Теперь я сыграю вам концерт, – сказал он ему, – а вы мне перевертывайте страницы». С августейшими дамами Моцарт обошелся очень любезно: к императрице он забрался на колени и осыпал ее поцелуями; принцессе Марии Антуанетте, тогда его ровеснице, он обещал руку и сердце в благодарность за то, что она подняла его, когда он упал на гладком паркете. Двор отнесся к маленьким артистам чрезвычайно ласково; примеру его последовали все богатые, знатные жители Вены, и на Моцартов вместе с приглашениями посыпались деньги. Леопольд Моцарт остался доволен не только материальным и музыкальным успехом своих детей, но вообще приемом и почетом, с которым их везде встречали, а главное тем, что семейство его вращалось в таком изысканном, высоком обществе.
Скарлатина, которою заболели оба ребенка, положила конец чествованию маленьких артистов. По выздоровлении их все семейство Моцартов отправилось в дальнейший путь. Останавливаясь по дороге во всех более или менее значительных городах и возбуждая всюду восторг и удивление, они наконец прибыли в Париж в 1763 году, снабженные многочисленными рекомендательными письмами. Париж явился продолжением их триумфов в Вене. Здесь особенно теплое участие в них принял их соотечественник барон Гримм, уже давно переселившийся во Францию и бывший в то время секретарем герцога Орлеанского, вследствие чего он имел постоянный свободный доступ ко двору. Он сумел заинтересовать детьми королевскую семью, и их пригласили в Версаль.
Г-жа Помпадур тоже пожелала их видеть. Она с большим любопытством разглядывала маленького артиста и для этого даже поставила его на стол, но держала себя так чопорно, что уклонилась от его детского поцелуя. «Это кто такая, что не хочет меня поцеловать? ведь целовала же меня сама императрица!» – воскликнул в негодовании обиженный мальчик. В королевской семье он встретил больше теплоты; особенно ласково с ним обращались дочери короля. В Париже, как и в Вене, Моцарт выступал много раз публично как пианист, скрипач и органист, и своей игрой на всех трех инструментах возбуждал всеобщий восторг и изумление. Гримм пишет про него, что однажды ему пришлось аккомпанировать одной певице, не зная арии и не имея нот: вслушиваясь в мелодию, он угадывал последующие аккорды. Затем ария была повторена несколько раз, и каждый раз мальчик менял аккомпанемент. В то время Париж не отличался музыкальностью, даже не любил музыки, но парижане носились с чудесными детьми как с модной и любопытной новинкой, осыпая их подарками и хвалебными стихами. Из Парижа все семейство направилось в Лондон. Король английский Георг III и супруга его София Шарлотта, большие любители и знатоки музыки, оказали маленьким артистам такой прием, который превзошел всякие ожидания. Сам король так полюбил Моцарта, что, встречаясь с ним на улице, высовывался из экипажа и посылал своему любимцу воздушные поцелуи. Призывая семейство Моцартов часто во дворец, король заставлял мальчика показать себя со всех сторон: он должен был играть с листа, играть на органе, импровизировать, и получил прозвище «непобедимого Вольфганга». В Лондоне Моцарт познакомился с одним певцом итальянской оперы, Манцуоли, который, из симпатии к даровитому ребенку, научил его петь, и Моцарт своим тоненьким детским голоском распевал труднейшие арии с искусством, которому мог бы позавидовать иной певец. Его очень полюбил проживающий в Лондоне сын Себастьяна Баха – Христиан. Часто сажал он его к себе на колени и вперемежку с маленьким виртуозом исполнял всевозможные пьесы: он играл несколько тактов, затем Моцарт продолжал, и так искусно, что можно было подумать, что играет один и тот же человек.
В Лондоне Моцарты дали много блестящих по успеху и сбору концертов, но их музыкальные триумфы были прерваны опасной болезнью отца: ему предписан был отдых, и музыку на время пришлось отложить. Тогда маленький композитор, воспользовавшись свободой, стал писать свои первые симфонии для оркестра. По выздоровлении отца они пробыли еще некоторое время в Англии, затем посетили Голландию, где им менее посчастливилось: сначала Наннерль, а за нею Вольфганг опасно заболели, и родители не чаяли уже видеть их здоровыми. К счастью, дети оправились, но Моцарту долго пришлось лежать в постели. Однако неутомимый композитор не мог оставаться долго в бездействии; он потребовал, чтобы ему положили на колени доску, и больной, слабыми, дрожавшими ручонками продолжал писать свои симфонии. Давши несколько концертов в Голландии, Моцарты заехали еще раз в Париж, откуда вернулись в Зальцбург, пробыв в отсутствии около трех лет.
За это время Моцарт сделал громадные успехи и, как говорит его отец, в свои восемь лет знал больше, чем иной в сорок. Мальчик уже тосковал по родине, часто плакал в дороге, желая видеть своих покинутых друзей. Для развлечения он воображал себя царем фантастической страны; один знакомый нарисовал ему план его царства, Вольфганг дал название всем его частям и каждый день придумывал новые милости для своего народа, состоявшего исключительно из детей.
Моцарты вернулись на родину не только с европейской славой, но также с деньгами и с таким количеством подарков, что могли бы открыть лавочку. Все жители Зальцбурга считали долгом сделать им визит и взглянуть как на диковинку на своих прославившихся сограждан. Один знатный и надменный господин не знал, как ему обратиться к Вольфгангу: сказать ему «ты» было неудобно ввиду его славы, а «вы» казалось ему, важному господину, слишком почетным для мальчика. Поэтому он начал свою речь так: «“Мы” были во Франции и Англии, “мы” имели большой успех?» «Но, кажется мне, что вас-то я нигде не видел, кроме Зальцбурга», – перебил его мальчик. Слава Моцарта дошла до Зальцбургского архиепископа; чтобы проверить ее основательность, он велел запереть ребенка в своем замке на неделю, в продолжение которой мальчик должен был написать ораторию. Он исполнил эту задачу. В партитуре, богато украшенной кляксами и детскими каракулями, рукой отца написано по-латыни: «Оратория Вольфганга Моцарта, сочиненная в марте 1766 года, 10 лет». После того Вольфганг получил место скрипача при Зальцбургской капелле с жалованьем 12 флоринов 30 крейцеров в год.
Год, проведенный в Зальцбурге, был посвящен всестороннему систематическому музыкальному образованию Вольфганга. Он между прочим занимался скрипкой, хотя и не так усердно, как фортепиано, но по словам своего строгого критика – отца, – мог бы быть лучшим скрипачом своего времени, если бы захотел. Однако этот прославленный и серьезный музыкант очень часто прерывал свои занятия, чтобы поиграть с любимой кошкой или прогалопировать по комнатам верхом на отцовской палке.