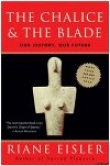Текст книги "Клинок Уреньги"
Автор книги: Серафима Власова
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Душевное зеркальце
Деды сказывали, будто в старые годы на Урале редко по фамилиям отличали, больше по прозвищам называли. Один раз какой-то попик решил сосчитать, скольким жителям он грехи отпускал. В уме решал, считал и со счету сбился. Тогда принялся он записывать для интереса. Дескать: Сухих Мозолей – это от Кадочниковых – тридцать грехов и столько же исповедей; от Живой Боли – это от Потопаевых – двадцать грехов; от Безносиковых—сорок грехов. Затем шли Кобели, Бочата, Ежата...
Одним словом, писал, писал попик, да и ума вовсе лишился. Пришли раз люди ко всеношной в церкву, а попик без малого нагишом за алтарем сидит. Видать, жарко ему стало. Сидит это он на полу и шепчет чего-то. Бабы, конечно, от такой непристойности поповской из церкви вон, а мужики, почуяв неладное, прикрыли батюшку да церковь на замок закрыли. Вот до чего могли эти самые прозвища человека довести.
Не обошлось без прозвищ и у нас в Огнёво. Были свои Гусаки и Поцелуихи. Диво людей брало, глядя на старуху Зыряниху. Чисто сморчок была старуха, а прозвище – Поцелуиха. В насмешку, поди, и дали ей такое прозвище – кому охота была целовать такое чудище.
Жил у нас в селе и свой Орелко. В редком заводе или селе не было парня по прозвищу такому. Звали нашего Орелко Спиридоном, а попросту Спирька. Родится же такая красота, такое чудо. Лицом – нежный да белый. Сам стройненький, черноглазый, а губы, как у малого дитя. Брови – черный бархат, взгляд спокойный, без лукавства. Смирный и стыдливый был парень. Недаром молодайки, которых часто силком за стариков замуж выдавали, сохли по Спирьке, сухотой исходили по нему. А ему хоть бы что! Ничего не примечал.
Видать, не пришло для него время, когда для человека вдруг осень раннею весною обернется и все кругом зацветет. Да и жил Спирька бедно. И так бедно, что с малых лет по батракам скитался. Известно, сирота. Мать его нужда съела, за ней убрался и отец. С тоски как-то напился и замерз на ее могиле. Так и не дождался, когда подрастет сын и хозяйку в дом приведет.
Не успел у Спирьки первый пушок над верхней губой показаться, как начали огневские свахи парню про женитьбу жужжать. Только сразу у них осечка получилась. Враз всех отвадил.
– Не время мне жениться. Куда я жену приведу? На мою нищету глядеть, да горе сиротское мыкать.
Хуже было Спирьке отвязаться от огневских парней, хоть и не связывался он с ними, стороной их обходил. За невест боялись парни. Мол, отобьет Спирька любую своей красотой. Потому не раз пытались его с глаз своих убрать. А один раз впятером с кольями ходили.
Лесник Егорыч, любивший Спирьку, словно родного сына, как-то объезжая лес, увидал такое, о чем потом говорил жене:
– Ну, Брусника (так он жену звал за то, что у нес всегда румянец на щеках играл), гляжу я это из-за подлеска, а они – те парни с Ветродуйки – впятером на Спирьку идут, значит. Вот варначье какое! Богатимых родителев, а гляди, как варнаки! Варначье и есть!
– Опять свое завел – варнаки, варнаки. А чё дале-то было?
– Гляжу я, а у всех парней в руках по колу. Будто на медведя в обход пошли. Я что есть духу крикнул на них, а пока соскочил с коня да к Спирьке подбежал, он ухватился за старый пень да как рванет его прямо с корнями. И давай-ка этим пнем понужать парней. Гляжу: Спирька машет пнем, как оглоблей. Известно, пень весь трухлявый. Как ударил Спирька им одного из парней по голове, тот так и присел. Начисто ему глаза запорошило. Принялся варнак по земле кататься, кружиться, как лягушонок. А Спирька уж другого успел огреть. Отступились ведь душегубы...
Вот с той поры и пошла гулять слава, с легкой руки Егорыча, про Спирькину силу и удаль. Оттого и стали звать Спирьку Орелком.
Донеслась эта молва до одной вдовы солдатской. Самой разнесчастной бабой она в селе была. Муж и сын с русско-японской войны не воротились. По весне погорела, коровенки лишилась. Один последыш у нее остался – материнская радость.
– Горе мое горькое, Орелко! – плакала баба, придя к Спирьке. – Хочу я тебя просить помочь в моем горе неизбывном. Долдоны-то купеческие с Ветродуйки спаивают Петьшу, чтобы он заместо Гришки Груздева в солдаты пошел. Споят ведь они Петра, окаянные, и уговорят в наемники пойти. Беспременно уговорят! – упала она ему в ноги. – Отговори его, Спиря, отговори! Христом богом прошу!
Ничего не говоря, пошел Спирька в кабак. Как раз угадал. Старик Груздев совал пьяному, совсем одуревшему от вина Петру бумагу, чтобы крестик поставил – в наемники нанялся. Разуважил Спирька Груздева, так загремел на него, что тот аж присел с перепугу, и, опомнившись, волком кинулся на Спирьку. Но тот спокойно отвел старикову руку, взял ту бумагу и порвал ее, а Петра унес из кабака...
Вся деревня с той поры еще с большим почтением стала поглядывать на Спирьку за то, что согрел он материнское сердце. Хотя между мужиками не раз разговоры про него ходили, что чудной он какой-то: все думает о чем-то, с девками не хороводится, в драках не замешан. Чудак и только...
И никто не знал, что мучило Спирьку, о чем он в долгие зимние ночи думал. Пытался парень сам своим умом дойти – не получалось. Отчего такая жизнь кругом: одни – богачи, другие – беднота? Зачем это так?
Была у него заветная думка – грамоте научиться, но только и научился сам собой по складам вывески читать.
А в это время в село приехала новая учительница, о ней и пойдет дальше сказ.
Стояла поздняя осенняя пора. Тоскливо пел ветер в степи. Дороги, размытые дождями, сизой лентой пересекали мертвые поля. Низкие тучи задевали за вершины одиноких сосен. Телега кряхтела, как старый дед, слезающий с печки, и лошаденка, выбиваясь из сил, старалась вырвать колеса из грязи.
На телеге сидела девушка, кутаясь в старенький тулупишко, и жадно глядела на необмолоченные скирды хлебов, стога сена и одинокие колоски у дороги. То ехала учительница Машенька Чусовитина в Огнево.
Вот уж телега проскрипела по всей улице села, откуда Машенька уехала в город учиться. Как дочь священника, она училась в епархиальном училище в Екатеринбурге. И теперь возвращалась домой.
Казалось, еще больше вросли в землю и покосились избенки местной бедноты. И церковь на горе будто ниже стала. И опять, как и много лет назад, призывал людей ко всеношной звон колоколов да нищие, старики и старухи, стояли на паперти под дождем... И почерневшая школа с проломленной во многих местах крышей поглядывала на свет маленькими оконцами.
С любопытством присматривались огневские богачи с Ветродуйки к учительнице. Она же не стала скрывать своих симпатий к Сорочьему концу, где жила беднота.
В старое время в деревнях рано темнело, особенно зимой. Не успеют сумерки погаснуть, избы словно прятались в снегу. Только редко-редко кое-где мигнет одинокий огонек, да и то ненадолго...
Но стали огневцы примечать, что подолгу не гас огонек в школе, а по тропинке к ней в снегу каждый день по вечерам шли девки и бабки с корзинками в руках. Кто послушать чтение, а кто спешил на спевку. Бывало сядут в классе и слушают, как читает им Мария Елисеевна то сказки Пушкина, то стихи Некрасова, а то «Хижину дяди Тома». И проливали они слезы и ждали хорошего конца в книге, хотя сами, не теряя времени, занимались своим домашним делом: вышивали, пряли, шили. А когда кончала Мария Елисеевна читать, говорили о том, что у каждой на сердце осталось. По воскресеньям же, после обедни, приходили в школу мужики с парнями и также усаживались за парты...
Так в Огнево родилась воскресная школа, об открытии которой мечтала Мария Елисеевна еще в Екатеринбурге. А как пришлось доказывать местным властям, что школа нужна селу!
Одним из первых записался в школу Спирька. Долго он вытирал ноги у крылечка и, как в светлый праздник входили люди в церковь, так входил парень в класс.
Все ему ново было. При виде парт сердце сжималось от радости. Никогда не забудет, как маленьким просился у отца в школу его отправить. И горько плакал, когда отец резко и решительно сказал: «Прожили мы с матерью без грамоты, проживешь и ты. Робить надо. Хлеба школа не дает».
И много лет спустя, уже на каторге в Сибири, вспоминал Спирька этот первый день в школе и первую встречу с Марией Елисеевной.
Не забыл он и о тех далеких днях, когда Чусовитина повела их, безграмотных, в мир больших дум и познаний. Говорят: «Дроворуб не оглядывается назад и по срубленной березе не плачет». Научила Мария Елисеевна таких, как Спирька, не оглядываться назад, когда открывала перед ними путь борьбы с самодержавием...
Помнил он. Как-то взяв почитать у Марии Елисеевны книгу, он нашел в ней листовки. С жадностью читал. Ведь на тех тоненьких бумажках пламенели желанные для него слова о воле, земле и хлебе...
Сразу догадался Спирька, что это запретные слова... Читал еще и еще раз ту тоненькую бумажку. Слова ему голову кружили. Потом узнал и от других парней, что они тоже читали такие листовки, но как верные люди Марии Елисеевны не смели другим говорить.
Долго думал Спирька, как дальше поступить. Может, случаем или нарочно эта дорогая для него бумажка в книжке оказалась. И все же решился открыться Марии Елисеевне.
И, видать, сумел он ей радость от этого показать, а главное еще и рассказать о своих думах о крестьянской беспросветной жизни, что давно хранил в сердце...
Вот потому, наверное, в один из летних дней, в разгар самого сенокоса, послала за ним Мария Елисеевна.
Он бросил все и пошел, думая по дороге: что-то важное случилось, раз она послала за ним...
А на другой день ушел Спирька Орелко на первое свое боевое задание. Путь его лежал в Касли, где он должен был установить связь с нужным человеком и получить прокламации.
Так Спирька стал связным. Не уставал он ходить пешком то в Кыштым, то в Екатеринбург, где было доброе гнездо большевиков. Часто брел в непогоду по горам со срочным донесением. Везде появлялись у него друзья, которые ждали его прихода с нужными вестями от Марии Елисеевны.
Узнав про частые отлучки Спирьки, Егорыч раз предупредил парня:
– Что-то в лес повадился ты? С варнаками, что ли, спознался? Смотри, Спиря, доходишься по ночам. Они, проклятущие, до добра не доведут, окромя как до тюремного замка.
Но Спирька только отмалчивался, не шибко разговорчивым и раньше был, а как стал связным – и вовсе молчаливым стал. Но, когда заходила речь про крестьянское житье, о голоде людском, парня будто прорывало. Говорил тогда он от сердца, зло и резко. Кому хлеб принадлежит, кто измывается над ихним братом-батраком...
С опаской слушал Егорыч смелые слова друга и тут же старался перевести разговор на другое – выведать у Спирьки про сердечные дела, давая разные наветки на учительницу Марию Елисеевну, которую он знал еще с малолеток и по-своему тоже любил, как и ее отца – попа. К бедноте того тянуло. Но парень только сердился.
– Ты, Егорыч, про учительницу не говори, – прервал его Спирька. – Все это бабски разговоры. Не тем она людей к себе манит, что завлекает, как другие девки, а есть у нее вроде душевное зеркальце в руках. В нем она всю людскую жизнь видит. Видит и что будет впереди. Вот так-то, Егорыч!
«Ну, втрескался вовсе парень, – думал Егорыч про себя. – Вот до чего может довести эта самая распроклятая любовь. Разную дурь парень молотит. Ох, уж эта мне любовь! Да рази она парня до добра доведет? Шутка ли сказать – в учительшу влюбился... Нет, брат, налиму на белке не жениться».
Не мог понять Егорыч Спирьку, и на том их разговор оборвался.
Все осталось по-старому. Орелко работал на кулаков, Егорыч караулил лес. Только все чаще и чаще стал отлучаться Спирька на заводы да еще молчаливей становился. И не знал парень, как и Егорыч, что беда стояла уж за спиной.
Расскажу, как дело было.
Короткая летняя ночь легла на землю. В синей дымке тонули горы. Туманы курились над речушкой. Сквозь чащобу пробирался человек, одетый по-городски. По всем приметам было видно, что он следит за кем-то. Шел по лесу, но держался тракта, по которому в такую пору мало кого встретишь. Выглядывая из чащобы время от времени на дорогу, он старался не потерять из виду путника, спешившего в Екатеринбург...
Путник же с котомкой за плечами спокойно шагал по дороге. И трудно было узнать в том пожилом человеке с бородой и длинными усами статного красавца – Спирьку.
Не слыхал он, как тот, который следил за ним от самой Абрамовской своротки, свистнул, и, как из-под земли, показалась на дороге пара вороных. Кучер осадил коней, и человек прыгнул в коляску.
– Гони, что есть духу! – крикнул седок. И кони понеслись.
Враз они обогнали путника и исчезли за поворотом. Не понравилось такое Спирьке. Сколько ни ходил по тракту, ночью в этой глухомани, никого не видал, но делать было нечего, и он продолжал шагать по дороге, только ускорил шаг.
Часа через два, пройдя уже Сысерть, Спирька вошел в деревеньку Кашино. Там отдых, и опять тракт до Екатеринбурга. Вот и знакомая улица, маленький, вросший в землю домишко. Стук в калитку и... удар в грудь.
«Засада!» – мелькнуло в сознании у Спирьки последнее слово, какое он потом вспомнил, очнувшись уже в кандалах. И первым делом мысль обожгла: «Не выдал... Спасена Мария Елисеевна».
И снова его били, и снова пытали:
– Кто послал?!
Но Спирька душевного зеркальца не выдавал.
...На Урале живет легенда. Когда под конец гражданской войны в Огнево вошел передовой отряд Красной Армии, жители с любопытством глядели на немолодого, но еще сильного и статного комиссара, едущего впереди на белом коне. Радовались люди, колыхались красные знамена, звенели песни. А комиссар, соскочив с коня, подошел к братской могиле, снял шлем и склонил седую голову. Только один старый престарый дед, каким стал когда-то бойкий Егорыч, хоть и плохо видел, но, присмотревшись, скорее сердцем, чем глазами, узнал в комиссаре своего друга Спиридона.
– Да, – сказал Егорыч, подходя, – здесь лежит и наша Мария Елисеевна... Ночью это случилось, в августе. Беляки ворвались в село. Хватали коммунистов. Забрали и учительницу... Она у, нас комиссаром по образованию была. Сколько сирот спасла! Скольким семьям помогла... одеждой, провиантом. Сколько еще хотела сделать добра людям. Да... страшно умирала бедняжка.
Видно было, что Егорычу тяжко вспоминать это, но понимал: его Спирька должен знать все.
– Из постели ее выволокли на улицу. Привязали к задку телеги... между колесами и с пьяным гиканьем погнали коней по селу. А потом едва живую расстреляли...
Долго-долго стоял комиссар у могилы, и только один Егорыч слыхал, как он еле слышно, почти одними губами, проговорил:
– Так и не уберегли тебя, Мария Елисеевна. Но твое душевное зеркальце навсегда останется с нами!
Плакун-трава
Теплая июньская ночь легла на Урал. Спали лес и горы. Только не спал в эту ночь Карабаш. По поселку рудника рыскали белоказаки в поисках тех, кто записался в Красную гвардию для защиты Советской власти. Искали всех, кто сочувствовал большевикам. Бандиты врывались в дома подозреваемых, хватали их. Искали оружие и патроны.
Плакали матери, ребятишки, жены, напуганные щелканьем затворов винтовок.
Тревога пришла в поселок еще накануне, когда Смирновский рудник окружили белоказаки и в кабинет управляющего явились белогвардейцы – полковник и есаул.
Начался допрос рабочих.
– Большевик? Красногвардеец? Добровольно вступил в Красную гвардию?..
После допроса подозреваемых отправили в каталажку. Покидая кабинет, есаул на вопрос управляющего с усмешкой сказал:
– Завтра из них мы котлеты сделаем.
В волостном управлении весь нижний этаж был забит арестованными. Кругом ограды стоял большой отряд вооруженных белоказаков. Но как ни скрывали белобандиты своего черного дела, народ прослышал про аресты.
В ту же ночь пошла на задание и Марина Логутенко. Мать двух сыновей-красногвардейцев и совсем маленькой дочки, жена погибшего красного командира-большевика Логутенко. Коммунистка Карабаша давно была связана с большевиками Урала. И не знала она, что это было для нее последнее задание партии.
Марина должна была твердо проследить, куда погонят арестованных, и срочно донести об этом в Уфалей, отступившим туда красногвардейцам.
С восходом солнца девяносто пять арестованных вывели на улицу. Окружил их большой конный отряд белоказаков. Ни горькие слезы, ни просьбы родных проводить хотя бы до околицы поселка не умилостивили беляков. Есаул на все вопросы, куда поведут арестованных, отвечал одно: «В Миасс или в Челябинск. На допрос. Там разберутся». И отгонял людей нагайкой.
Легкая пыль вскоре подернула уходящий с рассветом отряд. Дорога вилась по берегу Соймоновской долины, но от речки Сак-Элги круто поворачивала на юг. На каменистых увалах зеленели молодые березы и красовались высокие сосны.. За ними вздымались отроги Ильменского хребта, покрытые зеленым пологом лесов.
Прячась за кустами, шла Марина с одной мыслью – не выдать себя. В то же время – не, потерять из виду товарищей. Спотыкаясь о кочки и камни, она скоро вышла к мутному ручью и редколесью. Осмотрелась, остановилась. Поправила свои черные косы, уложенные короной на голове, сняла с плеч платок и закрыла им корзину, будто бы полную ягод.
И вдруг раздались где-то совсем близко крики, брань белоказаков.
«Значит, я недалеко от них», – подумала Марина про себя и, выждав немного, отошла в глубь леса. Притаилась в чащобе и стала ждать. Когда же, удаляясь, затихла брань, смолкли крики, она опять пошла вперед, ища тропу, чтобы не сбиться с пути. Теперь Марина старалась сама услыхать хоть один звук, чтобы не потерять из виду товарищей. Но кругом было тихо-тихо. Неожиданно опять блеснула кромка воды. Снова речка.
Только бы добраться до своротка и вызнать, куда поведут товарищей – в Миасс или Челябинск, и сразу обратно в лес, в условленное место, чтобы сообщить нарочному из Уфалея.
Думая об этом, Марина вошла в воду. Вот уже прошла она середину реки, высоко держа над головой корзину, – мелко... И вздрогнула, чуть не выронила корзину из рук, услыхав за спиной:
– А ну-ка, красавица, вылазь из воды.
Вот это совсем не ожидала Марина.
Пожилой есаул с опухшим лицом, сидя на рыжем коне, повернул к берегу лошаденку и остановился у самой воды, ожидая, когда Марина выйдет на берег. Это был объездчик-есаул, охраняющий дорогу на Миасс.
– Куда идешь и откуль?
– Ходила по ягоды, не видишь, что ли! – И Марина подняла корзину чуть ли не к самому носу есаула.
– Так, значит, ягодница! – пробормотал есаул и, проткнув шашкой корзину, кинул Марине: – Шагай уперед меня и не вздумай сигануть в лес. Стрелять буду.
Догадка обожгла ей память, когда она разглядела есаула. Ведь это он, собака, которому она плюнула недавно в лицо.
Было это во время обыска у нее по доносу. Казак ругался, требовал какие-то секретные бумаги, а получив отказ, ударил ее наотмашь по щеке и плюнул, обозвав самыми последними словами. Марина не стерпела и ответила тем же: плюнула ему в глаза, крикнув:
– Бандит! Хорошо тебе плевать сверху, а вот попробуй плюнь снизу.
Пока Марина вспоминала свою первую встречу с есаулом, на сивом коне нежданно вынырнул из леса еще один казак – из конвойного отряда. Вдвоем они погнали Марину вперед.
– Мы тебя, красотка, мигом доставим к начальству, – сказал пожилой есаул, подозрительно вглядываясь в ее лицо и наступая на нее конем.
В это время конвой с арестованными сделал привал в деревне Андреевке. Остановились у колодца. Марину казаки подогнали к избе, на крыльце которой за, столом сидел казачий полковник. На столе стояли бутылки самогона. На залавках развалились местные кулаки.
Марина поглядела на всех, будто ни в чем не виновата. Тряхнула гордо головой и отвернулась с обидой: дескать, за что задержали.
Пожилой полковник с длинным лицом и белобрысыми усами, раскрасневшись от самогона, не сразу сообразил, зачем к нему привели еще эту бабу.
– Она, ваше благородие, первая большевистская шлюха в Карабаше. Это я точно знаю, – прошипел лавочник, наклоняясь к полковнику.
Но его прервал есаул.
– Большевистская сволочь она – это точно. Ее сыновья тоже большевики.
«Узнал проклятый гад», – промелькнуло в сознании Марины, но она продолжала стоять с обиженным видом.
– Поймал эту гидру я, пряталась она в каких-то целях там. И никакая она не ягодница, – захлебываясь, рявкнул есаул. – Знаем мы этих ягодниц.
– Где твои сыновья? —спросил Марину полковник.
– А зачем тебе об этом знать? Какое тебе дело до моих сыновей? – гордо проговорила Марина и отвернулась от него.
– Арестовать! – взвизгнул полковник и вышел из избы.
Марина поглядела на спину полковника, на красную рожу есаула. В уме стучало одно – от них будет трудно увернуться. Как быть? Как сбежать? Но ее казак уже втолкнул в толпу арестованных.
Солнце высоко поднялось над лесом. Становилось жарко. Дышалось тяжело. Смертельно хотелось пить. Но конвой, окружая арестованных, погнал людей дальше.
Марина оказалась в самой середине. Старалась вспомнить дорогу на Миасс. «Верст много впереди, – думала она. – Надо спасти людей, но как?»
Взглянула на стоящий кругом дремучий лес, одно дерево к другому. Вот так тесно и дружно должны стоять красногвардейцы. Вспомнила, как в шестнадцатом году в ее квартире проходила беседа с рабочими. Приезжал товарищ из Екатеринбурга и задушевно объяснял всем, что надо делать, чтобы свалить царизм. Вспомнила погибшего мужа и как осталась одна с ребятишками. Соседи в глаза и за глаза плели, что гулящая она. И все за то, что привечала в своем доме мужиков по вечерам. А знали бы эти соседи, что именно за них – за народ – боролась она вместе с этими мужиками...
Заливистый лай собак прервал ее мысли. Марина вздрогнула. Подходили к Тургояку.
– Смотри в оба! Разговоров не допускать. Кто нарушит – бить нещадно, как собак. Понял? – дал команду полковник, и есаул, будто радуясь, в ответ рявкнул:
– Слушаюсь! – И, лихо вытянувшись на стременах, вскинув грязную руку к выцветшему козырьку форменной фуражки, еще раз прогремел: – Слушаюсь!
Арестованные угрюмо молчали и глядели то на конных конвоиров, то на подошедших мужиков и баб из Тургояка. Моряк Тетерин, повернувшись к Саше Щербакову – одному из самых молодых ребят, взятых заложниками за отцов и братьев, зашептал:
– Ты не отчаивайся, Лександр. Скоро Миасс, отсюда верст двенадцать будет. Надо держаться, а там видно будет, чё дальше делать.
– Как же, Василий Михайлович, получилось? – спросил Щербаков. – Кто же предал? Кто выдал всех?
В это время Исмагилов нетерпеливо шептал Ичеву, Брялину и Гужавину:
– Моя душа горит. Шибко горит. За что людей взяли? За что бьют по мордам? Бежать надо, всем бежать уразом, как вчера – многие бежали в лес, – говорил он, вытирая запекшуюся кровь со щеки: – Совсем бежать надо в гора...
– Бежать надо было вчера ночью до ареста – это верно. А теперь дойдем до Миасса или до Челябинска – там увидим. Может, наши подоспеют и отобьют, помогут отбиться, – проговорил Логутенков и добавил: – Вишь, за нами следят.
За ними действительно следили, косясь, конвоиры. Мордастый белоказак, недалеко стоявший, подъехал вплотную к Исмагилову и крикнул:
– Закрой хайло, а то всыплю еще.
В это время к ногам Марины упал большой кусок хлеба, брошенный какой-то сердобольной женщиной.
Казак повернул коня к толпе. Увидев убегающую молодайку, кинулся за ней и, поравнявшись, ударил нагайкой. Женщина взвыла от боли и, схватившись за живот, присела на землю. Толпа качнулась. Молодайка кричала. Кто-то ее подхватил и повел во двор. У нее под сердцем билась новая жизнь...
А толпа тургоякцев надвигалась к арестованным, словно хотели люди как-то помочь рабочим. И кто знает – может, доброе сердце молодайки, кинувшей Марине хлеб, или материнская скорбь в глазах провожавших женщин подсказало Марине пихнуть незаметно стоявшего рядом с ней паренька в толпу... Но есаул, крутившийся тут же на коне, шашкой вернул паренька обратно.
Исмагилов же не унимался и все говорил о побеге, но Марина прервала его.
Слова Исмагилова и Брялина многие услыхали, а казаки зорко следили за всеми и готовы были в любую минуту наброситься.
В это время какая-то старуха принялась кричать белоказакам:
– Побойтесь бога, ироды! Велите арестантам передать молока, квасу, хлеба.
Ее поддержали другие, а девяностолетний дед Харитон, две войны отвоевавший с турками, стоя впереди толпы и постукивая палкой о землю, проговорил:
– Казаки! Дайте воды людям испить. Что же это такое? Скотину и ту поят, а тут живые люди.
Вдруг из-за угла послышался конский топот, и новый отряд белоказаков, гремя саблями, ружьями, кинжалами с бранью врезался, оттесняя крестьян, в ряды арестованных.
Есаул, перекрывая своим свистящим голосом гул толпы, закричал, обращаясь к рабочим:
– Вот, красная сволочь, наше мнение: первое – большевики, выходи вперед!
Враз смолкла толпа и арестованные. Тишину нарушало только стрекотание кузнечиков в траве да тонкий звон и жужжание шмелей в палисадниках.
Первым вышел Алеша Брялин, за ним Марина, и так один за другим выходили горняки Карабаша и становились в ряд с коммунистами. Все девяносто шесть человек.
При виде такого есаул озверел, прекрасно понимая, какая сила стоит перед ним. От злобы у него налились кровью глаза, и он в бешенстве хлестнул нагайкой стоявшего возле его коня какого-то мальчишку, закричал:
– Второе наше мнение: кто из вас сейчас встанет на колени и будет просить пощады, того ждет помилование и хлеб.
Многие из арестованных побледнели, у других же, наоборот, кровь от негодования прилила к лицу, – но ни один не стал на колени.
Тишину расколол голос Марины:
– Силком будете ставить и все равно не станем. Перед вами, живодерами, рабочий на коленях не стоял. И не бывать такому!
– Э! Вот как! Гады, сволочи! – заорал в бешенстве есаул и, хлестнув Марину по лицу нагайкой, махнул рукой, дав понять конвою, куда вести арестованных. У Марины из рассеченной щеки струйкой побежала кровь.
Конвойные защелкали по коням и людям нагайками. Колонна двинулась, вытянувшись цепочкой.
Поднимая пыль, все дальше и дальше уходили арестованные от Тургояка. Голодные, но непокоренные горняки шли, унося прощальные взгляды жителей, многие из которых с гневом говорили, что это уж не первая партия арестованных прошла через их село неизвестно куда.
Но вот кончилось село. Широкая дорога повернула налево, а узкая почти медвежья тропа повела в сосновый бор.
Здесь должна была Марина увидеть, куда поведут товарищей, и она поняла, что их ведут не в Миасс и не в Челябинск, а в бор, к старым шахтам, заброшенным много-много лет назад. Раздался один голос, другой, и скоро вся толпа гудела так, что крики доносились до Тургояка.
– Куда вы нас ведете? – неслось над лесом.
Движение застопорилось. Белоказаки словно ждали этого. Кинулись на кричащих, и в воздухе засвистели со страшной силой нагайки. Избитые в кровь, передние вступили на тропу, ведущую в бор – к могильным шахтам.
– Расстреляю, сукины сыновья! – кричал есаул, направляя коня в самую середину арестованных.
У Ичина перебитая рука повисла, как плеть. У Марины весь платок и платье покрылись кровью.
С каждым шагом лес становился все гуще и гуще. На гладких стволах сосен кора стала темней, на вершинах их зеленели тяжелые шапки, заслоняя солнце. Стало прохладней. Между сосен кое-где мелькали кривые березы. Правей тропы лес уходил в горы, а левая сторона скатывалась к Миассу, петлявшему совсем рядом.
Марина споткнулась и чуть не упала. Посмотрела под ноги и увидела мраморную жилу, пересекающую тропу.
«Сколько в земле богатства, а люди умирают с голоду, так и не поев ни разу в жизни досыта», – превозмогая боль, подумала она про себя.
Откуда-то из передних рядов донеслись слова пароля, известного еще со времени восстания Косолапова в Каслях. Пароль, призывавший к нападению и единству.
Арестованные явно поняли, что их ведут на гибель к шахтам. Оставался один путь: хоть без оружия, но бороться...
В тот день по дороге от озера Кысы-Куль с сенокоса ехал житель Тургояка Лузин. Патрульный белоказак остановил его на дороге и потребовал, чтобы Лузин скорей поворачивал назад и не оглядывался. Мужик сразу почуял что-то недоброе и, не помня себя, стеганул лошаденку и круто поворотил назад. В воздухе стоял страшный рев, и от страха у него затряслась голова. И хоть любопытно было поглядеть, что делается за спиной, мужик крепился и понужал коня, что было сил. Только на своротке скосил глаза и тут увидел такое, что волосы поднялись у него на голове. Казаки со всех сторон напали на рабочих и начали рубить их шашками, топтать конями...
Два казака гнались за Исмагиловым, но он убегал все дальше и дальше. Вот он уже скрылся за высокой травой, но три выстрела грянули разом. Исмагилов упал мертвым на самом берегу реки.
Другие арестованные тоже пытались сопротивляться, хватали конвойных и стаскивали их с коней. Казаки рубили тянувшиеся к ним руки, как траву. Зверствам не было конца.
На пятой версте от Тургояка, в стороне от дороги, стоял заброшенный барак. В первую мировую войну здесь шли разработки хромистого железа. Хозяину не понравился чем-то рудник, и его закрыли. Рабочие разбрелись кто куда. Лишь сторож Димитрий Лашенов оставался в бараке. Чтобы не умереть с голоду, он плел корзины. Менял их на хлеб и картошку в селе.
И вот, вернувшись из Тургояка в тот день, он вдруг услыхал крики. Выглянув в окошко, ужаснулся. Белоказаки завязывали уцелевшим рабочим глаза, тащили к шахтам и сталкивали в шурфы. Потом на живых бросали изуродованные трупы, обрубки ног, рук, окровавленные головы.
Красногвардейцы, проклиная палачей, смело принимали смерть. Некоторые, обнявшись, прыгали в бездну сами, не дожидаясь, когда им снесут голову. Последней погибла Марина Логутенко. Кинув проклятье палачам, она бросилась в шурф... И было самому старшему из погибших двадцать шесть лет.
А когда от белобандитов и пыли на уральских горах не осталось – первая клеть опустилась в шахту. Но не руду она подняла, а останки девяноста шести.
Громовыми раскатами залпов из винтовок, заглушая плач и стоны родственников, возвещали люди о каждом погибшем, поднятом из подземелья. Это было началом бессмертия тех, кто отдал свою жизнь за Советскую власть.
Бережно были перенесены останки героев в Карабаш и при стечении тысяч людей похоронены на площади Павших бойцов.
Давно отшумели грозовые годы. На месте гибели героев поставлен обелиск. Шумит по-прежнему бор да добрые ветры поют свои песни.
Дорога, по которой когда-то вели рабочих, стала другой. Голубой лентой вьется она ныне, и машины бегут по ней на запад и восток. Но куда бы ни спешили люди, всегда остановятся, свернут в бор и молча постоят.
Вот поэтому даже в самый лютый мороз пламенеют у обелиска цветы. А по весне, когда только сойдет снег со всего леса, словно сбегаются к его подножию скромные уральские подснежники.