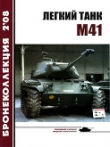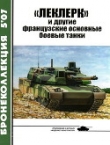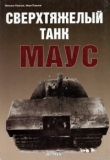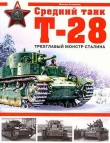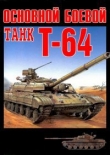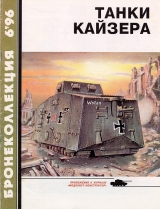
Текст книги "Танки Кайзера"
Автор книги: Семен Федосеев
Жанр:
Технические науки
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
Командир машины размещался на верхней площадке слева; справа и чуть позади него – механик-водитель. Верхняя площадка находилась на высоте 1,6 м над полом. Артиллеристы и пулемётчики размещались по периметру корпуса. Входившие в состав экипажа два механика располагались на сиденьях спереди и сзади от двигателей и должны были следить за их работой. Для посадки и высадки экипажа служили откидные двери в правом борту – впереди и в левом – сзади. Под дверью снаружи приклёпывались две узкие ступеньки. Внутри корпуса на верхнюю площадку вели две лестницы – спереди и сзади. Не сразу выбрали и вооружение танка. Рассматривался вариант укороченного корпуса с восемью амбразурами: в них, в зависимости от обстановки, можно было установить нужным образом две 20-мм пушки и два пулемёта или четыре пулемёта и два огнемёта. Танк с «полноразмерным» корпусом предполагалось вооружить 77-мм полевой пушкой модели 1896 года или штурмовой пехотной пушкой Круппа модели 1916 года, двумя 20-мм автоматическими пушками Беккера и четырьмя пулемётами на вертлюгах. 77-мм штурмовая пушка с длиной ствола 20 калибров имела начальную скорость снаряда (масса 6,85 кг) 400 м/с. Для её монтажа в танке спроектировали тумбовую установку. Однако использование 77-мм пушки вызвало ряд проблем – только длина её отката составляла 750 мм. Кроме того, заказы на пушки оказались полностью расписаны на многие месяцы вперёд и получение их также вызывало затруднение. В другом варианте предполагалось вооружить танк четырьмя 20-мм пушками и четырьмя пулемётами. В конце концов было решено ограничиться, по примеру англичан, 57-мм орудием. Для этого выбрали 57-мм капонирные пушки Максима – Норденфельдта, захваченные в октябре 1914 года в крепости Антверпен.
Пушка имела длину ствола 26 калибров, длину отката 150 мм, наибольшую дальность стрельбы 6400 м. В боекомплект, кроме 100 выстрелов с осколочно-фугасными снарядами, входили 40 бронебойных и 40 картечных. Осколочно-фугасные снаряды имели взрыватель с замедлителем и могли использоваться против полевых укреплений. Начальная скорость бронебойного снаряда составляла 487 м/с, бронепробиваемость – 20 мм на дальности 1000 м и 15 мм на 2000 м. A7V первой постройки кроме корпусов отличались и типом установки орудия. Собранные первыми танки с корпусами «Рёхлинг» в передней части имели раму (козлы), на которой крепилась поворотная артиллерийская установка системы Артиллерийской Испытательной комиссии. Широкая маска (щит) пушки качалась в вертикальной плоскости, а небольшой внутренний щиток – в горизонтальной. Установка снабжалась противовесом и двумя маховиками наведения. Танки № 540–544 с корпусами «Крупп» получили тумбовые установки, которые разрабатывались для танка A7VU, но использовались на A7V. Угол наведения орудия по горизонтали – 45° в обе стороны, по вертикали ± 20°. Наводчик располагался на сиденье, укреплённом на кронштейне тумбы и поворачивавшемся вместе с пушкой. Сиденье опиралось на ролик, катавшийся по полу корпуса. Для наводки служил телескопический прицел. Маска состояла из двух частей. Большой щит полуцилиндрической формы соединялся с тумбой и вместе с ней вращался в горизонтальной плоскости, в левой части он имел вертикальную прорезь для прицеливания. В вертикальном вырезе посредине щита имелся щиток, связанный со стволом пушки и перемещавшийся в вертикальной плоскости. Таким образом, наводчик сидел как бы внутри полубашни. Заряжающий размещался справа от него на неподвижном сиденье. Узкое поле зрения прицела и расположение пушки в передней точке приводили к тому, что наводчик легко терял цель из виду при любом движении танка. Поэтому по обеим сторонам от орудийной амбразуры сделали смотровые лючки с двустворчатыми крышками. И всё же вести более-менее прицельный огонь танк мог только с места.

Проект танка A7V с уменьшенным корпусом, восемью амбразурам для установки вооружения, развитым «носом». Варианты установки вооружения в амбразурах. (Копия подлинного чертежа).

Танк A7V с корпусом «Рёхлинг».
Стандартные 7,92-мм пулемёты MG.08 (системы Максима) крепились на вертлюжных установках с полуцилиндрическими масками и винтовыми механизмами вертикального наведения. Угол горизонтального наведения пулемёта составлял ± 45°. Расчёт каждого пулемёта состоял из двух человек – ошибка, которой избежали французы при разработке лёгкого танка «Рено». Пулемётчики помещались на приклёпанных к полу сиденьях с низкой спинкой. Коробка с лентой на 250 патронов крепилась на сиденье стрелка. Танк мог возить с собой 40–60 лент, то есть 10–15 тысяч патронов. В бортах корпуса и дверях имелись лючки с бронезаслонками для стрельбы из личного оружия экипажа, которое включало ручной пулемёт, карабины, пистолеты, ручные гранаты и даже один огнемёт. Таким образом, экипаж танка вооружался подобно гарнизону форта, но на практике это не вполне соблюдалось (по крайней мере, ни один танк огнемёта не получил).
Танк № 501 оказался полностью «симметричным» – вместо артиллерийской установки в его передней части, так же как и в кормовой, располагались два пулемёта, что обеспечивало действительно круговой обстрел. Позже танк перевооружили 57-мм пушкой на тумбовой установке.
Следует отметить, что 57-мм пушки Максима – Норденфельдта на тумбовых установках пригодились не только для танков – 150 штук смонтировали на грузовиках в качестве самоходных орудий ПТО.
Спереди и сзади к раме A7V крепились буксирные крюки. В боевой обстановке вырезы корпуса для них прикрывались шарнирно укреплёнными треугольными крышками. На минимальной скорости тяговое усилие достигало 15 т. Танк нёс с собой ЗИП и шанцевый инструмент.
Для питания электрооборудования (внутреннее и внешнее освещение) устанавливался генератор. Из средств внутренней связи следует упомянуть указатель на цель. Он крепился на крыше корпуса над артиллерийской установкой и поворачивался командиром танка с помощью троса. Перед расчётом орудия над правым смотровым лючком располагалась панель с белой и красной лампочками: их сочетания означали команды «Заряжай», «Внимание» и «Огонь». Остальному экипажу, как и во всех танках того времени, командиру приходилось подавать команды криком, перекрывая шум двигателей и трансмиссии. Средств внешней связи не предусматривалось. Надёжность работы имевшихся радиостанций внутри трясущегося корпуса вызывала большие сомнения, не было уверенности и в эффективности световой сигнализации. Семафоры быстро сбивались бы пулями, осколками или взрывной волной. Был, правда, предусмотрен лючок для сигнализации флажками. Однако на практике управление свели к принципу «делай как я», а при необходимости приказы доставлялись посыльными. Существовал и вариант «связного танка», оснащённого радиостанцией с поручневой антенной на крыше корпуса, вооружённого только двумя пулемётами, с экипажем 11–13 человек, включая радистов и наблюдателей. Но, в отличие от английских и французских «радиотанков», этот проект остался на бумаге.
В целом конструкция A7V воплощала в себе идею «подвижного форта», приспособленного более для круговой обороны, нежели для прорыва обороны противника и поддержки пехоты. Увы, кругового обстрела в прямом смысле слова не получилось: из-за ограниченных углов наведения орудия два сектора в переднем направлении представляли собой мёртвое пространство.
Основным производителем A7V стал завод фирмы «Даймлер» в Мариенфельде. На этом же заводе, кстати, собирались и машины «Мариенваген». Стоимость постройки одного танка A7V в ценах 1917–1918 годов составляла 250 000 рейхсмарок, из них 100 000 марок приходилось на бронирование. До сентября 1918 года было собрано всего 20 A7V. Первую серию составили танки на шасси № 501, 502, 505–507 и 540–544. Номера танков второй серии – 525, 526, 527, 528, 529 (корпуса «Крупп»); 560, 561, 562, 563 и 564 (корпуса «Рёхлинг»). Все танки второй серии имели тумбовые установки орудия.
Бронирование ходовой части, выступающие под рамой машины картеры бортовых передач и подвешенные под днищем спереди и сзади наклонные бронелисты вместе с высоким расположением центра тяжести снижали проходимость машины. Танк мог уверенно двигаться по рыхлому грунту, но только по открытой местности без бугров, глубоких рытвин и воронок; легко опрокидывался при боковом крене. При переходе через проволочные заграждения колючая проволока просто затягивалась гусеницами и запутывалась в них, что иногда приводило к перегрузке и выходу из строя сцеплений. Бронирование ходовой части было применено по опыту собственной германской противотанковой обороны, часто «разбивавшей» открытые гусеницы английских танков.

Танк A7V с корпусом «Крупп».
На первом демонстрационном образце танка бронирование доходило до осей опорных катков. Экраны, закрывавшие ходовую часть, имелись и на серийных танках, однако экипажи снимали их, открывая ходовые тележки – дабы грязь с верхних ветвей гусениц не забивалась в ходовую часть. Бронелисты, прикрывавшие направляющие и ведущие колёса, могли откидываться на петлях вверх. Для обслуживания ходовой части в бортах предусматривались также два небольших лючка, причём в крышке переднего был вырез для вывода выхлопной трубы. Лючок имелся также в нижнем кормовом листе.
Расположение командира и механика-водителя в поднятой рубке обеспечивало им неплохой обзор местности, однако сильно затрудняло наблюдение за дорогой непосредственно перед танком. Механик-водитель видел местность только в 9 м впереди машины! Поэтому в управлении ему помогали механики, наблюдавшие за местностью через лючки в бортах – под рубкой. В отличие от английских тяжёлых танков (до появления Mk V), всю физическую работу по управлению машиной механик-водитель выполнял один, причём она была легче и проще, чем у английских коллег. Два механика участвовали в управлении только «глазами и голосом».
Большие размеры, и особенно высота танка, делали его хорошо видимой мишенью для артиллерии. За громоздкий неуклюжий корпус и две дымящие трубы A7V прозвали в войсках «тяжёлой походной кухней». Вентиляция танка, как и на первых английских и французских машинах, оказалась неудовлетворительной. По сведениям одного механика-водителя A7V, температура внутри корпуса во время боя достигала + 86°С – пожалуй, здесь не обошлось без преувеличения. На марше экипажи предпочитали размещаться на крыше танка.
Как показал боевой опыт, обилие вооружения и слабая подготовка экипажей приводили к тому, что пулемётчики мешали артиллеристам и наоборот. Вообще же неудачи, которые постигли немецкие танки впоследствии, следует отнести не только на счёт недостатков конструкции, но и на счёт малочисленности машин и степени обученности их экипажей – у немцев просто не было времени и возможности провести должное обучение.
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЯЖЁЛОГО ТАНКА A7V
Боевая масса, т: 30.
Экипаж, чел.: 18.
Высота, м: 3,3.
Длина, м: 7,35.
Ширина, м: 3,06.
Клиренс, м: 0,2.
Толщина брони, мм: лоб – 30; борт и корма – 20; крыша – 15.
Вооружение: орудия 57-мм «Максим – Норденфельдт»; пулемёты 5x7,92 MG.08.
Боекомплект: 180 выстрелов; 10 000–15 000 патронов.
Двигатель: марка – «Даймлер» (165204); тип – карбюраторный; число цилиндров – 4; охлаждение – жидкостное; мощность, л.с. – 2х100 (при 800–900 об/мин).
Трансмиссия: механическая.
Коробка передач: 3-скоростная.
Бортовой редуктор: однорядный.
Механизм поворота: выключением или торможением гусеницы.
Ходовая часть (на один борт): 15 опорных катков, 6 поддерживающих роликов, заднее расположение ведущего колеса.
Подвеска: блокированная, на винтовых пружинах.
Тип гусеницы: металлическая, крупнозвенчатая.
Количество траков в цепи: 48.
Тип зацепления: зубовое.
Ширина трака, мм: 500.
Шаг трака, мм: 254.
Максимальная скорость, км/ч: 10–12.
Запас хода, км: 35.
Удельное давление, кг/см 2: 0,6.
Преодолеваемый подъём, град.: 18.
Ширина преодолеваемого рва, м: 2,2.
Высота стенки, м: 0,455.
Глубина брода, м: 0,8.
УЧАСТИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИРМ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ A7V
«Крупп», Эссен – производство бронеплит.
«Рёхлинг», Диллинген – производство бронеплит.
«Адлер», Франкфурт – разработка и производство трансмиссии.
«Даймлер», Берлин-Мариенфельд – разработка и производство двигателей, сборка готовых танков.
«Леб», Шарлоттенбург – сборка танков.
«Бюссинг», Брауншвейг – сборка узлов и агрегатов.
«Ланц» – сборка узлов и агрегатов.
«Стеффенс унд Нолле», Берлин – сборка механизмов управления, бронирование.
Оружейная мастерская в Шпандау – вооружение.
«Нутцфарцейге АГ» (NAG) – участие в разработке.
«Бенц» – участие в разработке.
Отделение «Холт-Катерпиллер» в Будапеште – ведущие колёса.
«Оберурсел» – радиаторы.
«Бош» – карбюратор, электрооборудование.
БОЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ ТАНКОВ
Германский Генеральный штаб не стал дожидаться результатов доработки A7V и 1 декабря 1917 года утвердил заказ на постройку 100 шасси. Заказ получил категорию срочности 1А – танки спешно готовили к большому весеннему наступлению на западном фронте.
Число машин увеличили с 10 до 38, но вскоре вновь сократили до 20 в ожидании результатов боевого применения. Хотя при столь малом количестве рассчитывать на положительные результаты было трудно.

Варианты внешнего вида A7V.
Танки сводились в «штурмовые отделения бронированных машин» (Sturmpanzerkraftwagen Abteilung). Ещё до окончания постройки первого A7V, 20 сентября 1917 года, Военное министерство распорядилось о формировании двух штурмовых отделений по пять танков. Приказ о формировании третьего отделения был отдан 6 ноября 1917 года. Экипажи набирали по следующей схеме: механиков-водителей и механиков – из инженерных («пионерных») войск, наводчиков и заряжающих – из артиллеристов, пулемётчиков – из пехоты. Офицеров брали из пехоты или автомобильных частей. Формирование 1-го отделения закончили 5 января 1918 года, и оно было направлено для обучения в школу вождения в Седане.
Формально германские войска ввели в строй 45 танков: 15 A7V и 30 трофейных Mk IV. На деле их оказалось 49–50, поскольку часть повреждённых танков заменили резервными, а часть успели отремонтировать и вновь пустить в бой. Так, первое штурмовое отделение в ходе боёв практически полностью обновило материальную часть. Во время подготовки к боевому применению вышло из строя шасси № 502, корпус и вооружение пришлось установить на шасси № 503, по тем же причинам вскоре шасси танка № 544 заменили на шасси № 504.
Всего сформировали девять штурмовых отделений по пять танков каждое. 1-е, 2-е и 3-е укомплектовали танками A7V, ещё пять A7V использовались как резерв. 11–16-е отделения оснащались трофейными английскими танками Mk IV. Танки составляли «боевой эшелон» отделения, «технический эшелон» под командованием офицера-техника включал эвакуационный отряд на грузовиках, подвижную мастерскую, машины подвоза боеприпасов, горючего и запчастей, полевую кухню и тягач – всего 9–10 грузовых, 2 легковых автомобиля и мотоцикл. Штат штурмового отделения зависел, конечно, от типа танков. Отделение A7V включало 176 человек: командир в звании капитана, 5 младших офицеров (лейтенантов) – командиров машин и 170 фельдфебелей, унтер-офицеров и рядовых, включая мастеров, чинов связи, фельдшера, вестовых и пр. В штат отделения Mk IV входило до 140 человек. Штурмовые отделения подчинялись командующему бронечастями, штаб которого располагался в Шарлеруа, где размещался 20-й Баварский армейский автопарк. В его мастерских готовились к бою и проходили ремонт как A7V, так и трофейные Mk IV. Командующий бронечастями подчинялся начальнику Полевого Автомобильного штаба при Ставке Главного командования.
У армейского руководства танки по-прежнему не вызывали особого энтузиазма. Начальник Большого Генерального штаба генерал-фельдмаршал Гинденбург, осмотревший в марте в Шарлеруа первые 10 машин, высказался весьма скептически: «Вероятно, они не принесут большой пользы, но так как они уже сделаны, то мы попробуем их применить». В предстоящем наступлении германское командование основной упор делало на внезапность атаки, наступательный порыв пехоты, использование автоматического оружия, огневую мощь артиллерии (количество тяжёлых орудий составляло 66 % от количества лёгких) и тщательную организацию её огня.
Ставка Главного командования издала инструкцию «Взаимодействие танков с пехотой», гласившую между прочим: «Пехота и танки продвигаются независимо друг от друга… При движении с танками пехота не должна подходить к ним ближе 200 шагов, так как по танкам будет открыт артиллерийский огонь». То есть, по сути, взаимодействие исключалось.
Во время наступления в Пикардии (операция «Михаэль», 21 марта – 4 апреля 1918 года) на фронте в 765 км немцы ввели в дело 59 дивизий при 6824 орудиях, 1000 самолётах и всего 19 танков (из них 9 – трофейных). Им противостояли 35 дивизий, около 3000 орудий, 500 самолётов и 216 танков союзников. Всего же союзники к началу немецкого наступления имели 893 готовых к бою танка.
Впервые германские танки вступили в сражение 21 марта 1918 года у Сент-Кантен (километрах в 50–52 от того места, где вышли в первый бой английские танки), в полосе наступления 18-й германской армии. Четыре танка A7V 1-го штурмового отделения под командой капитана Грайфа и 5 танков Mk IV вступили в бой утром. Из-за сильного тумана они часто теряли связь с пехотными подразделениями и действительно «продвигались независимо». Mk IV не выполнили своих задач из-за недостатка бензина и повреждений от артиллерийского огня, у двух A7V выявились технические дефекты. Более-менее удачно действовали только A7V № 501 и 506. Всё это, а также слабый грунт на пути движения не позволили ясно судить об эффективности применения германских танков.
И всё же впечатление, произведённое ими в первый день на английских солдат, не многим уступает ужасу немецкой пехоты на Сомме в сентября 1916-го. В одной из записей штаба 18-й германской армии говорилось: «Наши танки в огромной степени укрепляли дух пехоты даже тогда, когда они применялись в небольшом количестве; в то же время, как показал опыт, они производили большой деморализующий эффект на неприятельскую пехоту».
В ходе этой операции танки 2-го и 3-го штурмовых отделений помогли 18-й армии также в захвате Нуайон и Мондидье, где действовали уже против французских частей. После появления германских танков на поле боя германская пресса заговорила о том, что «только немецкий гений мог развернуть все средства и возможности, доступные танкам». Столь крутой поворот в оценке был логичным в плане пропагандистского обеспечения, но весьма далёким от действительности.

Тумбовая установка 57-мм пушки Максима – Норденфельдта для танков A7V и A7VU.

Установка пулемёта MG.08 в танке A7V.
Наиболее известен бой с участием A7V у Виллер-Бретоне 24 апреля 1918 года. Здесь задействовали все три отделения этих танков. Ещё до атаки вышла из строя машина № 540 2-го отделения, а перед боем обнаружилось повреждение головки цилиндров у № 503 3-го отделения. Поэтому только 13 A7V, разбитые на три группы, вступили в бой в полосе наступления 2-й германской армии. Первая группа под командой обер-лейтенанта Скопника (командир танка № 526) включала танки № 526, 527 и 560 1-го отделения и действовала с 228-й пехотной дивизией; вторая под командой обер-лейтенанта Билайна (танки № 501, 505, 506, 507 2-го отделения, № 541 и 562 1-го отделения) – с 4-й гвардейской дивизией; третья обер-лейтенанта Штайнхарда (танки № 525, 542, 561 и 504 3-го отделения) – с 77-й резервной дивизией. В соответствии с избранной тактикой танки были направлены на важный тактический пункт – деревню Виллер-Бретоне: первая группа двигалась непосредственно на деревню, вторая – вдоль её южной окраины, третья – на расположенную поблизости деревню Каши. Танк № 506 («Мефисто») застрял на местности, но оставшиеся 12, очистив населённый пункт от английских подразделений, продвинулись до Каши и до леса Аббе.
Здесь в 9.30 три A7V 3-го штурмового отделения встретились с вышедшими из леса тремя английскими Mk IV роты «А» 1-го танкового батальона. Так что первый в истории бой танков с танками носил характер встречного и для обеих сторон был внезапным. Англичане оказались в не самом выгодном положении: из трёх машин две были пулемётными («самки»), а экипажи были измотаны длительным нахождением в противогазах – их позиции накануне обстреляли химическими снарядами. Таким образом, британцы на первый взгляд уступали немцам в огневой мощи, бронировании и работоспособности экипажей. Однако уже в этом столкновении сказались такие факторы, как манёвренность танков, опыт и слаженность экипажей. Интересно, что бой проходил возле позиций английской пехоты и на виду у германской артиллерии, но они не приняли в нём участия. Немецкие артиллеристы опасались поразить своих, а английские пехотинцы попросту не имели каких-либо противотанковых средств. Хотя пулемётные Mk IV, получив большие пробоины, вынуждены были вскоре отойти в тыл, пушечный танк продолжал вести огонь. Немецкие машины остановились неудачно – бой фактически вёл только один из них (№ 561, «Никсе»), стреляя с места из пушек и пулемётов, в том числе – бронебойными пулями. В отличие от немецких, английский танк постоянно маневрировал и, сделав несколько выстрелов с ходу, перешёл к ведению огня с коротких остановок. После трёх попаданий у A7V был повреждён масляный радиатор. Пользуясь тем, что «англичанину» разорвало гусеницу, он смог отойти на небольшое расстояние, после чего экипаж покинул его. Два других отошли. Это дало основание англичанам справедливо считать себя победителями в первой танковой схватке.
Часть танков второй группы остановилась у первой линии английских окопов за деревней и отошла назад. Вслед за этим английские танки с австралийской пехотой отбили и Виллер-Бретоне. В тот же день восточнее Каши один A7V № 525 («Зигфрид») встретился с семью средними английскими Mk А «Уиппет» – эти боевые машины впервые вступили тогда в бой. Ведя огонь с места, вместе с артиллерией 4-й гвардейской дивизии, «Зигфрид» подбил один Mk А (ещё три подбили артиллеристы) и повредил три. Германские штурмовые отделения потеряли в тот день три машины – № 506 (был вытащен австралийской пехотой 14 июня), 542 и подбитый 561. Довольно успешно действовали № 505 и 507. Бой у Виллер-Бретоне выявил ещё одну возможность танка – использование его в качестве эффективного противотанкового средства. Однако больше в течение первой мировой войны танки такой функции не выполняли.
Подбитый A7V № 561 немцы ночью эвакуировали. Танк № 542 опрокинулся, переходя через воронку, и был брошен экипажем. 15 мая англичане оттащили его двумя Mk IV той же роты «А» первого батальона с помощью солдат 37-й марокканской дивизии.
Захваченный танк нёс имя «Эльфриде» (Elfriede), из-за чего в литературе танки A7V долгое время именовались также «танками типа Эльфриде». Машину внимательно изучали в тылу, её испытывали французские и английские экипажи. По мнению союзников, «немцы в своей модели повторили большое количество конструктивных ошибок и механических недостатков, позаимствованных ими у первых английских и французских танков». Точнее было бы сказать, что немцы учли многие из недостатков первых танков союзников, но сделали немало собственных ошибок. Англичане отмечали хорошее бронирование A7V спереди, сзади и с бортов при слабой защите крыши (ослабленной вентиляционными решётками). Кроме того, «заслонки отверстий в башне, орудийный щит, пулемётные маски и щели между плитами… были очень уязвимы для осколков ружейных и пулемётных пуль». И, конечно, отмечалась низкая проходимость машины – об этом свидетельствовал уже сам факт опрокидывания танка.
В первый день наступления во Фландрии на реке Лис (операция «Жоржетт», 9–30 апреля 1918 года) 15 танков действовали в полосе 6-й германской армии.
Во время второго германского наступления 1918 года на реке Эн (операция «Блюхер», 27 мая – 14 июня) 15 танков были введены в бой в полосе 7-й армии, располагавшей тогда 25 дивизиями, 3953 орудиями и 687 самолётами. В первый день наступления танки действовали вместе с дивизиями 65-го корпуса и 5-й гвардейской дивизией 4-го резервного корпуса у Вокпер-Берри-о-Бак. Успех их атаки на французские позиции всячески расхваливала германская пресса. На деле же танки прорвали первую линию обороны, но остановились перед широким окопом второй полосы, именовавшимся «Дарданелльским окопом». Основная тяжесть содействия наступлению пехоты легла тогда на артиллерию (более 1100 орудий на участке указанных корпусов).
Перед остановкой второго наступления танки приняли участие в атаках 7-го резервного и 15-го корпусов на Реймс, оборонявшийся частями 4-й французской армии. 31 мая здесь участвовали в бою танки 2-го отделения, при этом танк № 529 был потерян от огня артиллерии. 1 июня A7V 1-го отделения, действовавшие северо-западнее, у форта Помпель, имели небольшой успех, но вскоре танки № 526 и 527 были подбиты огнём французской артиллерии (№ 527, например, получил прямое попадание в рубку) и покинуты экипажами. Безуспешной была атака и 5 июня. 9 июня восстановленный № 526 1-го отделения вновь подбила артиллерия, а № 527 – гранатомётчики. Всего у Реймса огнём артиллерии было подбито 8 германских танков.
15 июля, в первый день последнего германского наступления (так называемого «сражения за мир» или «второй Марны»), танки 1-го и 2-го отделений вновь действовали на Реймском участке, в полосе 1-й германской армии. Атака успеха не имела, поскольку главная полоса обороны французов совершенно не пострадала в ходе германской артиллерийской подготовки. Несколько танков подорвалось на минах.
9 августа, во время наступления Антанты, 1-е и 3-е штурмовые отделения поддерживали действия 18-й германской армии южнее Нуайона. Три танка 1-го отделения остановились – № 560 получил повреждения от артогня, № 562 попал в воронку, у № 541 оказались повреждёнными двигатель и трансмиссия. 3-е отделение действовало успешнее, хотя танк № 564 застрял на деревенской улице.
31 августа танки 1-го и 2-го отделений использовались в контратаке у Фремикур против частей 1-й английской армии, наступавшей на Камбре. Танки № 504 и 528 2-го отделения были подбиты артиллерией и захвачены, № 562 поражён осколками авиабомбы, а у № 563 оказались технические неисправности. После этого 2-е штурмовое отделение перестало существовать, а машины и личный состав передали в подчинение 1-го отделения. У Фремикур действовало и одно отделение трофейных Mk IV.
7 октября, уже после отхода германских армий на позицию Зигфрида, танки A7V 3-го отделения приняли участие в контратаке частей 3-й германской армии у Сент-Этьенна. Все вышедшие в бой танки в конце концов оказались подбиты.
8 октября 15 танков (A7V или Mk IV) были введены в брешь германского фронта против частей 1-й английской армии у Камбре. Появление немецких танков снова вызвало панику среди английских солдат, и восстановить порядок удалось лишь после того, как два из них вывели из строя.
Танки № 525, 563, 501, 540 и 560 1-го штурмового отделения были применены севернее Камбре у Сент-Обере и Иву 11 октября – за месяц до заключения перемирия. Прорыв англичан на этом участке удалось ликвидировать. Атака у Иву стала последним эпизодом применения германских танков в первой мировой войне.
Вся боевая работа немецких танковых штурмовых отделений свелась к полутора десяткам эпизодов в течение полугода. Танки двигались разрозненно, мелкими группами. В результате одновременно в атаку выходило не более 7–8 боевых машин. Бой трёх штурмовых отделений у Виллер-Бретоне стал, пожалуй, единственным примером «массированного» танкового наступления со стороны немцев. Взаимодействие с пехотой было плохо организовано. По мнению генерала Эймансбергера, «танки, имевшиеся в германской армии, применялись без всякого знания этого рода оружия». Действительно, за два последних года войны немцы лучше изучили слабые стороны танка, нежели сильные. Иногда атаки штурмовых отделений имели успех. Но в силу малочисленности боевых машин эти частные победы никак не сказывались на общем ходе боевых действий.
Количество применявшихся германскими войсками танков никак не соответствовало масштабам операций: плотность танков на фронте 18-й армии на 21 марта составляла 0,5 на 1 км, в 6-й армии на 9 апреля – 1, в 7-й армии на 27 мая – 0,3 танка на 1 км фронта. Для сравнения – к началу контрнаступления Антанты (18 июня 1918 года) одна лишь 10-я французская армия располагала 16 дивизиями при 1573 орудиях, 531 самолёте и 337 танках, а плотность танков составляла 9–14 на 1 км фронта. Французские танкисты с апреля по ноябрь 1918 года участвовали в 45–47 боях.

Секторы обстрела вооружения танка.
Столь разительное несоответствие всколыхнуло «общественное мнение», особенно после 8 августа – «чёрного дня германской армии», когда англичане ввели в бой одновременно 415 танков, а германская противотанковая оборона оказалась неэффективной. 2 октября 1918 года на заседании лидеров партий в рейхстаге представитель Ставки Главного командования заявил: «Надежда побороть противника исчезла. Первым фактором, решительно повлиявшим на такой исход, являются танки. Неприятель применил их в громадных, нами непредвиденных массах». Депутаты резко упрекали Военное министерство и Главное командование в пренебрежении таким боевым средством. 23 октября было распространено заявление военного министра генерала Шейха: «Мы уже давно энергично занимались постройкой этого оружия (которое признано важным)… Мы скоро будем иметь дополнительное средство для успешного продолжения войны, если нас к этому вынудят». Полезность «этого оружия» теперь не вызывала сомнений. Но было, увы, слишком поздно.
Уже после войны бессменный помощник Гинденбурга, бывший генерал-квартирмейстер Ставки Главного командования генерал Людендорф в своих «Воспоминаниях о войне» пытался оправдать и обосновать отношение командования к «танковому вопросу»: «Начальник Полевого Автомобильного штаба вовремя получил приказ распорядиться на предмет конструирования танков. Модель танка, продемонстрированная им весною 1917 года перед высшим командованием, не соответствовала предъявленным требованиям. Я ему предложил энергично двигать танкостроение. Возможно, мне следовало производить более твёрдый нажим; возможно, тогда мы обладали бы к решающему моменту 1918 года немного большим количеством танков, но я не скажу, за счёт какой потребности армии их надлежало бы строить… Возможности массового применения танков мы бы в 1918 году всё равно не добились, а только в массе танк имеет значение».