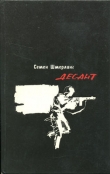Текст книги "Горячий осколок"
Автор книги: Семен Шмерлинг
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
4
– Кончай ночевать, – пробасил взводный. – Подъем!
Лейтенант был на ногах и, выпятив грудь, размахивал руками, приседал, потрескивая суставами, – делал физзарядку. Шофёры потягивались, свёртывали цигарки, кашляли, кряхтели.
– Только ляжешь – поднимайсь, только встанешь – подравняйсь! – ворчал Сляднев.
– Выходи, не жмись, – командовал лейтенант, – все к машинам! А ты, Якушин, погоди. Ты мне все же немца толком допроси. Узнай, кто он, откуда, как и почему сдался в плен.
– Есть! – ответил Алексей, радостно краснея от такого доверия. В душе он поклялся разбиться в лепёшку, но выполнить приказ. Когда взводный выпроводил всех лишних из хаты и вышел сам, Якушин уселся за стол, вынул из кармана гимнастёрки записную книжку в коленкоровой обложке, прихваченную ещё из дому. Её собирался приспособить под дневник, но пока, кроме своей фамилии да полевой почты, не написал ни строчки. Достав карандаш, строго взглянул на немца.
Тот замер в трех шагах, подобрав тощий живот и вытянув руки по швам.
– Как вас зовут? – начал Якушин.
Теперь солдат стал понятливей. Видимо, прошёл первый испуг. Алексей довольно легко установил, что немца зовут Клаусом. Фамилия Бюрке. Родом из-под Берлина. Работал механиком в автомастерской, в городе Фюрстенберге.
«Знает толк в автомобилях, раз механик, – отметил Якушин, – нам тоже как-никак пригодится. Вот взводный обрадуется!» И очень удивился, когда услышал, что морщинистый, старообразный человечек всего на пять лет старше его, Алексея.
Клаус Бюрке понемногу разговорился и даже стал изображать руками и голосом недавние свои приключения. Он гудел и фыркал, как мотор, татакал, как пулемёт, ухал.
– Герр зольдат, – говорил он, поднимая узкие плечи, – это было ужасно. Когда стреляли ваши орудия, казалось, с неба падают огромные камни, каждый величиной с мой «бюссинг». Любой может ударить в голову. Я сидел в кабине и ждал этого… Трах, трах… Всё было в дыму, не видно батареи, солдат… и обо мне забыли…
– Все понятно, вы находились в кольце, – пояснил Алексей. – Ну, дальше, Бюрке, дальше…
– В кабину вскочил ефрейтор Фиш с батареи, грязный, дрожащий. Он схватился за руль и что-то кричал. Я понял, надо ехать, и включил зажигание… Все гремело и свистело, и я не слышал мотора.
– Куда же поехали?
– Откуда я знаю. Фиш командовал. Он сказал, что Иваны озверели и все в батарее погибли… Карл, Франц, Рудольф, лейтенант Брюннер… все остались там. Такого не было даже на Кавказе, где нам тоже пришлось плохо. Пока мы ехали, перед нами рвались снаряды… Только было слышно – ух, ух… Потом утихло. Фиш сказал; «Проскочили». Но из-за леса вышли русские танки. «Стой! Нет, жми вперёд, – заорал Фиш. – Стой!» Я затормозил. Фиш выскочил. Я схватил автомат, ранец, побежал и упал. Перед глазами огонь. И потом ничего не помню… Пришёл в себя. Увидел мой «бюссинг»… То, что осталось… Вместо кабины куски железа. И я решил: хватит…
Пока Якушин допрашивал немца, в хату один за другим входили солдаты. Они курили, прислушивались, иногда – вмешивались в разговор.
Дольше других в хате задержался Карнаухов. Подперев широкой ладонью рыхлую щеку, он посматривал то на Алексея, то на немца. Иногда вздыхал, многозначительно кивал, словно понимая, о чём идёт речь.
– Дознался? – с ходу спросил Сляднев, вбежав в комнату.
– А ты думал? – гордо ответил Якушин.
Постоял рядом и Курочкин. Покачался на носках, заложив руки в карманы. Глаза прищурены, на лице – загадочная улыбочка.
Последним, тяжело ступая облепленными грязью сапогами, вошёл в хату Бутузов. Сбросил на лавку мокрые рукавицы, потёр ладонями круглые, в редких красноватых прожилках щеки, крутые скулы, проверяя, не отросла ли борода, с любопытством взглянул на немца и Алексея.
– Ну, что, Якушин?
– Товарищ лейтенант, допрос произвёл, – доложил Алексей. – Фамилия – Бюрке, звание – рядовой. Шофёр…
– Шофёр – это подходяще, – удовлетворённо сказал Бутузов.
– Разрешите все по порядку… Как они драпали, как наши танки их перехватили и машину сожгли…
– Интересно, но как-нибудь после. Значит, водитель?
– Автомеханик.
– Подфартило нам. Съезжу к полковнику, если разрешит, приставлю немца к «крокодилу». Пусть он мне тягач отремонтирует… Ох и пригодится нам эта машинка!
5
Алексей вышел из прокуренной, угарной хаты, полной грудью вдохнул весенний воздух. Зеер гут. Здорово все получилось! Немца допросил, ремонт трофейного тягача обеспечен. Лейтенант приставил Якушина к рядовому Бюрке то ли затем, чтоб следить, то ли помогать в работе, а скорее всего и за тем и за другим.
Немец минуту-другую постоял перед тягачом, соображая, наверное, с чего начать. Потом, сполоснув руки в луже, вытер их чистой тряпкой, которую достал из кармана шинели. Подумал, снял шинель и откинул капот «крокодила». Встав на бампер, сложился как перо-чинный ножик.
Алексей дивился, как мастерски орудовал Бюрке. Его приплюснутые у ногтей пальцы забирались в мотор, ощупывали проводку, откручивали и закручивали гайки, счищали ржавчину и грязь.
Время от времени Бюрке обращался к Якушину. При этом он соскакивал с бампера, вытягивался и чинно, соблюдая субординацию, говорил:
– Герр зольдат, могу ли я получить гаечный ключ?
– Герр зольдат, мне необходима отвёртка.
Через полчаса он уже только просил:
– Пожалуйста, подержите этот провод.
Затем он и вовсе, не разгибаясь, бросал!
– Отвёртку… Проволоку.
Алексею даже показалось, что в голосе немца появились властные нотки. Это задело. Ишь, зарвался, так, глядишь, и на шею сядет. Хотел прикрикнуть на Бюрке построже, но в это время за спиной раздался ехидный голос Курочкина:
– Достукался, Якушин, – фриц тобою командует.
Алексей и сам готов был одёрнуть явно зарвавшегося немца, но издевательский тон Курочкина вывел из себя, заставил противоречить:
– Не приставай. Работает же… Взводному полковник разрешил оставить Бюрке…
– Работает? Что ему ещё делать? Грехи замаливает, а не работает.
– Не знаю… Вроде от души.
– Много ты понимаешь. Между прочим, эта душа боком выйдет. И ты ещё неизвестно, о чём с немцем лопотал…
– Да как ты можешь… Проваливай отсюда!
– Не груби, салага. Я ведь не забыл, как ты на станцию погрузки машину вёл. Четыре километра по шоссе – и промвалик долой. А если ты нарочно его поломал? На фронт не очень торопился…
В руках у Алексея, он и сам не заметил как, очутился гаечный ключ.
– Ну, ну, полегче… Я это тебе припомню, – сказал Курочкин и исчез.
Заныло внутри. Ехидна этот Курочкин. Насчёт промвалика – чепуха, конечно. Только всё-таки, может, и он, Алексей, и лейтенант в чём-то не правы? Враг остаётся врагом, а мы с ним ласковы, обходительны.
Бюрке, прекратив работу, насторожённо молчал, опустив плечи, спрятав глаза.
– Арбайтен! – прикрикнул Алексей. – Шнеллер!
Бюрке снова сложился пополам и Пырнул под капот. Теперь он редко поднимал голову и совсем не обращался к Якушину с просьбами. А тот, растревоженный разговором с Курочкиным, думал, что в сущности ничего толком не знает о немце. Мало ли что Бюрке наговорил.
Если и поверить ему на слово, все равно никакой симпатии не вызывает. Ну осточертела война, ну измочалила, как и всех. Перепугался вконец – и сдался. Вот и все. Разве он антифашист? Нет, конечно. Не залезешь ведь в его башку, не разглядишь, что там, в извилинах. Может, фашистская свастика запуталась, и Бюрке с трудом терпит рядом с собой его, Алексея Якушина, терпит только потому, что трясётся за свою шкуренку?
…«Крокодил» вдруг затарахтел и выбросил из выхлопной трубы сизоватое облачко.
На звук двигателя прибежал лейтенант Бутузов. Сел за руль, тронул тягач, проехал по селу и вернулся довольный. Сказал:
– Ты, Якушин, дай этому Бюрке хлеба вволю. Все же он первый из ихнего подлого брата за всю войну нам пользу принёс. Завтра боеприпасы возить, так что «крокодил» в дело пойдёт.
6
Фронт – большой. Он протянулся изломанной огненной чертой от студёных до тёплых морей, через гранитные горы, дремучие леса, чёрные болота, полынные степи, реки и озера, каменные города, бревенчатые и саманные деревни. Он и общий для всех, кто обороняется и наступает, горюет и радуется, живёт или погибает. Он и разный – у каждого свой.
Для одного фронт – это обвалившийся после артобстрела окопчик с нависшим клочком пожухлой травы, для другого – раскалённая броня и узенькая прорезь смотровой щели, для третьего – стёклышко прицела в проёме зелёного стального щита, для четвёртого – вёрткий штурвал в руках и вокруг небо в серых разрывах… Для каждого – свой.
Шофёрский фронт – дороги. Конечно, шофёрам и в окопах приходится сидеть, и пушкарей подменять, и на танки взбираться. Но главное – дороги. Редко-редко попадаются шоссейки, а чаще всего расстилается перед тобой вековечный, древний, как Русь, просёлок. То надёжный, покойный – доверься ему, как другу, и хоть баранку бросай! То скрытный, обманчивый, петляющий по глухим лесам, топким полям, крутым косогорам, по невылазной грязи, хоть на себе машину тащи!
Породила война и свою, особую дорогу: свежепроторенную у самого переднего края колею, таинственную и неожиданную, как сам бой, прострелянную снарядами и пулями, всю – под прицелом.
Мартовской ночью сорок четвёртого года попал и Алексей Якушин на такую фронтовую дорогу.
На армейском складе погрузили снаряды. Артиллерийский полк находился на подступах к украинскому городку. Что там происходит – шофёры толком не знали. На складе говорили, что городок взят ещё вчера и наши рванули вперёд и будто танки выскочили под самую Одессу.
Вечером водители балагурили с регулировщицами у разбитого хутора. Девушки точно знали, что городок освободила пехота, но дальше не пошла, а заняла оборону.
В полночь встретилась санитарная летучка, битком набитая ранеными. Они ворочались в фанерной будке, укрывавшей кузов, стонали, ругались, просили закурить.
– Какой там – город взяли, – зло крикнул кто-то из раненых, – на-кось, выкуси! Жмёт немец!
Грязно-серый, пахнущий порохом рассветный туман облепил ветровое стекло. Вытянув шею из кабины, Алексей следил за ползущим впереди «крокодилом». Его вёл Бутузов. Алексей смотрел во все глаза и всё же чуть было не натолкнулся на тягач, когда тот неожиданно остановился. Якушин тычком прижал тормоз. Мотор заглох, и тотчас в уши полезли грохот, железный стук. Они словно пронизывали сырую мглу, растворялись в ней, и было непонятно, кто откуда и в кого стреляет.
Бутузов стоял рядом с длинным и худым артиллерийским капитаном.
– За туманом проскочим, – говорил Бутузов.
– К сожалению, не удастся, – как-то очень уж вежливо отвечал капитан. – Дальше рельеф меняется, там возвышенность, над ней туман, безусловно, рассеялся.
– Тогда, может, здесь сгрузим, а уж к батареям полковым транспортом?
– Нельзя, нецелесообразно, – все так же вежливо возражал артиллерист. – Наши орудия на прямой наводке и сидят на голодном пайке. Уж будьте любезны подвезти к пушечкам.
– Буду любезен. По одной машине гнать, что ли?
– Вот именно, по одной и на значительной дистанции, иначе возможны неприятности.
– Поехали.
Дорога пошла на подъем. Туман редел. Развиднелось.
Лейтенант снова остановил колонну. Отсюда, понял Якушин, начнётся бросок к батарее.
Алексей оглядывал темно-бурое, исхлёстанное бугристыми колеями поле, все в рваных клочьях, будто из распоротой шубы вылезла старая грязная вата. Нерастаявший ночной туман перемешался с дымными кустами разрывов, с курящимися выдохами орудийных и миномётных выстрелов. Лейтенант Бутузов подошёл к «газику» Алексея, с маху ударил грязным сапогом по тугому баллону, сказал:
– Ну-ка, встань, Якушин, смотри… Видишь за посадкой бугор, круглый, словно кулич? На нём – батарея. Надо вправо держать, тогда подъедем к ней с обратного ската.
Алексей согласно кивнул, не решаясь признаться, что не рассмотрел ни посадку, ни батарею. Глаза как будто подёрнуло дымкой.
– Ладно, – видимо, поняв его состояние, заключил взводный. – Дуй за мной. Не отставай, но и не прижимайся. За нами поедут остальные. По машинам!
Алексей стремглав прыгнул в кабину своей полуторки, заёрзал на потёртом сиденье. Щиток с облупившейся краской прыгал перед глазами, холодный ключ зажигания словно ускользал из пальцев, нога давила в пол мимо педали стартера.
Он перевёл дыхание. И увидел, как пошёл вперёд «крокодил». В то же самое время руки Алексея сработали сами, мотор завёлся. Алексей погнал машину вслед за удаляющимся тягачом. «Ничего, ничего, – успокаивал он себя, – пока ведь безопасно, не стоит психовать».
«Крокодил» шёл ходко, подобранный, присадистый, он будто стлался по земле и уходил, уходил. Алексой забыл наставление взводного – сохранять дистанцию, и теперь весь смысл его существования заключался в том, чтобы догнать «крокодила», приблизиться вплотную.
«Газик» бросало, руль вырывало из рук. Внезапно обострившимся боковым зрением Алексей засёк справа резкий провал траншей и в ней, как тени, согнутые чёрные фигурки бойцов. «Куда мы? Неужели проскочили передний край и летим прямо к немцам?» Но впереди маячил тягач, и Алексей думая лишь о том, как бы догнать Бутузова, непременно догнать, опять нажал на газ.
Взрыва он не услышал. Машина вздыбилась, подпрыгнула, зазвенев разбитыми стёклами, и ворвалась в едкий, вонючий столб дыма. «Газик» пошёл опять, припадая теперь на правую сторону, сминая, сжевывая дисками пробитые шины.
Когда пространство перед разбитым ветровым стеклом расчистилось, Алексей увидел в сотне метров перед собой «крокодила» и каких-то людей. Ещё весь во власти бешеной гонки, не в силах остановить машину, он пролетел мимо тягача, и сзади до него донеслось:
– Сто-ой, дура!
Он всем телом нажал на тормоз. Полуторка, подскочив задком и вильнув, зарылась передними колёсами в свежевыкопанный грунт. Якушин с тяжёлым сипеньем выдохнул воздух.
Когда негнущимися ногами он ступил на шаткую землю и, пошире раскрыв глаза, стал разбираться, где, собственно, находится, в кузов его машины уже прыгнули в подоткнутых под ремень шинелях артиллеристы. С бережливостью они стали снимать снарядные ящики и укладывать их в штабель.
Якушин подошёл к взводному. Среди работавших людей он почувствовал себя в безопасности и подумал, что все в общем-то прошло не так уж плохо. Он ждал похвалы.
– Не мельтеши! – крикнул взводный. – Опросталась машина – отгони за бугор, а сам лезь в щель.
Батарея, получив снаряды, стала бить по противнику. Шесть орудий загрохотали одно за другим.
Выцырнул из тумана карнауховский «ЗИС». То была приметная в автовзводе машина. Ещё до войны водил её Каллистрат по леспромхозовским делянкам, а в конце сорок первого был призван в армию вместе со своим «ЗИСом». Кузов и кабина у него были деревянные, из крепких досок. Грузовик чем-то напоминал рубленую избу.
Каллистрат души не чаял в машине. Ревностно следил за ней и постоянно клянчил у взводного то новый карбюратор, то свечу, то баллон.
Алексей подумал, что и сейчас, среди огня, Каллистрат Карнаухов бережно и обдуманно ведёт своего «Захара», как называли во взводе «зисок», – помня о моторе, рессорах и скатах, не забывая, когда и где нужно переключать скорость.
Вокруг бушевали разрывы, а когда машина поднялась на взлобок, забили немецкие спаренные малокалиберные зенитные пушки. Они вели настильный огонь, и веер осколков прометал дорогу.
«ЗИС», как бы споткнувшись, пошёл короткими рывками, потом закрутился, выполз из колеи, замер.
«Все, – встревожился Алексей, – все». Он посмотрел на взводного, на капитана-артиллериста, как будто те могли чем-то помочь Карнаухову. Капитан и Бутузов безмолвно следили за «ЗИСом». Что тут можно поделать? Вот-вот стальная струя скосит карнауховскую машину.
Но случилось удивительное. «Захар» вдруг ожил и, набирая скорость, помчал к батарее. Он катил, подпрыгивая на ухабах, а за ним вспыхивала фонтанами земля. Перевалив бугор, машина остановилась.
Бутузов, капитан, шофёры бросились к ней. В кабине, откинувшись к задней стенке, полулежал, обливаясь кровью, Каллистрат Карнаухов. Рядом, изогнувшись, держал баранку Клаус Бюрке.
Алексей вместе с Бутузовым и Слядневым вытащили обмякшего, грузного Карнаухова.
– Ну и Бюрке, – проговорил взводный. – Каллистрата вызволил.
– Может, лейтенант, фрица в герои запишем и на медаль подадим, – зло сказал Курочкин. – Шкуру он свою спасал, и ничего больше.
7
Как приказал лейтенант, машины угнали за высотку, в лощину. Шофёры ушли в окопы и щели, благо их тут было нарыто немало – и своих, и немецких. Алексей оказался в окопе, который был подлиннее и попрочнее других. Рядом был окоп Карнаухова.
Немцы злились: наши беспрерывно молотили их оборону из пушек и миномётов. В ответ гуще летели фашистские снаряды. При близких разрывах стенка окопа толкала в спину.
И было состояние неопределённости и беспомощности. Что-то вроде бы надо делать, а что – непонятно. Например, бежать к своей машине. Но зачем? Пока с батареи никуда не уедешь, да и приказа нет. Или податься к артиллеристам? А на кой ляд ты им нужен?
Тягостным было ожидание разрыва снаряда, а ещё пуще – мины. Она ныла, казалось, у самого уха: «иду-иду-иду…» Ещё в дороге Карнаухов говорил Алексею» «Хуже нет, когда мины летят – до души достают».
Раненный осколками в плечо, руку, обмотанный бинтами, Карнаухов полулежал, упираясь согнутыми ногами в стенку окопа. Время от времени Якушин всматривался в посеревшее лицо этого грузного ширококостного мужчины в грязной измятой ушанке. Пожалуй, здесь это был самый близкий человек. Карнаухов понимал Алексея так же хорошо, как и лейтенант. А кроме того, – Якушин не впервые думал об этом – чем-то характер Каллистрата напоминал характер его, Алексея, бабушки. Той, что, прожив в Москве без малого полсотни лет, все ещё чувствовала себя в столице, как в своей рязанской деревне Барановке.
Бабушка Ефимья Федоровна, или, как она называла себя, Афимья, тёплыми вечерами выносила на улицу табуретку и усаживалась у парадного, как в давние времена на завалинке. В переулке её знали, прохожие здоровались с ней, иные останавливались, и тогда она расспрашивала их о разных разностях. Бабушка часто посылала в деревню письма своим почти столетним отцу и матери. Так и не выучившись грамоте, диктовала письма внуку. Алёша вскоре запомнил их, так как они дословно повторяли друг друга. «Милые и дорогие мои родители, тятенька и маменька, – не слушая диктовки, писал он, – во первых строках своего письма я вам низко кланяюсь, целую несчётно и желаю здоровья и радости на многие леты».
Наверное, и Каллистрат Прокофьевич пишет такие же письма в свою деревню. Он домовит и внимателен, согласен выслушивать всех, в нём живёт неистощимый интерес к людям и готовность удивляться… А сейчас под закрытыми глазами Карнаухова чернеют полукружия, словно следы от вдавленных монет.
В одну из минут неверного затишья, когда визг и грохот отдалились, дым рассеялся, Алексей снова поглядел на Карнаухова. Мягкие, толстые губы Каллистрата чуть раскрылись в улыбке, обнажая редкие и крепкие желтоватые зубы старого курильщика.
– Семеныч, а Семеныч, – прошептал Каллистрат, – ты бы опять про Третьяковку рассказал…
Нет, Алексей не ослышался. Никто другой на всём фронте, кроме Каллистрата Карнаухова, не мог обратиться с такой просьбой.
То была их маленькая тайна. Ещё когда Они ехали в эшелоне из Москвы и Алексей, забившись в угол вагона, ёжился на нарах, Карнаухов прилез к нему и стал донимать вопросами: кто ты такой и кто твои родители, где работал, учился?
О себе же сказал неожиданно:
– И я, парень, в Москве-то бывал. Ну не то чтобы жил, а бывал, и уж одну штуку на всю жизнь запомнил, право слово. Есть там, парень, такая Третьяковская галерея, выставка картинная. Это – да…
– Тыщу раз в ней был, – с превосходством коренного москвича ответил Якушин.
– Ну-у?
Якушину самому стало неловко за своё хвастовство, и он пояснил:
– От нашего переулка до Третьяковки две остановки. Мы туда с учительницей ходили, даже лекции там слушали.
Удивление и восхищение Каллистрата Прокофьевича были искренними. Слушал он серьёзно, вдумчиво. А то ведь всякое случалось. Вон в шофёрской школе – восхитятся ребята московскими познаниями Алексея, а потом на смех подымут. «Подумаешь, москва-ач», – говорил длинноносый смуглый южанин, кажется, одессит, фамилию которого Якушин не запомнил.
– Выходит, ты Третьяковку эту самую знаешь, – проговорил Карнаухов, придвигаясь поближе. – Значит, и такую вот картину помнишь? Ночь чёрная, как сажа, таких ночей я и не видывал, а в небе луна бледненькая, прозрачная, как льдинка, тонкая. А под луной – речка серебром отблескивает. Что в этой картине такого особенного – в толк не возьму, а стоял подле неё битый час, отойду и опять возвернусь. Даже место запомнил.
– Висит над лестницей, над перилами, высоко, – уже весело сказал Алексей.
– Ну-ну, точно.
– Куинджи. «Ночь на Днепре».
– А я, парень, художников пофамильно-то не знаю, а вот ночь эта мне и в деревне все вспоминалась, и во сне даже снилась.
С тех пор они не раз говорили о Третьяковке. Якушин приметил, что в памяти Каллистрата Прокофьевича, на удивление крепкой и своеобразной, сохранились впечатления далеко не о всех полотнах, которые он повидал. Когда Алексей говорил о верещагинских картинах «На Шипке все спокойно», «С оружием в руках – расстрелять» или «Старостиха Василиса», Карнаухов не поддерживал разговора. Зато часто вспоминал пейзажи Левитана и Шишкина. Особенно обрадовался, когда Алексей сообщил, что Шишкин некоторые свои картины писал в тех местах, где родился и жил Карнаухов.
В сёлах на ночлеге, в поле у машин Алексей и Карнаухов мысленно путешествовали по Третьяковке. Алексеи не предполагал того, что и потом ещё не раз в своей жизни, вдалеке от дома, будет сближаться с людьми именно через воспоминания о Москве. И не раз ещё будет говорить о том, как проехать к МХАТу, какая картина висит в Третьяковке рядом с «Заставой богатырской», и даже припомнит маленькую кондитерскую в Столешниковом переулке, где продают самые вкусные пирожные. Москва будет всегда с ним.
И вот сейчас в этом окопе, в короткое затишье боя, услышал он просьбу раненого шофёра:
– Так обскажи, Семеныч, эту вот мне картину. По низу – все снег да снег, отливает он и синевой, и краснотой, будто кровью, а по нему – санный след, глубокий, так и ступить в него хочется. А по следу сани-розвальни бегут, а на них – старуха худая, высохшая вся, видать, староверка – толпу двуперстным крестом осеняет.
– «Боярыня Морозова», – ответил Якушин. – Сурикова.
Над окопом навис ужас. Его несла свистящая мина, «А-ах!»
Тугой удар оглушил Алексея. Запах пороха заполнил все. Минуту-другую Якушин задыхался, хватаясь за горло. Глаза не видели, уши не слышали.
Где же Карнаухов? А, вот он, поднимается, здоровой рукой вытирает лицо.
Они встретились глазами, оглядели друг друга и улыбнулись: живём!