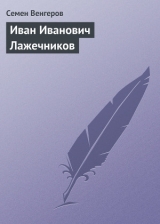
Текст книги "Иван Иванович Лажечников"
Автор книги: Семен Венгеров
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
VI
Установивши единственно верную, исторически правильную, точку зрения на Лажечникова, устраняющую всякий дешевый критицизм задним числом, возвратимся к событиям его жизни с 1820 г. В этом году он собрал свои путевые письма, разбросанные по разным томам «Вестника Европы» и «Соревнователя просвещения и благотворения», и издал их под названием «Походные записки русского офицера», с посвящением императрице Елизавете Алексеевне. Императрица милостиво приняла посвящение и в знак своего благоволения подарила автору золотые часы.
Выпуская «Походные записки», Лажечников был уже заправским литератором. На заглавном листе книги мы читаем: «Походные записки русского офицера, изданные И. Лажечниковым, действительным членом общества любителей русской словесности при московском университете и с. – петербургского вольного общества любителей словесности». В оба общества Лажечников попал благодаря этим же «Походным запискам», когда они печатались в журналах, «Записки» очень нравились современникам. Так, например, известный основатель харьковского университета – Василий Каразин в своем докладе, читанном с. – петербургскому обществу любителей словесности, констатируя успехи, сделанные органом этого общества – «Соревнователем просвещения и благотворения», в доказательство приводит помещение в этом журнале одного из путевых писем Лажечникова, «очень занимательного для воображения» («Рус. стар.», 1871 г.). и все рецензии на «Последнего Новика» начинались констатированием большого успеха, который имели когда-то «Походные записки». 16 лет спустя, в 1836 г., потребовалось даже второе издание их. И действительно, они написаны легко и занимательно, без утомительных и ненужных военных подробностей, а почти исключительно налегая на бытовую сторону. В статье «Знакомство с Пушкиным» Лажечников пишет: «В это время готовил я к печати свои «Походные записки», в которых столько юношеской восторженности и столько риторики. Признаюсь, писавши их, я еще боялся отступить от кодексов Рижского (автор весьма известный в начале нынешнего столетия риторики) и братии его, столь твердо выученных мне профессором Победоносцевым. Счастлив, кто забыл свою риторику! – сказал кто-то весьма справедливо. – Увы, я еще не забыл ее тогда…» Отзыв этот, однако же, несправедлив. В «Записках» относительно мало риторики и они даже теперь читаются не без интереса. Если чего действительно слишком много в «Записках», так это морализации. По примеру Карамзина, Лажечников, по поводу всего виденного, пускается в философские размышления. Но к чести доброго сердца его нужно сказать, что размышления эти хотя и скучноваты и элементарны, но очень симпатичны. Молодой автор не находит слов, чтобы достаточно восхвалить заботы прусского правительства о народном благосостоянии, о народном образовании и т. д. А некоторые размышления Лажечникова крайне замечательны для адъютанта, завертевшегося в вихре придворной жизни. Описывает он, например, как, благодаря радушию немцев, приветливо встречавших русских, ему и его спутнику удалось счастливо пропутешествовать в 1813 г. по Северной Германии, когда они вместе с герцогом Мекленбургским отправлялись на родину герцога.
«Среди солдатского похода мы совершаем самое приятное путешествие, и бедные, как Иры, наслаждаемся, подобно Крезам. Пользуйся настоящим! – говорят любезные учителя счастия, – и мы в строгой точности повинуемся их учению. Следуя со станции на другую в покойной коляске на четырех быстрых конях, покоясь на хороших постелях, сидя за блюдом форелей или фазана, любуясь ключом шампанского, бьющего со дна прадедовского бокала, или слушая, как сок гренадских апельсинов с песком американского тростника бунтует в портере, обогащаясь каждый час новыми дарами природы и искусства, – спрашиваем, улыбаясь, друг у друга: «Не охает ли какая-нибудь тысяча душ от роскошного нашего путешествия? Не имеем ли нужды послать приказ к бурмистрам и старостам нашим о накладке на крестьян оброка?.. Слава Богу! Удовольствия наши не покупаются ценою кровавого пота подобных нам».
Судя по этим словам, совершенно идущим вразрез с крепостнически-реакционным направлением аракчеевской эпохи, можно предположить, что не вращайся Лажечников почти исключительно в кругу адъютантов и писателей ультраблагонравного направления: Воейкова, Вяземского, Жуковского, Греча (см. «Мое знакомство с Пушкиным»), он, очень может быть, окончил бы жизнь где-нибудь на Кавказе вместе с Одоевским или Марлинским. И в самом деле, кроме только что приведенного места, в «Походных записках» встречается множество таких шпилек современным порядкам, которые ясно показывают, что Лажечников, при сравнении наших порядков с заграничными, весьма часто выносил именно те же самые впечатления, как и друзья Марлинского и Одоевского, в которых заграничный поход заронил первые семена оппозиции и неудовольствия. Сплошь да рядом мыслящий молодой офицер, наблюдая иностранную жизнь, задает себе вопрос: отчего же у нас совсем иначе, отчего у нас все так плохо и неустроенно?
Но мягкая и незлобивая натура удерживала Лажечникова от каких бы то ни было резких выводов. Поэтому, рядом с легким вольнодумством, «Походные записки» полны наиказеннейшего патриотизма, а кое-где попадается и сервильность. Эта сервильность во всяком другом была бы противна. Но мы знаем, как мало извлек пользы себе Лажечников из близости к высокопоставленным лицам и «сферам». Поэтому и мнимая сервильность его превращается для нас в симпатичную преданность и энтузиазм.
Что же касается совмещения в «Походных записках» одновременно и оппозиции и благонравия, то это противоречие очень легко будет устранено, если читатель вспомнит про те две отправные точки, с которых, по нашему мнению, следует рассматривать деятельность Лажечникова. Среда и время приобщили его к официальному благонравию и казенному патриотизму, но чистота натуры никогда не пускала его закрывать глаза на правду, как бы она ни противоречила официально установленным шаблонам.
Эта же чистота натуры спасала Лажечникова от опасности замараться в грязи, как бы близко к ней судьба ни поставила его. Чтобы, например, подумали мы о всяком другом, прочитавши следующее: «Обстоятельства поставили меня в близкие отношения к М. Л. Магницкому, когда он стоял на вершине своего служебного поприща и во время его падения; я пользовался его горячим, порывистым благорасположением, слыл даже лет пять его любимцем! («Как я знал М.Л. Магницкого». «Русский вестник», 66 г., № 1). Мы бы несомненно подумали, что такой человек был одним из приспешников того знаменитого мракобесия, которым Магницкий обессмертил себя в летописях ретроградства. На самом же деле Лажечников своею близостью к Магницкому воспользовался исключительно для хорошего. Исследования гг. Попова и Феоктистова вывели на свет Божий всякие делишки не только главных, но и самых незначительных приспешников Магницкого. Ясно, значит, если «любимец» Магницкого чем-нибудь захотел бы подслужиться своему патрону, это бы, конечно, оставило след в бумагах университетского и министерского архивов, где на позор прислужников сохранились все проявления угодничества их. Лажечников полгода исправлял должность инспектора студентов казанского университета – должность важную и доверенную, состоя на которой всякий другой, более ловкий, чем Лажечников, человек уж непременно «заявил» бы себя и, ео ipso, попал бы, конечно, и в разоблачении гг. Феоктистова и Попова, в которых, однако, ничего нет о нашем романисте, занимавшем кроме должности инспектора еще такое важное место, как директора казанской гимназии.
Все эти соображения мы приводим, так сказать, на всякий случай. Собственно говоря, они совершенно излишни, потому что испытанная всеми, кто когда-либо сталкивался с Лажечниковым, засвидетельствованная прямота натуры его, должна нам служить достаточной гарантией для того, чтобы безбоязненно судить об отношениях Лажечникова к Магницкому, по воспоминаниям об этом самого же Лажечникова. Вполне можем поверить Лажечникову, когда из его воспоминаний видим, что, состоя инспектором университета, он не гнул студентов в угоду Магницкому, не следил инквизиторски за их «духом», как полагалось бы. Можем вполне поверить Лажечникову, когда он сообщает, что ни разу ни одного студента не сажал в карцер, – факт, вполне гармонирующий со всем известной добротой его.
Нужно и то сказать, что Лажечникову не должно было быть особенно трудно ладить с Магницким. Прежде всего, конечно, Магницкий имел достаточный «решпект» перед таким лицом, как Остерман-Толстой, по рекомендации которого он принял Лажечникова на службу, и перед пожалованием ему часов от императрицы, что избавляло Магницкого от ответственности за политическую благонамеренность Лажечникова. Но и помимо всего этого известно, что больше всего Магницкий налегал на религиозность. Первым делом при свидании Лажечникова с Магницким у них зашла речь о религиозных убеждениях. Лажечникову не было никакой надобности лицемерить; он всю свою жизнь был человеком глубоко религиозным, даже ортодоксально религиозным. Главное, значит, было улажено. Но, с другой стороны, искренность этой же самой религиозности, которая первоначально свела Лажечникова с Магницким, удержала его от каких бы то ни было действий в духе мниморелигиозного ханжества попечителя Казанского округа. Истинная, искренняя религиозность никогда не унижается до нелепого религиозного формализма и внешнего благочестия, которым ознаменовалась «христианская» деятельность Магницкого. И тут, как и в продолжение всей его жизни, чистота, глубина и искренность натуры предохранили Лажечникова от всего того, что сделало ненавистным других представителей ортодоксально-патриотического направления.
Своей близостью к Магницкому Лажечников, как мы уже сказали, воспользовался только для хорошего. Ему народное образование Казанского учебного округа обязано весьма многим. Определенный, тотчас по поступлении на службу по министерству народного просвещения, директором училищ Пензенской губернии и вскоре затем посланный визитатором саратовских училищ, он крайне добросовестно отнесся к порученному ему делу, что доказывается усиленной благодарностью Магницкого, который, при всем своем ханжестве, был человек очень деятельный и любил, чтобы его подчиненные добросовестно, а не только формально, исполняли свое дело. И так как по отношению к низшим и среднеучебным заведениям «политика» могла играть только очень второстепенную роль, то нам нет никакого основания не вменять Лажечникову в заслугу благодарности Магницкого: она действительно доказывает, что Лажечников как следует отнесся к своей обязанности– привести в порядок крайне запущенную учебно-педагогическую часть пензенской гимназии и других училищ Пензенской и Саратовской губерний. «Отдавая полную справедливость трудам вашим, усердию к службе и основательным сведениям по управлению учебными заведениями в христианском духе», – писал Магницкий Лажечникову. «Заметьте слова: «в христианском духе», – обижается Лажечников. – Уж, конечно, в этом духе, потому что я исполнял свои обязанности по долгу совести». Подтвердим и мы, что «по долгу совести», потому что кроме благодарности Магницкого, для многих, может быть, неисправимо подозрительной, у нас есть еще одно блистательное доказательство: во время визитации училищ завязалась та тесная дружба Лажечникова с Белинским, которая составляет одну из самых светлых страниц в биографии нашего романиста. Уж, конечно, Белинский не отдал бы своих симпатий человеку, который «христианский дух» понял бы в смысле Магницкого. Уж, конечно, если бы ревизия Лажечникова и управление им пензенской гимназией оставили по себе неприятные воспоминания, Белинский и его товарищи не обратились бы первым делом, по приезде в Москву, к Лажечникову за протекцией и не писал бы Белинский своему учителю M. M. Попову тотчас после первого визита у Лажечникова в Москве: «Вы доставили мне случай видеть человека, которого я всегда любил, уважал, любил видеть и говорить с ним».
Нам нет надобности много останавливаться на характерной дружбе «великого мученика правды» и «любимца» Магницкого. От этого нас освобождают вошедшие в настоящее издание «Заметки для биографии Белинского», впервые, так сказать, вытащенные на свет Божий (помещенная первоначально в крайне малораспространенной еженедельной газете «Московский вестник» за 1859 год, эта в высшей степени интересная статья почти неизвестна и самым записным любителям литературы). По свойственной Лажечникову скромности, он в «Заметках» весьма много говорит о своих чувствах к Белинскому и весьма мало о чувствах Белинского к нему. Но и этого малого достаточно, чтобы видеть, что Белинский, не только тотчас по приезде своем в Москву (в 1830 году), «всегда любил и уважал Лажечникова, любил видеть и говорить с ним». Белинский до конца дней своих всегда прекрасно относился к Лажечникову и своими восторженными рецензиями о его романах немало укрепил славу их. Личные отношения их были самые задушевные. «Пока я жил в Москве, он нередко посещал меня; мы сблизились, несмотря на расстояние лет; не было заботы и надежды, не было юношеского увлечения, которых он не поверял бы мне; случалось мне и отечески пожурить его». Последнее подтверждается и материалами биографии Белинского, помещенными кн. Енгалычевым в «Русс. старине» 1876 года. Из них мы видим, что Белинский читал Лажечникову своего «Владимира» – это пламенный протест против крепостного права, и как Лажечников, сам возмущавшийся крепостным правом, сам при своем служебном положении решившийся заявить некоторый протест против крепостного права и в «Походных записках», и в «Последнем Новике», тем не менее действительно «отечески» советовал своему пылкому молодому другу оставить у себя в портфеле злополучную драму, которая-таки и вышвырнула Белинского из университета. Узнаем мы также из «Материалов» кн. Енгалычева, как и из «Заметок», впрочем, как Лажечников хлопотал за Белинского при поступлении им в университет.
Когда же Белинский оставил университет, Лажечников помогал ему в приискании занятий.
С течением времени, по мере того как Белинский все больше й больше уклонялся влево, взаимные отношения пламенного представителя нарождавшегося поколения и приближавшегося к пятидесятому году романиста оставались, однако, все в той же степени дружественные. Значение этого факта всего лучше будет установить свидетельством современника– «Литературными воспоминаниями» Панаева: «По мере того, как Белинский возбуждал к себе все большую любовь и уважение нового поколения литературного и нелитературного, старое литературное поколение смотрело на него все с большим ожесточением и бессильной злобой. Один из всех старых литературных авторитетов – И. И. Лажечников искренно дорожил его мнением и в каждый приезд свой в Петербург посещал его».
«И. И. Лажечников, – продолжает Панаев, – принадлежит[2]2
«Воспоминания» печатались еще при жизни Лажечникова.
[Закрыть] к тем живым, избранным и редким натурам, которые никогда не стареются духовно и потому чувствуют всегда большую наклонность к молодым поколениям. За это их не очень жалуют их сверстники и вообще все отсталые люди, идеал которых не в будущем, а в прошедшем. Лажечников едва ли не единственный из литераторов своего времени, за исключением князя Одоевского, искренно и без всякой задней мысли, с полным сочувствием всегда протягивавший руку всем замечательным деятелям последующих литературных поколений».
После смерти Белинского Лажечников, все более и более приближаясь к старости и даже дряхлости, тем не менее оставался страстным почитателем его памяти. «Заметки», писанные Лажечниковым в 1859 году, следовательно, на 67-м году жизни, дышат таким лирическим восторгом, такой пламенной любовью к великому критику и его деятельности, что сделали бы честь и сердцу юноши.
Восемь лет спустя, значит семидесятипятилетним стариком, Лажечников выпустил отдельным изданием своего «Опричника». Оно посвящено «памяти В. Г. Белинского». Это простенькое посвящение, однако, не лишено значения, потому что в 1867-м уже настолько сильно подули разные обратные зефиры, что многие прежние друзья Белинского поспешили забыть о своей дружбе с «неистовым Виссарионом» и уж во всяком случае не выставляли ее напоказ. Лажечников в это время как раз вращался в среде отрекшихся от Белинского прежних друзей его, самая книжка с посвящением напечатана в типографии такого бывшего друга Белинского; в его журнале Лажечников в это время печатал свои произведения, в его лицей он определил своего сына. Не без влияния осталась эта среда – под давлением ее была написана «Внучка панцирного боярина», где запаха Страстного бульвара немало. Но уважение к Белинскому сидело слишком глубоко в Лажечникове. Этот талисман прежних дней он сохранял свято.
VII
Служба Лажечникова в Казанском округе, или, как он сам называет ее, «казанское пленение», – так ему было противно видеть мракобесие и дикое ханжество Магницкого, – продолжалась шесть лет. В конце 1820 года, он, как уже сказано, был назначен директором училищ Пензенской губернии и вскоре затем послан визитатором саратовских училищ. В декабре 1823 года Магницкий, в благодарность за успешную визитацию, назначил Лажечникова директором Императорской казанской гимназии и директором училищ Казанской губернии.
Состоя в должности директора казанской гимназии, в которой учился Державин, Лажечников воспользовался своей близостью к Магницкому, чтобы выдвинуть идею о постановке памятника певцу «Водопада». Опять-таки, значит, воспользовался своим положением «любимца» для хорошего дела, по крайней мере, по мнению Лажечникова. Да и кто тогда не поклонялся величию Державина, кто не считал полезным для отечества делом увековечение памяти столь великого песнопевца? «На торжественном акте гимназии, в конце 1825 года, в речи, им произнесенной, Лажечников в первый раз горячо выразил обязанность соорудить в Казани памятник Державину, ученику казанской гимназии. Смело можно сказать, что речь эта была первым краеугольным камнем, поставленным в основание памятника» (Автобиография Публичной библиотеки). Речь Лажечникова через два года была напечатана в издававшемся Воейковым «Славянине», откуда узнаем, что тотчас после речи присутствовавший на акте «господин управляющий Казанской губернией, статский советник А. Я. Жмакин, всегда готовый содействовать благонамеренным видам, клонящимся к пользе и славе отечества, изъявил ревностное желание собранием пожертвований осуществить предложение г. директора, в случае соизволения на это высшего начальства» («Славянин», 1827 г., стр. 438). Соизволение последовало, так что Лажечников по праву мог сказать: «последствия (поддержки Жмакина) известны: памятник Державину стоит на площади против университета. Горжусь, что я положил первый камень в основание этого памятника» («Как я знал Магницкого»).
В конце 1825 и начале 1826 года Лажечников несколько месяцев исправлял должность инспектора студентов и вскоре затем, вырвавшись «из плена казанского», вышел в отставку и поселился в Москве.
«В это время, – пишет Лажечников в Автобиографии Публичной библиотеки, – задумал он своего «Последнего Новика», собирал для него исторические материалы и, чтобы вернее изобразить места, где происходили события избранной им эпохи, сделал путешествие в Лифляндию, которую исколесил вдоль и поперек, большей частью проселочными дорогами».
Итак, только тридцати лет от роду Лажечников ступил, наконец, на настоящую дорогу, и только через пять лет, т. е. имея уже целых сорок лет за собой, он выступил перед публикой в качестве исторического романиста. Так что вполне прав был Белинский, когда, говоря о «Новике» в «Литературных мечтаниях» и перечисляя разные качества Лажечникова: «талант, образованность, пламенное чувство», прибавлял к ним, на основании своих частных сведений, «опыт лет и жизни». Но имел ли, однако, этот опыт какое-нибудь существенное влияние на творчество нашего романиста? «Умудрил ли» его этот опыт в том смысле, как он умудряет огромнейшее большинство людей, то есть показал ли ему тщету стремления к правде и идеалу? Ничуть. Мы уже несколько знаем из истории его отношений к Белинскому и еще больше убедимся в этом из дальнейших свидетельств разных лиц, знавших Лажечникова, как он до самой глубокой старости оставался чистым и увлекающимся юношей. Только в том отношении опыт лет повлиял на Лажечникова, что уничтожил в нем чрезмерную сантиментальность на карамзинский образец. Но преклонение перед добром и благородством, уверенность, что ими должна направляться жизнь наша, глубина чувства и поэзия, – все это свято и нерушимо хранил в себе Лажечников в продолжение всей своей жизни, и все это придает еще до сих пор неотразимую прелесть всем его произведениям, несмотря на все их недостатки с точки зрения современных требований искусства. Даже в шестидесятых годах, когда ни о какой исторической критике и слышать не хотели, когда валили Пушкина, чистота души Лажечникова, так ясно сквозящая через все его произведения, не оставалась без влияния на суровых рецензентов того времени и заставляла их мягко относиться даже к слабым произведениям последних лет его жизни, – произведениям, в которых было меньше таланта, чем в «Новике», «Ледяном доме» и «Басурмане», но столько же пламенной любви к добру и красоте.
Но если такое обаяние производил ансамбль творческой личности Лажечникова еще в шестидесятых годах, то нетрудно представить себе, какой восторг должны были возбудить романы его, – эти страстные апологии благородства и возвышенности, – в тридцатых и сороковых годах, в эпоху чувства и экспансивности по преимуществу. И действительно, с появления первых же частей «Новика» начинается жгучая популярность Лажечникова, быстро затмившая популярность всех других прозаиков той эпохи и поставившая его в ряд первоклассных литературных деятелей своего времени.
Что же такое представлял собой этот роман, который, по отзыву Белинского, «есть произведение необыкновенное, ознаменованное печатью высокого таланта»?
«Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне», – прямо заявляет Лажечников в 1-й главе «Последнего Новика».
Этими немногими словами определена вся сущность романа, все его достоинства и недостатки. «Последний Новик» в полном смысле слова – апофеоз любви к родине, правда, любви, современного человека не особенно-то удовлетворяющей, но тем не менее искренней и горячей. Немного найдется в русской литературе произведений, которые в такой степени были бы проникнуты восторженной привязанностью к родной стране, как «Последний Новик». Даже среди романов самого Лажечникова, всегда и неизменно клонящихся к прославлению родины, «Новик» выделяется своим горячим патриотизмом. В «Ледяном доме», например, патриотизм Волынского если и составляет один из главных узлов романа, то все-таки не единственный. Не меньшую роль играет в романе и страстность его, а также действия Бирона и его приверженцев. Но в «Последнем Новике» все творческое внима. ние автора сосредоточено на лицах, посвятивших себя служению родине. Не только главные лица романа, Паткуль и Новик, отдали всю свою жизнь благу отчизны, но даже второстепенные – капитан Вульф, геройски себя взрывающий, дабы не посрамить чести шведского знамени, князь Вадбольский, карла Шереметева, Голиаф Самсоныч, сам Шереметев, Траутфеттеры, изнывающий от тоски по родине швейцарец, отец Розы, целая многочисленная галерея патриотов-солдат, наконец, Петр, Меньшиков, – все они постоянно думают о благе родины, отодвигая на задний план все другие свои интересы. Самый выбор сюжета, именно завоевание русскими Лифляндии, обусловлен патриотизмом автора. «На случай вопроса: почему избрал я сценой для русского исторического романа Лифляндию», автор поясняет, что остальные места России или не имеют исторических воспоминаний, следовательно, не возбуждают народной гордости, или Же достаточно для последней цели эксплуатированы разными писателями. Лифляндия же – «Эрастфер, Гуммельсгоф, Мариенбург, Канцы, Луст-Эйланд – ныне имена мест, едва известные русским, между тем как в них происходили великие явления», очень почетные для России: «везде родное имя торжествует; нигде не унижено оно».
Если такое страстное и искреннее желание прославить родину, усилить любовь к ней сынов ее воспоминаниями о славном прошлом не может не расположить к себе читателя и составляет, следовательно, одну из сильных сторон романа, то, с другой стороны, этот же пламенный патриотизм значительно повредил «Последнему Новику». Даже оставляя на время без внимания то обстоятельство, что патриотизм действующих лиц «Новика» весьма внешнего свойства, нельзя не видеть, что желание Лажечникова создать лицо, которое являлось бы апофеозом любви к родине, завлекло его в непролазные дебри неправдоподобности и искусственности. Главный герой романа, давший ему название, Новик Владимир – фигура крайне неудачная, безжизненная, состоящая из одной только любви к родине, без всякой примеси каких бы то ни было других чувств и страстей. А между тем сам же автор, рассказывая жизнь Новика до того, как начался роман, представляет его человеком крайне необузданного нрава и честолюбия. Эта же необузданность проявляется с ужасной силой в конце романа, точно Новик хотел сразу освободить весь запас страсти, накопившейся у него в течение долгого мыкания за пределами России. Очевидно, значит, у Лажечникова была мысль рельефно показать, до какой степени любовь к родине облагораживает человека. Вышло, однако, не рельефно, а лубочно.
Такого же невысокого калибра обрисовка патриотизма остальных действующих лиц. Он не идет дальше обычных двух пунктов казенного патриотизма того времени: желания, «славы» своему отечеству и покорности. «Слава», конечно, ратная, по преимуществу «русская удаль», «русское молодечество», «голову свою сложим», «не посрамим земли русской», «верные слуги» и т. д., все в том же ортодоксально-благонамеренном роде, – вот элементы этой «славы», распространяться о которых нет надобности, потому что мы по горло достаточно знакомы с ними по малиновому звону передовиц «Руси» и грому статей «Московских ведомостей». Но, понятно, что мы не можем относиться к Лажечникову за его внешний и казенный патриотизм с такой же ненавистью, с какой относимся к Каткову и Аксакову. Это люди, которые имеют возможность быть истинными патриотами, но не желают, а Лажечников был не более как сын своего века. Вспомните, что и Белинский написал «Бородинскую годовщину». Перечтите, наконец, произведения самого Рылеева, его «Ивана Сусанина» и др., и вы увидите, в какую страшную ошибку впадете, если вмените Лажечникову в вину то, что было достоянием почти всей тогдашней интеллигенции, за самыми ничтожными исключениями. Притом же, как уже намечено нами в начале настоящего очерка, внешний патриотизм с такой искренностью и страстностью исповедуется Лажечниковым, что в этом следует видеть исключительно заблуждение ума, и притом не индивидуальное. Когда мысль века получила другое направление, Лажечников с пламенным восторгом примкнул к периоду реформ, наступившему после Крымской войны. Все это оттого, что в чистоте и искренности патриотизма Лажечникова, хотя бы и внешнего, таился источник чуткости ко всему хорошему. Вот почему вы и в настоящее время смело можете рекомендовать всякому юноше романы Лажечникова, между тем как вы его всеми силами постараетесь отговорить от «Руси» и «Московских ведомостей». В «Руси» и «Московских ведомостях» фальшь преднамеренная и корыстная, будящая самые отвратительные инстинкты, а у Лажечникова если и заблуждение, то не преднамеренное, но зато столько искреннего чувства и увлечения, которое в восприимчивой душе вызовет непременно такой же отзвук. А уж дать ему другое направление, раз добывши золотую руду, сделать из него надлежащее употребление – это уже дело нетрудное.
Но есть, впрочем, в патриотизме Лажечникова, и именно в патриотизме, которым он наделил Владимира, одна черта, по нашему мнению, крайне замечательная и с современной точки зрения. Мы говорим о той готовности, с которой Новик исполнял роль шпиона. Один из позднейших критиков Лажечникова – господин Нелюбов, автор в общем не лишенной достоинств статьи о нашем романисте («Русский вестник» 1869 г., № 10), об этом факте вот какого мнения: «В главной личности романа, в характере Новика, есть сторона, с которой нравственное чувство читателя не может примириться. Средства, к которым прибегает Владимир для того, чтобы загладить свои преступления перед Петром Великим, в глазах Петра могли уменьшить вину Новика, но в глазах читателя могут только ее увеличить. Читателю бывший преступник не делается милее от того только, что он превратился в шпиона и лицемера; напротив, он только падает в глазах читателя, и нужна вся теплота и вся поэзия автора, чтобы картиной страдающей и неутолимой любви Новика к России заставить забыть тот способ действий, к которому эта любовь привела героя». Думаем, совсем наоборот. Именно современному читателю образ действий Владимира может показаться крайне симпатичным. Именно современный читатель, отставший от формалистики в нравственных вопросах, может увидеть в шпионстве Новика факт высокого героизма и необыкновенную глубину патриотизма. Не особенно трудно любить родину под звуки торжественных труб и литавр, когда вас ждет за это и почет, и слава, и всяческие блага земные; не особенно трудно любить родину в парадной одежде дипломата, в почетной роли патриотического журналиста, романиста и т. д.; естественно также быть патриотом, когда защищаешь неприкосновенность своего жилища, своего домашнего очага, но громаднейший запас истинного, глубокого и бескорыстнейшего патриотизма нужно иметь в себе, чтобы приносить пользу родине, взявши на себя весь позор так называемых «нечистых средств»!.. Ведь нелегко прибегать к ним. Не раз, конечно, у Владимира, поставившего суть выше формалистики, обливалось сердце кровью, когда приходилось накликать гибель на людей, лиц, в сущности не виноватых же тем, что судьба поставила их по пути осуществления известного идеала; не раз, конечно, целый ад кипел в груди, когда он решался на ту или другую меру, по существу своему глубоко омерзительную и, однако же, единственно действительную при известным образом сложившихся обстоятельствах. Положение нечеловечески мучительное, безысходный трагизм которого один только и дает возможность вынести душу свою из этой грязи столь же чистой, какой и окунаешь ее туда…








