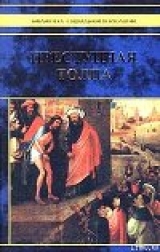
Текст книги "Преступная толпа. Опыт коллективной психологии"
Автор книги: Сципион Сигеле
Жанр:
Психология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
III.
Простое и логическое заключение, вытекающее из сделанных нами выше наблюдений, может быть вкратце резюмировано следующим образом: Принцип Спенсера – характер агрегата определяется характером единиц, его составляющих, – совершенно точен и может быть применим во всей своей полноте в том случае, когда речь идёт об агрегатах, составленных из однородных и органически между собою соединённых единиц; но он перестаёт быть совершенно точным и может быть понимаем только в очень узком смысле, когда говорится об имеющих малую однородность и ничтожную органическую связь единицах.
Наконец он делается совершенно ложным и неприменимым, когда агрегат состоит из неоднородных и неорганических единиц.
Эта эволюция в применении Спенсерова принципа к человеческим агрегатам ясно указывает нам на то, что там, где эти агрегаты однородны и связаны органически, они управляются социальными законами, – которые, как мы сказали, хотя и более широки, но параллельны законам индивидуальной психологии, – тогда как, по мере того, как агрегаты делаются менее однородными и органическая связь их уменьшается, – возможность применять к ним социальные законы делается гораздо меньшей, и последние заменяются законами коллективной психологии, которые, как было сказано, совершенно отличны от законов индивидуальной психологии.
Коллективная психология занимает совершенно другую сферу и в своём развитии идёт по пути, диаметрально противоположному социологии; она имеет права гражданства там, где последняя вовсе не имеет места, и её законы управляют там, над чем социологические законы потеряли свою власть.
Чем более временно и случайно собрание индивидов, чем более оно является неорганическим, тем далее отстоит оно от Спенсеровой аксиомы и тем скорее входит в сферу наблюдений коллективной психологии.
Среди названных нами человеческих агрегатов, более или менее разнородных и неорганических, каковы: суд присяжных, съезды, театры, вообще всякого рода кратковременные собрания, которые более чем всякие другие не подчинены законам социологии и вполне управляются законами коллективной психологии, можно, если не ошибаемся, назвать толпу.
В самом деле, толпа представляет из себя человеческой агрегат, разнородный по преимуществу, так как она составлена из индивидов обоего пола, всех возрастов, классов, социальных состояний, всех степеней нравственности и культуры, и по преимуществу же неорганический, так как она образуется без предварительного соглашения, произвольно, неожиданно.
Изучение психологии толпы будет, таким образом, изучением коллективной психологии при помощи явлений, лучше, чем всякие другие, позволяющих исследовать её законы и обнаружить их действие.
Вот скромное предположение того, что мы намерены сделать в этом сочинении, чтобы в конце концов быть в состоянии дать себе точный отчёт в природе преступлений толпы и опасности их для общества.
Глава первая. Психофизиология толпы.
Вопрос об уголовной ответственности сравнительно прост, если виновником преступления является одно лицо. Напротив, он значительно осложняется, когда в одном и том же преступлении участвует много лиц, так как тогда нужно исследовать участие, которое принимал каждый в данном преступном действии. Но вопрос делается крайне трудным, когда виновниками преступления является не несколько лиц, даже не много лиц, а очень большое число их, столь большое, что его трудно точно определить.
Приведение в исполнение присуждённого наказания, лёгкое в первом случае и более трудное во втором, в последнем случае делается совершенно невозможным, потому что неизвестно, где найти истинных преступников, и нет, таким образом, возможности их наказать.
Как же тогда поступают? Одни, следуя ужасному военному закону наказания через 10-го, т. е., наказав нескольких человек, с успехом, но часто без всякого смысла, прекращают в толпе волнение и внушают ей страх. Другие, следуя примеру Тарквиния (что бесспорно будет более логично, но всё же далеко не вполне справедливо), рассуждавшего, что для победы над врагами необходимо поражать самых высоких, – наказывают главных зачинщиков и подстрекателей, в которых никогда нет недостатка в толпе.
Поставленные между этими двумя нелогичными выводами, народные судьи часто оставляют всех на свободе, поступая таким образом по словам Тацита, сказавшего, что «там, где виновных много, не должно наказывать никого». Это и будет тот случай, когда, как говорит Пеллегрино Росси, благодаря глупому рассуждению, виновные остаются безнаказанными.
Но справедлива ли безнаказанность? Если она справедлива, то на каком основании? Если же наоборот, то каким же тогда образом противодействовать преступлениям, совершаемым толпою? Ответить на эти вопросы и будет целью нашего сочинения.
I.
Классическая школа уголовного права никогда не задавала себе вопроса, должно ли преступление, совершённое толпою, наказываться так же, как преступление одного человека. И это было вполне естественно. Ей было совершенно достаточно изучить преступление, как юридическую субстанцию; преступник был у неё на втором плане; это был X, которого не хотели и не умели определить. Для неё очень мало значения имело то обстоятельство, происходил ли преступник от эпилептических или пьянствующих родителей, или же от здоровых; принадлежал ли он к той или другой расе, родился в холодном или жарком климате, был ли он до этого хорошего или дурного поведения. Знание условий, при которых было совершено преступление, тоже казалось ей не имеющим значения. В её глазах, как бы преступник ни действовал: один ли, или под влиянием толпы, возбуждавшей и опьянявшей его своими криками, – всегда причиной, толкавшей его на преступление, была его свободная воля. За один и тот же проступок всегда назначалось одно и то же наказание.
При таком юридическом принципе действия судей были логичны; при отсутствии же этого принципа их выводы должны были пасть сами собой. Это и случилось.
Позитивная школа доказала, что свободная воля – иллюзия сознания; она открыла неизвестный до сих пор мир антропологических, физических и социальных факторов преступления и подняла до юридического принципа идею, которая бессознательно уже чувствовалась всеми, но не могла найти себе места среди строгих юридических формул, – идею о том, что преступление, совершённое толпою, должно судиться отлично от того преступления, которое совершено одним лицом, и это потому, что в первом и во втором случаях участие, принимаемое антропологическими и социальными факторами, совершенно различно.
Пюльезе первый изложил в брошюре, озаглавленной «О коллективном преступлении», доктрину уголовной ответственности за коллективное преступление. Он допускает полу-ответственность для всех тех, которые совершили преступление, увлечённые толпой.
"Когда, – писал он, – преступником является толпа или бунтующий народ, то индивид не действует, как отдельный элемент, но представляет из себя каплю выступившего из берегов потока, и руки, которыми он наносит удары, как бы сами собой превращаются в бессознательное орудие".
Я пополнил мысль Пюльезе, попытавшись при помощи некоторого сравнения дать антропологическую подкладку его теории: я сравнил в последующих главах преступление, совершённое под влиянием толпы, с преступлением отдельного лица, совершенным под влиянием страсти.
Пюльезе назвал коллективным преступлением то странное и сложное явление, когда толпа совершает преступление, увлечённая чарующими словами демагога или раздражённая каким-нибудь фактом, который является несправедливостью или обидой по отношению к ней, или хотя бы кажется ей таковым. Я предпочёл называть такой факт просто преступлением толпы, так как, по моему мнению, существуют два вида коллективных преступлений, которые необходимо ясно различать: есть преступления, совершённые вследствие общего всему агрегату природного к ним влечения, каковы: разбой, каморра, мафия, и есть преступления, вызванные страстями, выражающиеся самым ясным образом в преступлениях толпы.
Первый случай аналогичен преступлению, совершенному прирождённым преступником, а второй – такому, которое совершено случайным преступником.
Первое всегда может быть предупреждено, второе – никогда. В первом одерживает верх антропологический фактор, во втором господствует фактор социальный. Первое возбуждает постоянный и весьма сильный ужас против лиц, его совершивших; второе – только лёгкое и кратковременное спасение.
Итак, предложенная Пюльезе полуответственность за преступления, совершённые толпою, была справедлива если и не сама по себе, то как средство достичь намеченной цели.
Самым лучшим достижением желанной цели в каком-нибудь частном случае будет по-видимому применение полуответственности, так как при этом преступление массы будет наказано с большей снисходительностью, чем преступление одного индивида.
Но, говоря научным языком, полуответственность равносильна абсурду, особенно в глазах людей, держащихся того мнения, что человек всегда вполне ответствен за все свои поступки.
Позитивная теория должна быть обоснована иначе.
Нам незачем искать, ответственны или полуответственны виновники преступления, совершенного разъярённою толпою, – старые формулы, выражающие глупые идеи; мы должны только найти наиболее целесообразный способ для того, чтобы им противодействовать. Вот задача, которую нам необходимо решить.
II.
Прежде чем определить болезнь и прописать лекарство, необходимо сделать ей диагноз. Точно также, прежде чем рассуждать о том, что такое преступление толпы и какие существуют средства для его уничтожения, необходимо сначала изучить его в его проявлениях.
Итак, прежде всего мы исследуем, какие чувства заставляют толпу действовать, и затем попытаемся изложить её психологию.
"Толпа, – писал Тард, – это – груда разнородных, незнакомых между собою элементов. Лишь только искра страсти, перескакивая от одного к другому, наэлектризует эту нестройную массу, последняя получает нечто вроде внезапной, самопроизвольно зарождающейся организации. Разрозненность переходит в связь, шум обращается в нечто чудовищное, стремящееся к своей цели с неудержимым упорством. Большинство пришло сюда, движимое простым любопытством; но лихорадка, охватившая нескольких, внезапно завладевает сердцами всех, и все стремятся к разрушению. Человек, прибежавший только с тем, чтобы воспрепятствовать смерти невинного, одним из первых заражается стремлением к человекоубийству и, что ещё удивительнее, совершенно не удивляется этому".
Что непонятно в толпе, так это – её внезапная организация. В ней нет никакого предварительного стремления к общей цели, следовательно невозможно, чтобы она обладала коллективным желанием, обусловленным возбуждёнными элементарными силами всех составляющих её лиц. Между тем, среди бесконечного разнообразия её движений мы видим некоторую целесообразность в поступках и стремлениях и слышим определённую ноту, несмотря на диссонанс тысячи голосов. Само слово толпа, как имя собирательное, указывает на то, что масса отдельных личностей отождествляется с одной личностью. Таким образом, является настоятельной необходимостью определить – хотя бы и не было возможности дать себе в этом ясного отчёта – действие того нечто, которое служит причиной единства мыслей, наблюдаемого в толпе. Это нечто не есть появление на сцене самых низких умственных сил и вместе с тем не может претендовать на степень известной интеллектуальной способности; поэтому наиболее подходящим для него определением будет: душа толпы.
Откуда же берёт начало эта душа толпы ? Возникает ли она каким-нибудь чудом? Представляет ли она явление, от объяснения причин которого должно отказаться? Основывается ли она на какой-нибудь примитивной человеческой способности? Как объяснить, что какой-нибудь сигнал, голос, крик одного индивида увлекает подчас к самым ужасным крайностям целые народы, даже без всякого с их стороны согласия?
По мнению Бордье, причиной этого: «способность подражания, имеющая целью – подобно диффузии газов, стремящейся уравновесить газовое давление, – уравновесить социальную среду во всех её частях, уничтожить оригинальность, сделать однообразными характерные черты известной эпохи, известной страны, города, малого кружка друзей. Каждый человек расположен к подражанию, и эта способность достигает maximum'a у людей, собранных вместе. Доказательством последнему могут служить театральные залы и публичные собрания, где малейшего хлопанья руками, малейшего свистка достаточно, чтобы побудить к тому или другому всю залу».
И действительно, стремление человека к подражанию – одна из самых резких черт его природы; это – неоспоримая и неоспариваемая истина. Достаточно бросить взгляд вокруг себя, чтобы увидеть, что весь социальный мир представляет из себя не что иное, как ряд сходств, произведённых разнообразными видами подражания: подражанием-модой или подражанием-привычкой, подражанием-симпатией или подражанием-повиновением, подражанием-образованием или подражанием-воспитанием, наконец добровольными рефлективными подражаниями.[4]4
Г. Тард. «Законы подражания», гл. I.
[Закрыть]
С известной точки зрения, общество может быть уподоблено спокойному озеру, в которое от времени до времени бросают камни; волны расширяются, распространяясь всё дальше и дальше от того места, где упал камень, и достигают наконец берегов. То же бывает в мире – с гением: он бросает идею в стоячее болото интеллектуальной посредственности, и эта идея, найдя сначала немного последователей и плохую оценку, распространяется впоследствии подобно волне на гладкой поверхности озера.
Люди, по словам Тарда, это – стадо овец, среди которых рождается подчас глупая овца, гений, которая одною только силою примера увлекает за собою других.
И в самом деле, все существующее, представляющее результат человеческого труда – начиная от материальных предметов и кончая идеями – представляет собою подражание или более или менее изменённое повторение идей, открытых когда-то более высокой личностью. Подобно тому, как все употребляемые нами слова, сделавшиеся в настоящее время весьма обыкновенными, были некогда новыми, точно также и то, что сегодня известно всем, некогда было весьма оригинальным, принадлежа только одному лицу.
Оригинальность, по весьма остроумному замечанию М. Нордау, есть не что иное, как зародыш банальности. Если оригинальность не заключает в себе условий для дальнейшего существования, то она не находит подражателей и погибает в забвении, подобно тому, как проваливается комедия, освистанная при первой постановке на сцене; если же, наоборот, она заключает в себе зародыш добра или пользы, то подражатели её увеличиваются до бесконечности, как и число представлений какой-нибудь драмы.
Сущность тех идей, которые мы сегодня презираем, благодаря их общеизвестности, была плодом умозаключений древних философов, и самые общие места самых обыкновенных споров начали свою карьеру блестящими искрами оригинальности.
То же самое встречается и в истории великих событий, то же – в хронике общественной жизни. Весь мир – самые серьёзные и самые легкомысленные люди, самые старые и самые молодые, самые образованные и невежи – все обладают, хотя и в различной степени, инстинктом подражания тому, что видят, слышат, знают. Направление общественного мнения – в политике, как и в торговле – всегда определяется этим инстинктом.
"Сегодня, – говорит Беджот, – вы видите людей капитала предприимчивыми, возбуждёнными, полными силы, готовыми купить, готовыми отдавать приказания; неделей позже вы увидите их почти всех унылыми, беспокойными, мучающимися мыслью: как бы продать. Если вы станете доискиваться причин этого пыла, этой вялости, этой перемены, то вы навряд ли их найдёте; если же и сумеете открыть, то они окажутся имеющими очень мало значения. Причин этому на самом деле нет никаких, а есть только инстинкт подражания, направивший общественное мнение в ту или другую сторону. Случись, например, что-нибудь, что может казаться почему-либо радостным, тотчас же пылкие самонадеянные люди подымут голос, и толпа, следуя их примеру, делает то же. Несколько дней спустя, когда уже надоест говорить одним и тем же тоном, случается опять что-нибудь, что на этот раз может казаться несколько менее приятным; тотчас же начинают говорить люди с печальным и беспокойным характером и то, что они говорят, повторяется всеми остальными".
То, что происходит в политике и торговле, встречается и во всех видах человеческой деятельности. Все, начиная с покроя платья и кончая управлением, честные поступки и преступления, самоубийства и сумасшествие, все, как самые ничтожные по значению, так и самые великие, как самые печальные, так и самые весёлые проявления человеческой жизни, – все является продуктом подражания. Таким образом весьма естественно, что это врождённое человеку и животным свойство не только удваивается, но делается даже и во сто раз больше среди толпы, где у всех возбуждено воображение, где единство времени и места ускоряет необычайным, даже страшным образом обмен впечатлений и чувств.
Но сказать, что человек подражает, – для нас в данном случае объяснение весьма недостаточное; нам нужно знать, почему человек подражает, т. е. нам нужно объяснение, не ограничивающееся поверхностной причиной, но открывающее основную причину явления.
Многие писатели, заметив, что подражание принимает подчас весьма резкие формы, распространяясь широко и с большой интенсивностью, и видя сверх того, что оно в некоторых случаях является скорее бессознательным, чем добровольным, пытались объяснить это явление, прибегая к гипотезе о нравственной эпидемии.
"В явлениях подражания, – говорит доктор Эбрар, – есть нечто таинственное, какое-то притяжение, которое лучше всего можно сравнить с неотразимым и всемогущим инстинктом, побуждающим нас, почти без нашего сознания, повторять те действия, которых мы были свидетелями, и которые очень сильно подействовали на наши чувства и воображение. Такого рода действия до того распространены и настолько достоверны, что мы все в большей или меньшей степени подвержены их власти. В них есть особого рода обаяние, против которого не могут устоять некоторые слабые натуры".
Жоли выразился ещё яснее:
«Подражание, это – настоящая эпидемия, зависящая от примера так же, как возможность заразиться оспой зависит от того яда, при помощи которого последняя распространяется. Подобно тому, как в нашем организме находятся болезни, которые ждут самой ничтожной причины, чтобы развиться, точно также в нас находятся страсти, которые остаются немыми, когда работает рассудок, и которые могут проснуться благодаря одному только подражанию».
Депин, Моро де Тур, а впоследствии и много других писателей присоединились к Эбрару и Жоли, и все единодушно уверяли, что нравственная эпидемия так же достоверна, как и другие физические эпидемии.
"Подобно тому, – говорил Депин, – как звук известной высоты заставляет колебаться настроенные в унисон струны, точно также проявление известного чувства или страсти возбуждает тот же элемент, делает его деятельным, приводит его, так сказать, в колебательное движение у всякого индивида, способного по своему нравственному уровню более или менее сильно испытать данное чувство".[5]5
Сила эпидемии в самоубийстве проявляется более, чем во всех, может быть, других явлениях этого рода. Известен случай, когда в 1772 году 15 инвалидов повесились один за другим на одном и том же крюке, находившемся в тёмном коридоре инвалидного дома, в продолжение очень короткого промежутка времени. Известно также, что после того, как какой-то лорд, получивший отвращение к жизни, бросился в кратер Везувия, много англичан следовало его примеру. Можно было бы привести здесь массу подобных фактов.
[Закрыть]
При помощи этой метафоры, если не глубокомысленной, то остроумной, освещающей гипотезу нравственного заражения, многие пытались объяснить не только самые общие, естественные и постоянные случаи подражания, но также более редкие и странные случаи, – эти настоящие эпидемии, распространяющиеся от времени до времени и относящиеся к тому или другому явлению.
На этом основании нравственной эпидемией объяснялись эпидемии самоубийства, следовавшие за каким-нибудь знаменитым самоубийством, весьма сильно заинтересовавшим общественное мнение; равным образом от нравственной эпидемии считали зависящими преступления, следовавшие за каким-нибудь зверским преступлением, о котором много кричали в журналах; по той же самой причине нравственную эпидемию считали причиной тех политических и религиозных движений, которые сразу увлекали целые народы за смелыми словами вдохновлённого трибуна или демагога.
На том же основании – если не на большем – мы можем приписывать нравственной эпидемии все неожиданные и на первый взгляд необъяснимые народные манифестации.
Но удовлетворительно ли подобное объяснение? Разве между нравственным заражением и подражанием, при желании объяснить себе это явление, мы видим что-нибудь кроме разницы в выражениях?
Легко понять, что для того, чтобы сделать объяснение удовлетворительным, нам необходимо знать, каким образом распространяются эти нравственные эпидемии. Иначе мы не подвинемся ни на шаг.
Тард уже более семи лет тому назад понял эту необходимость и предложил новую тогда и очень смелую гипотезу, что нравственные эпидемии имеют причину в явлениях внушения.
"Какова бы ни была клеточная функция, вызывающая мышление, – писал он, – нельзя сомневаться, что она воспроизводится, повторяется внутри мозга в каждое мгновение нашей умственной жизни, и что всякому понятию соответствует определённая клеточная функция. Только такое бесконечное, неистощимое существование этой сложной функции и образует память или привычку, смотря по тому, заключено ли данное многократное повторение в нервной системе или же оно, выйдя из её пределов, овладело мускульной системой. Память, если угодно, является таким образом чистой нервной привычкой, привычка – мускульной памятью".
Если же (я резюмирую теорию Тарда) каждая идея или образ, о которых мы помним, были заложены первоначально в нашем мозгу, благодаря разговору или чтению; если всякое привычное действие ведёт своё начало или от непосредственного наблюдения, или только от знания об аналогичном действии, производимом другим, – то ясно, что эта память и эта привычка, прежде чем сделаться бессознательным подражанием, были более или менее сознательным подражанием внешнему миру.
Таким образом, с психологической точки зрения, вся интеллектуальная жизнь есть не что иное, как внушение, передаваемое одной мозговой клеткой другой; рассматриваемая же с социальной точки зрения, с целью доискаться основной причины, она не что иное, как влияние (suggestion) одной личности на другую.
Теория эта, одобренная большим числом известных философов (Тэн, Рибо, Эспинас и др.), кажущаяся мне замечательной по своей простоте, не приобрела себе однако многих учеников, которые сейчас же стали бы её распространять; зато она имела честь видеть, как, спустя несколько времени, там и сям стали появляться новые теории, воспроизводившие её в её сущности, хотя их авторы, конечно, и не знали об её существовании.
Такова, например, теория Серги (Sergi), который в своей книжке, озаглавленной Psicosi epidemica, развил совершенно самостоятельно неизвестные ему теории Тарда.
Серги, целиком воспроизводя Тарда, имеет однако перед ним то преимущество, что не останавливается над обобщениями, и что ему неизвестна нерешительность французского философа; он более ясно и более точным образом излагает то, что можно назвать физическим основанием внушения. Вот почему я считаю полезным привести здесь его собственные слова.
"Душа, – говорит он, – это общий вид активности, тождественный всякой другой без исключения органической активности. Всякий, имеющий понятие об этого рода активности, знает, что деятельность органической ткани возбуждается только при помощи раздражителей. Когда последняя возбуждена каким-нибудь внешним агентом, то она обнаруживает деятельность, пропорциональную природе и силе возбудителя.
Примером может нам служить мускульная ткань: в самом деле, мы видим, что мускулы сокращаются только тогда, когда какой-нибудь внешний деятель пробуждает в них эту способность. Это происходит, благодаря находящейся в них душе; но в последней нет ничего самопроизвольного, ничего автономного: она проявляет активность, когда её возбуждают, и это проявление вполне зависит от природы возбудителей.
Я нахожу восприимчивостью – способность принимать извне впечатления и рефлексом – способность обнаруживать возбуждённую активность, сообразно с полученными впечатлениями. Оба эти условия могут соединиться в один основной закон души – рефлекторную восприимчивость.
Уже долгое время некоторые психиатры занимаются явлениями внушения во время гипноза и думают, что это явление бывает вообще тогда, когда объекты их исследования находятся в гипнотическом сне. Они не заметили, что так называемое ими внушение является весьма резким проявлением основных элементов души, что это – восприимчивость, доходящая до болезненности, благодаря которой явления принимают весьма резкую форму и делаются более очевидными, чем в нормальном состоянии. Гипнотическое внушение открывает только те состояния, к которым душа предрасположена, её основные условия, по которым она действует. Внушение сводится таким образом на вышесказанную восприимчивость, которая в свою очередь сводится к основному закону организма, что последний может быть приведён в действие только от полученных стимулов".
Таким образом, по Серги и Тарду, всякая идея, всякое душевное движение индивида – не что иное, как рефлекс на полученный извне импульс. Итак, всякий движется, действует, думает только благодаря некоторому внушению, которое может возникнуть от рассматривания известного предмета, от произнесённого перед нами слова или звука, от какого бы то ни было движения, произведённого вне нашего организма. Это внушение может распространиться или только на одного индивида, или на нескольких, или даже на большое число лиц; оно может распространиться подобно настоящей эпидемии, далеко в обществе, оставляя одного совершенно свободным от своего влияния, других – слегка задетыми, третьих – поражёнными весьма сильно. В последнем случае явления, которые оно производит, как бы они ни были странны или ужасны, являются самой высокой степенью, более резким выражением простого, непременного явления внушения, представляющего первую причину всякого психологического явления. Варьирует только интенсивность явления, природа же его – всегда одна и та же.
Благодаря этому удачному выводу, Тард и Серги явление подражания, наблюдаемое у большого числа людей, сводят на менее резкое явление подражания, свойственное отдельному лицу; эпидемическое подражание они приравнивают подражанию спорадическому и объясняют как то, так и другое внушением, причину и основные свойства которого они объясняют тут же.
Мы видим, что эта теория подтверждается всеми формами и видами человеческой деятельности.
Кто станет утверждать, смотря на отношения между наставником и учеником и на подражание последнего первому, – основанное на симпатии и на бессознательном и инстинктивном удивлении, – что в них не проглядывает внушение? Кто в состоянии отвергать, что эти отношения, возникшие первоначально между двумя лицами, представляют из себя примитивную форму, зародыш того внушения, которое может возникнуть позднее между одним и многими, между главою научного, политического или религиозного учения и его учениками, адептами, единоверцами? Кому непонятно, что такого рода эпидемическое внушение – высшая степень первоначального единичного внушения.
Всякий вынужден согласиться, что подобное эпидемическое внушение может сделаться больше как по интенсивности, так и по распространённости, если этому благоприятствуют условия места и характер лиц, от которых оно исходит и на которых оно действует.
Убеждения некоторых политических и религиозных сект доходят подчас до того, что обращаются в настоящее эпидемическое сумасшествие. Начиная от древних арабских и индийских дервишей до демономаньяков средних веков, которых последние остатки встречаются ещё и теперь в Италии; от кликуш, перфекционистов, шекеров Северной Америки до штундистов, шелапутов и скопцов России; от народных масс, ведомых Иудой Голонитом и Теудой, предшествующих возникновению христианства, до тех, которые предшествовали возрождению Германии, – во всём этом мы имеем бесконечное разнообразие нравственных эпидемий, эпидемических психозов, которые сначала поражают нас совершающимися благодаря им жестокостями и гнусностями, но которые, будучи исследованы, представляют из себя в сущности болезненное преувеличение акта внушения, являющегося самым всеобщим законом социального мира.
Подобно тому, как, говоря о нормальной жизни, мы можем от влияния (suggestion) одного индивида на другого, учителя на ученика, сильного на слабого и т. д., поднятые до влияния одного лица на целую толпу, до влияния гения мысли или чувства на всех своих современников, главы секты на её членов, – точно также, говоря о болезненном случае, можно от влияния одного сумасшедшего на другого сумасшедшего же подняться до влияния сумасшедшего на всех его окружающих.
Последнее служит доказательством не только того, что патология управляется теми же законами, что и физиология, но и того, что внушение – универсально.
Легран Дюсоль прекрасно описал сумасшествие вдвоём; эта странная форма умопомешательства происходит от того влияния, которое оказывает помешанный на индивида, склонного конечно к такого рода болезни, который мало-помалу теряет рассудок и получает ту же форму помешательства, что и его подстрекатель.
С этого времени между такими двумя личностями появляется известного рода зависимость; один господствует над другим; последний представляет из себя эхо первого: он делает то, что делает первый, и сила его подражания до того велика, что подчас он видит те же галлюцинации, что и его товарищ.
От этого умопомешательства вдвоём (представляющего в болезненном виде то же, что и влияние учителя на ученика, одного из двух влюблённых на другого – в нормальной жизни) можно подняться до сумасшествия втроём, вчетвером, впятером и т. д.,[6]6
Роскиоли приводит случай сумасшествия вчетвером. У честных и работящих супругов было 3 дочери. Младшая, молодая 19-тилетняя девушка, неожиданно подверглась в церкви острым припадкам помешательства и в таком состоянии была приведена домой. Это так подействовало на отца, что, спустя только 8 дней, он находился уже в беспокойном состоянии панофобии. Спустя немного и мать подверглась той же участи, и наконец, через 15 дней, старшая дочь также была охвачена умственным исступлением.
[Закрыть] что происходит так же, как и сумасшествие вдвоём. Сумасшедший всегда оказывает влияние на своих родителей, на тех, кто постоянно около него; своим примером он сообщает им свои больные идеи и расстроенные способности; понемногу он достигает того, что сознание у них затемняется и уступает место сумасшествию, которое проявляется или в совершенно такой же форме, как и у него, или же в более лёгком виде.
Кроме этих достоверных фактов внезапного коллективного умопомешательства, все единодушно приписывают сумасшедшему способность внушения – менее интенсивную, но более общую – по отношению ко всем его окружающим.
"Живя постоянно с лицами, бессвязно думающими, нелогично рассуждающими и поступающими, – говорит Рамбосон, – наш мозг, получая от них постоянно ненормальные толчки, стремится принять то же направление, и оно, благодаря своему влиянию на наши интеллектуальные способности, заставляет нас подражать их поступкам".





