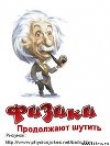Текст книги "Физики шутят"
Автор книги: Сборник Сборник
Жанр:
Физика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 7 страниц)
Теперь мы можем сформулировать «Закон Паркинсона для научных исследований». Вот он: «Успех в научных исследованиях вызывает такое увеличение субсидии, что продолжение исследований становится невозможным».
Напечатано в журнале «New Scientist», 13, № 271 (1962).
Здравый смысл и вселенная
За сто семьдесят шесть лет Нижняя Миссисипи стала короче на двести сорок две мили. В среднем это составляет чуть больше, чем миля с третью за год. Отсюда следует – в этом может убедиться любой человек, если он не слепой и не идиот, – что в нижнесилурийском периоде (он закончился как раз миллион лет тому назад: в ноябре юбилей) длина Нижней Миссисипи превышала один миллион триста тысяч миль. Точно так же отсюда следует, что через семьсот сорок два года длина Нижней Миссисипи будет равна одной миле с четвертью, Каир и Новый Орлеан сольются и будут процветать, управляемые одним мэром и одной компанией муниципальных советников. В науке действительно есть что-то захватывающее: такие далеко идущие и всеобъемлющие гипотезы способна она строить на основании скудных фактических данных».
Выступая в декабре 1941 года на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки и выступая фактически от имени и по поручению своего огромного 100-дюймового телескопа, профессор Эдвин Хаббл из обсерватории Маунт-Вильсон (Калифорния) с довольным видом объявил, что Вселенная не расширяется. Это была поистине хорошая новость, если и не для широкой публики, у которой пока не было оснований подозревать, что Вселенная вообще расширяется, то по крайней мере для тех из нас, кто смиренно пытается «следить за развитием науки». В течение последних двадцати пяти лет, точнее со дня обнародования этой ужасной гипотезы профессором де Ситтером в 1917 году, мы, кто как мог, пытались жить в этой расширяющейся Вселенной, каждая часть которой с кошмарной скоростью улетает от всех остальных частей. Это напоминало нам того отчаявшегося влюбленного, который вскочил на коня и поскакал, как безумный, во всех направлениях. Идея была величественная, но создавала какое-то ощущение неудобства.
Тем не менее мы должны были в нее верить. Должны были, потому что полагались, например, на авторитет Спенсера Джонса из Королевского астрономического общества, который не далее как в 1940 году в своей захватывающей книге «Жизнь в других мирах» утверждал, что «далекая галактика в созвездии Волопаса удаляется от нас со скоростью 24 300 миль в секунду. Отсюда следует, что она находится на расстоянии 230 000 000 световых лет от Солнечной системы». Я на всякий случай напомню моим друзьям – любителям науки, что световой год – это расстояние, которое свет проходит за год, двигаясь со скоростью 186000 миль (300000 км) в секунду. Другими словами, эта «далекая галактика» находится от нас сейчас на расстоянии 1 049 970 980 000 000 000 000 миль…
И вот теперь оказывается, что она вовсе не удаляется! А ведь астрономы не просто предположили, что Вселенная расширяется, а доказали это, изучая поведение красной части спектра, которая от такого открытия покраснела еще больше, как та стыдливая вода в Кане Галлилейской, которая «увидела Господа Бога своего и покраснела». Один из самых выдающихся наших астрономов, сэр Артур Эддингтон, написал книжку «Расширяющаяся Вселенная», чтобы довести этот факт до всеобщего сведения. Астрономы в большинстве своем восприняли новость об этом вселенском взрыве с таким же спокойствием, с каким в свое время приняли к сведению известие о грядущей тепловой смерти Вселенной; согласно второму закону термодинамики, она ведь должна погибнуть от холода.
Но радость, которую доставил нам профессор Хаббл, умеряется некоторыми сомнениями и размышлениями. Не подумайте, что я высказываю неверие в науку или неуважение к ней (в наши дни это было бы так же чудовищно, как во времена Исаака Ньютона не верить в Святую Троицу). Но все же… Сегодня мы расширяемся, завтра – сжимаемся: сперва мы мучаемся в искривленном и замкнутом пространстве, потом эту петлю ослабляют и распускают совсем; только что нас приговорили к мученической смерти при температуре минус 273 по-Цельсию, в холоде, который охватит всех и вся, – и вот снова потеплело. Так вправе мы спросить – в чем же дело? Где мы находимся? А на этот вопрос отвечает Эйнштейн: «Нигде, потому что места, где мы могли бы находиться, нет вообще». Так что подхватывайте свои книжки, следите за развитием науки и ждите следующего астрономического конгресса. Возьмем историю со знаменитым Вторым началом термодинамики, этим проклятием неумолимой судьбы, которое обрекает всю Вселенную (или по крайней мере всю жизнь во Вселенной) на смерть от холода. Теперь я с сожалением вспоминаю слезы, которые проливал, сердечно сочувствуя той последней кучке обреченных, которым предстоит скончаться при температуре 273 ниже нуля по Цельсию, при абсолютном нуле, когда все тепло будет исчерпано и все молекулы остановятся. Не будут гореть печи, не будут зажигаться спички, да и некому их будет зажигать…
Помню, как я первый раз, еще будучи маленьким мальчиком, прочитал про этот жестокий закон в «научно-популярной» книжке, озаглавленной «Наше время истекает». Написана она была Ричардом Проктором и производила ужасающее впечатление. Солнце-то, оказывается, остывает и скоро погаснет совсем. Это подтвердил и лорд Кельвин. Как все шотландцы, он-то ничего не боится и оставил Солнцу и всей Солнечной системе только девяносто миллионов лет жизни.
Это знаменитое предсказание впервые было сделано в 1824 году великим французским физиком Никола Карно. Он показал, что все тела во Вселенной меняют свою температуру – горячие остывают, а холодные нагреваются. Таким образом, они выравнивают свою температуру. Это все равно что разделить богатое наследство поровну между всеми бедными родственниками; результатом будет общая нищета. Так и нас всех в конце концов должен охватить холод мирового пространства.
Правда, проблеск надежды появился, когда Эрнст Резерфорд и другие ученые открыли радиоактивность. Радиоактивные атомы, распадаясь, казалось, смогут поддерживать огонь на Солнце еще довольно долго. Эта приятная новость означала, что Солнце, с одной стороны, много моложе, а с другой – много старше, чем предполагал лорд Кельвин. Но все равно это всего лишь отсрочка. Все, что ученые могут нам предложить, это 1 500 000 000 лет. Потом все равно замерзнем.
Когда на смену средневековым суевериям пришло просвещение, первыми науками, которые выделились и самоопределились, были математика, астрономия и физика. К началу девятнадцатого столетия все было поставлено на свои места; Солнечная система вращалась так сонно и плавно, что Лаплас сумел убедить Наполеона в том, что бог, который бы присматривал за ней, вообще не нужен. Гравитация работала, как часы, а часы работали, как гравитация. Химия, которая, как и электричество во времена Бенджамена Франклина, была лишь набором бессвязных экспериментальных данных, превратилась в науку после того, как Лавуазье открыл, что огонь не вещь, а процесс, что-то происходящее с вещами. Эта мысль была настолько выше понимания широкой публики, что ее автора в 1794 году гильотинировали. Появился Дальтон и показал, что любую вещь можно раздробить на очень-очень маленькие атомы, атомы объединяются в молекулы, и все идет по плану. С Фарадея и Максвелла заняло свое место в новом научном порядке и электричество (оказалось, что это то же самое, что магнетизм).
Примерно к 1880 году выяснилось, что мир прекрасно объяснен наукой. Метафизика все еще что-то бормотала во сне. Теология все еще произносила проповеди. Она пыталась оспаривать многие открытия науки, особенно в геологии и в новой эволюционной теории жизни. Но наука уже обращала на это мало внимания.
Потому что все было очень просто. Есть время и пространство – вещи слишком очевидные, чтобы их объяснять. Есть материя, сделанная из маленьких твердых атомов, похожих на крошечные зернышки. Все это движется, подчиняясь закону всемирного тяготения. Туманности сгущаются в звезды, звезды извергают планеты, планеты остывают, на них зарождается жизнь, она развивается и становится разумной, появляются сперва человекообразные обезьяны, потом епископ Уилберфорс и, наконец, профессор Гексли.
Осталось несколько небольших неясностей, например вопрос о том, что же Факое на самом деле пространство и материя, и время, и жизнь, и разум. Но все эти вещи Герберт Спенсер очень кстати догадался назвать непознаваемыми, запер в ящик письменного стола и там оставил.
Все было объяснено механическим Железным Детерминизмом. Оставался только этот противный скелет в ящике письменного стола. Да было еще что-то странное и таинственное в электричестве, которое было не то чтобы просто вещь, но и не то чтобы просто выдумка. Была еще странная загадка о «действии на расстояний», и электричество ее только усугубляло. Как только добирается тяготение от Земли до Солнца? Если в пространстве нет ничего, то каким образом свет долетает к нам от Солнца за восемь минут и даже от Сириуса – за восемь лет? Даже изобретение «эфира», этакого универсального желе, по которому ходят волны, рябь и дрожь, не избавляло науку от некоторой неубедительности.
И вот, как раз на пороге XX столетия все здание начало рушиться.
Первым предупреждением, что не все ладно, было открытие икс-лучей.
Открыл их Рентген, и с тех пор большинство физиков называют их рентгеновскими. Сэр Уильям Крукс, экспериментируя с трубками, наполненными разреженным газом, открыл «лучистую материю» так же случайно, как Колумб открыл Америку. Британское правительство сразу же пожаловало Круксу дворянство, но было уже поздно. Дело было сделано.
Затем последовали работы целой школы исследователей радиоактивности. Венцом их были труды Резерфорда, который революционизировал теорию строения вещества. Я хорошо знал Резерфорда – мы с ним в течение семи лет были коллегами по Мак-Гиллскому университету – и могу подтвердить, что он действовал без заранее обдуманного намерения потрясти основы Вселенной. Но сделал он именно это, за что его тоже в свое время произвели в лорды.
Не следует путать труды Резерфорда по ядерной физике с теорией пространства и времени, которую создал Эйнштейн. Резерфорд ни разу в жизни не сослался на Эйнштейна. Даже когда он работал в Кавендишской лаборатории и, проявляя черную неблагодарность, разбивал те самые атомы, которые его прославили, даже тогда ему ничего не было нужно от Эйнштейна. Я однажды спросил Резерфорда (это было в 1923 году, всемирная слава Эйнштейна была в зените), что он думает о теории относительности. «А, чепуха! – ответил он. – Для нашей работы это не нужно!» Его биограф и почитатель, профессор Ив, рассказывает, что, когда немецкий физик Вин сказал Резерфорду, что ни один англосакс не понимает теории относительности, Резерфорд ответил:
«Естественно, у нас слишком много здравого смысла».
Но все же главные неприятности начались именно с Эйнштейна. В 1905 году он объявил, что абсолютного покоя нет. И с тех пор его не стало. Но только после первой мировой войны на Эйнштейна набросилась читающая публика, и полки в магазинах стали ломиться от книжек «про относительность».
Эйнштейн нокаутировал пространство и время так же, как Резерфорд нокаутировал вещество. Общий взгляд теории относительности на пространство очень прост. Эйнштейн всем объяснил, что нет такого места, как «здесь». «Но ведь я-то здесь, – скажете вы. – Здесь – как раз то место, где я сейчас сижу». Но ведь вы двигаетесь! Земля вертится, и вы на ней вертитесь. Вместе с Землей вы движетесь вокруг Солнца, а вместе с Солнцем – вслед за «далекой галактикой», которая сама мчится со скоростью 26 000 миль в секунду. Так что же это за место – «здесь»? Как вы его отметите? Все это очень напоминает рассказ о двух идиотах на рыбалке. Один из них говорит другому: «Слушай, надо заметить то место, где мы вытащили эту здоровую рыбину», а тот ему отвечает: «Да я уже сделал отметину на борту лодки». Вот вам и «здесь»!
Открытие Эйнштейном кривизны пространства физики приветствовали взрывом аплодисментов, какие до тех пор можно было слышать только на бейсболе. Блестящий ученый, сэр Артур Эддингтон, который с пространством и временем обращается как поэт (даже его рассуждения о гравитации пронизаны юмором: он говорит, что идеальную возможность изучать тяготение имеет человек, падающий в лифте с двадцатого этажа), так вот, сэр Артур Эддингтои аплодировал громче всех. По его словам, без этой кривизны в пространстве разобраться вообще невозможно. Мы ползаем по своему пространству, как муха ползает по глобусу, думая, что он плоский. Тайны тяготения озадачивают нас (я не имею в виду тех немногих счастливцев, которым представился редкий случай упасть в лифте с двадцатого этажа. Но и на них откровение снизошло слишком поздно, а откровение заключается в следующем: мы и не падаем вовсе, а просто искривляемся). «Признайте кривизну пространства, – писал Эддингтон в 1927 году, – и таинственная сила исчезнет. Эйнштейн изгнал этого демона».
Но сейчас, четырнадцать лет спустя, начинает казаться, что Эйнштейна мало беспокоит, изогнуто пространство или нет. Ему это, по-видимому, все равно. Один известный физик, руководящий факультетом в одном из крупнейших университетов, недавно написал мне по этому поводу: «Эйнштейн надеется, что общая теория, учитывающая некоторые свойства пространства, напоминающие то, что сейчас обычно называют кривизной, может в будущем оказаться более плодотворной, чем это, по-видимому, имеет место в настоящее время». Сказано чисто по-профессорски. Большинство же говорит просто, что Эйнштейн махнул рукой на кривое пространство. Все равно что сэр Исаак Ньютон, зевнув, сказал бы: «Ах, вы об этом яблоке – а может быть, оно вовсе и не падало?»
Из книги «The World of Mathematics», New York, 1956.
Сага о новом гормоне
За последние месяцы мир узнал об открытии трех чудодейственных лекарств тремя ведущими фармацевтическими фирмами. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что все три препарата – это один и тот же гормон. Если вам интересно узнать, как одно и то же химическое соединение получает несколько разных названий, давайте проследим за цепочкой событий, предшествующих созданию чудотворного средства.
Первым его обычно совершенно случайно открывает физиолог в погоне за двумя другими гормонами. Он дает ему название, отражающее его функции в организме, и предсказывает, что новое соединение может оказаться полезным при лечении редкого заболевания крови. Переработав одну тонну свежих бычьих гланд, доставляемых прямо с бойни, он выделяет 10 граммов чистого гормона и отправляет их к специалисту по физхимии на анализ.
Физхимик обнаруживает, что 95 % очищенного физиологом гормона составляют разного рода примеси, а остальные 5 % содержат по крайней мере три разных соединения. Из одного такого соединения он успешно выделяет 10 миллиграммов чистого кристаллического гормона. На основе изучения его физических свойств он предсказывает возможную химическую структуру нового вещества и высказывает предположение, что его роль в организме, вероятнее всего, не совпадает с предсказаниями физиолога. Затем он дает ему новое название и переправляет химику-органику для подтверждения своих предположений о структуре соединения;
Органик этих предположений не подтверждает и вместо этого обнаруживает, что новое соединение лишь одной метиловой группой отличается от вещества, недавно выделенного из дынной кожуры, которое, однако, биологически неактивно. Он дает гормону строгое химическое название, совершенно точное, но слишком длинное и непригодное поэтому для широкого употребления.
Краткости ради за новым веществом сохраняется название, придуманное физиологом. В конце концов органик синтезирует 10 граммов нового гормона, но сообщает физиологу, что не может отдать ни одного грамма, ибо все эти граммы ему абсолютно необходимы для получения производных и дальнейших структурных исследований. Вместо этого он дарит ему 10 граммов того соединения, которое выделено из дынной кожуры.
Тут включившийся в поиски биохимик внезапно объявляет, что он обнаружил этот же гормон в моче супоросых свиноматок. На том основании, что гормон легко расщепляется кристаллическим ферментом, недавно выделенным из слюнных желез южноамериканского земляного червя, биохимик настойчиво утверждает, что новое соединение есть не что иное, как разновидность витамина BIG, недостаток которого вызывает сдвиги в кислотном цикле у аннелидов. И меняет название.
Физиолог пишет биохимику письмо с просьбой прислать южноамериканского червя.
Пищевик находит, что новое соединение действует в точности так же, как «фактор ПФФ», недавно экстрагированный из куриного навоза, и поэтому советует добавлять его в белый хлеб с целью повышения жизнеспособности грядущих поколений. Чтобы подчеркнуть это чрезвычайно важное качество, пищевик придумывает новое название.
Физиолог просит у пищевика кусочек «фактора ПФФ». Вместо этого он получает фунт сырья, из которого «фактор ПФФ» можно изготовить.
Фармаколог решает проверить, как действует новое соединение на серых крыс. Со смятением он убеждается, что после первой же инъекции крысы полностью лысеют. Поскольку с кастрированными крысами этого не происходит, он приходит к заключению, что новый препарат синергичен половому гормону сестостерону и антагонистичен поэтому гона-дотропному фактору в гипофизе. Отсюда он делает вывод, что новое средство может служить отличными каплями для закапывания в нос. Он изобретает новое название и посылает 12 бутылок капель вместе с пипеткой в клинику.
Клиницист получает образцы нового фармацевтического продукта для испытания на пациентах с простудой лобных пазух. Закапывание в нос помогает весьма слабо, но он с удивлением видит, что три его простуженных пациента, до того еще страдавшие редкой болезнью крови, внезапно излечиваются. И он получает Нобелевскую премию.
Напечатано в «The Journal of Irreproducible Results» (1959).
* * *
Альберт Эйнштейн любил фильмы Чарли Чаплина и относился с большой симпатией к созданному им герою. Однажды он написал в письме к Чаплину: «Ваш фильм „Золотая лихорадка“ понятен всем в мире, и Вы непременно станете великим человеком. Эйнштейн».
На это Чаплин ответил так: «Я Вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а Вы все-таки стали великим человеком. Чаплин».