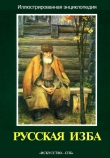Текст книги "Русалочьи бусы (СИ)"
Автор книги: Санди Зырянова
Жанры:
Классическое фэнтези
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Горька ты, сиротская доля. Пусть и просторна изба, из вековых дубов срубленная да тесом крытая, и чиста вода в колодце у самой избы, и тучны коровы в стойле, и ломятся сундуки от цветастых сарафанов да вышитых тонким шелком рубашек, – что толку с этого добра, родительской ласки оно не заменит. А уж коли добра того – несколько тощих коз да котейка, да заплаты на портках, так и вовсе не жизнь, а слезы одни.
Правду молвить, пока живы были у Настёнки батюшка с матушкой, не на что ей было жаловаться. Водились в хозяйстве и коровы, и гуси, батюшка знатным охотником слыл, матушка – удалой хозяйкой. А Настя в обоих уродилась: в отца – смелой, в мать – работящей, в отца – красивой, в мать – умной. И хоть ей еще и десяти лет не исполнилось, соседи, у кого сыновья были, к Настёнке приглядывались. Ан счастье достается трудно, бывает редко да кончается быстро; это только беда приходит без спросу, а уходит вслед за гробом.
Вот и к Настёнке в дом беда пришла.
Померла Настёнкина матушка. Грудь застудила – на жатве в жару не сдержалась да и напилась холодной воды колодезной вволю, а к вечеру уж и слегла. Неделю промаялась, да так и не поднялась.
Настёнка стояла в церкви и все никак не могла понять: нешто правда, что матушка больше к ней не подойдет, не поцелует, косу не заплетет. И страшно молчал осунувшийся, закостенелый лицом отец...
С тех пор и стало хиреть их хозяйство. Настёнка хоть и умела многое, ан разве по силам девчушке делать то, что не всякий взрослый сможет?
Поглядел на это отец – и привел в дом вторую жену. Соседки тогда судачили, Настёнку жалели. Мол, мачеха злая пришла, обижать сироту будет, и дети ее будут – благо было у мачехи, тетки Аксиньи, двое своих, чуть постарше Настёнки. Дашкой да Машкой их звали. Но тетка Аксинья, видать, сказок да соседских сплетен не знала и знать не желала. Дочки ее были славны девки, Настёнке быстро стали подружками, а сама Аксинья смотрела за падчерицей как за родной. Пусть и плакала Настёнка по ночам в подушку за матушкой, а зажили они вместе в дружбе и сытости.
Долго ли, коротко ли, а к Дашке парень один посватался. У парня того брат меньшой был – Аксинья на радостях и Настёнку за него сговорила. Машка – та сразу губы надула: я-де старше Насти, а ее вперед меня сватают! Аксинья ей и бает: Настёна еще маленькая, замуж не сразу пойдет, а тем временем и для тебя жених найдется, еще получше, чем у других.
Утешила она дочку такими словами. А Машка-то возьми да и поверь. Бывало, собираются девушки на посиделки, так она обязательно лучшую рубаху наденет, в косу шелкову ленту вплетет – я, мол, невеста, всем остальным не чета!
Посматривал на то батюшка, усмехался в бороду. Радовался он и добру да уюту в избе, и дружбе, в которой его дочка да падчерицы жили, и жене – Аксинье-красавице... А Настёнка все косилась на батюшку. Боязно ей было. Кто однажды горе изведал, о том не позабудет, а у Настёнки еще и бывали сны вещие. Она о том мало кому рассказывала, только Дашке поведала – Дашку она больше всех полюбила.
– Так что скажешь, сестрица, – спрашивает ее, бывало, Дашка, – жених-то мой хорош али зол?
– Хорош, сестрица, хорош, – успокаивает ее Настёнка. А потом будто что толкнуло ее: – Только недолго ты с ним проживешь, молодой овдовеешь.
– Ох ты, Господи пронеси, – перекрестилась Дашка. Призадумалась. Ан, видно, по душе ей был жених-то – не стала она никому разговор этот пересказывать, промолчала. Настёнке и помстилось, что такую тайну хранить ей тяжело было, тяжелее, чем если бы довелось помолвку разорвать. Но Дашка была из тех, кому боль да печали только сил придают. А попозже она снова спрашивать Настёнку стала. Про Машку.
– Лучше бы ей вовсе не замуж идти, а в монастырь, там-то ничего плохого не случится, – говорит Настёнка. А с чего она такое сказала – ей и самой не ведомо.
Нахмурилась Дашка и совсем ничего не сказала. Очень она сестру любила.
И вот как-то на Троицу снится Настёнке сон, что идет она в лес, ягоды собирает и доходит до болота, а на болоте – до самой гиблой елани, куда никто соваться из деревенских не смел. Настёнка тоже наяву бы не сунулась. А во сне, поди ж ты, пошла по воде будто посуху, лапотками ступает – а водная гладь ее держит. И видит она чудо-ягоду земляничину размером с кулак. Руку к ней протянула – и проснулась.
Точно, думает Настёнка. Лето – как раз земляника поспела, пора собирать. Чай, вещий сон: на болото никто не ходит, а там, верно, самые щедрые ягодные россыпи удались. Да только какая же земляника на болоте? Там клюква да черника... Однако ж, по дому работу переделав, взяла Настёнка лукошко да пошла к болоту по ягоды.
Глядь – и правда полно земляники. Да какой! Ягоды крупные, красные. Везде только начали поспевать, а тут-то уже алеют что твое солнышко на закате, так в рот и просятся. Ну, Настёнка одну и положила. Сладкая! Слаще меда! Положила в рот вторую – а та еще слаще, еще сытнее. А уж от запаха их Настёнке в пляс пуститься захотелось – такой вкусный да нежный. Пожалела Настёнка, что малое лукошко взяла. Хотя, ежели правду сказать, то большего у них в избе и не было, да и не унесла бы Настёнка большее.
Это оттого, что я красный платочек надела, думает Настёнка. Счастливый он у нас, заговоренный. На красном шелковом платочке и вправду заговор был, ведьма деревенская наложила, – хоть поп и ругался за такие штуки, – и сестры его по очереди носили.
Увлеклась Настёнка – на четвереньки упала, сарафанчик задрав, и ну в две руки землянику собирать. Лукошко-то наполняется, а Настёнка ползком, ползком дальше в глубь болота пробирается. Радостно ей: на всю зиму, думает, варенья наварим! И свадьбу Дашкину сыграем – на стол выставим!
Орляк резной над Настёнкиной головой покачивается, козодой покрикивает, комарье над ухом звенит противно, сыростью да водой болотной тянет; вон уж и мох торфяной из-под рук прыснул, а земляники меньше не становится, и она вроде как еще крупнее да краснее. И – вот диво-то – между кустиками тропа показалась! Ну, смекнула Настёнка, видать, я не первая тут. Ишь, деревенские, хитрые, притворяются, будто боятся сюда ходить, а сами тропинку протоптали! Или это звериная тропа? Хоть бы на волка не нарваться или на рысь...
Тем временем смеркаться начало. Настёнке уже и страшновато в сумеречном лесу, а лукошко все никак не наполнится до краев. Зря она его малым называла. Ну, думает Настёнка, еще горсточку, да вторую, да пригоршню, да щепоточку, да ягодку – и домой...
И вдруг слышит она – будто плачет кто.
Ох ты, сообразила Настёнка. Болото ведь. Никак, увяз кто из деревенских? Выпрямилась она, пригляделась – точно, женщина с распущенными волосами сидит, да так неловко. И уж так она горько плачет... Ступила к ней Настёнка – медленно, с оглядкой, чтобы самой не увязнуть. Ан не болото в беде виновато! Кто-то, вишь ты, капкан поставил, а баба эта в него и попалась.
Настёнку отец учил с капканами обращаться, а заодно и раны лечить.
– Ты, тетенька, не плачь, – говорит бабе Настёнка, – я тебе сейчас помогу.
Раскрыла она капкан, ногу босую из него высвободила, потом торфяного мха нарвала – к ране приложила, с ближнего дерева коры оторвала, помяла – получившимся лыком завязала.
А баба та ей вовсе не знакома была. Отродясь таких в деревне не бывало. Ни сарафана на ней нет, ни другой какой одежды, кроме зеленой рубахи. Да и рубаха не льняная, не шелковая, не посконная – никак, из крапивы соткана болотной. На лицо баба – мало сказать, что не красавица, и странная у ней некрасивость: люди такими некрасивыми не бывают. Одни глаза хороши – большие, зеленые. Вгляделась в них Настёнка и дрогнула: зрачки в тех глазах будто у кошки, на молодой месяц похожи.
Но зато коса у бабы у этой – любая из деревенских красавиц позавидует. Русая, густая, роскошнее летних лугов, шелковистее первой ласки, блестящая – будто звезды в ней запутались.
Разогнулась баба, очами сверкнула – ровно хищница лесная.
– Спасла ты меня, красна девица, – молвит. По-старинному этак, с расстановкой, не как деревенские тараторят. – За то тебе моя благодарность. А вот чем отдарю! – и бусы Настёнке протягивает.
– Да я ж не за подарки, – Настёнка и засмущалась.
– А ты не спорь, – прикрикнула диво-баба. – Дают – бери! Вона, смотри: это бусы, а в них три бусины есть непростые. Ты их бери да силу их призывай, но не попусту, а в самую лихую годину. А когда все три используешь, поди в лес да найди меня и отдай что осталось.
– А как же я найду тебя, тетенька?
– Придешь да найдешь. Твоя тропка с моей теперича скрестилась.
Еще раз сверкнули хищные нелюдские очи – и пропала диво-баба, как и не было ее. А поверх земляники на лукошке лежит ягода, каких Настёнка отродясь не видывала: с кулак размером. Точнехонько как во сне!
Смекнула Настёнка, что повстречалась ей русалка. Ведь только-только Троица минула, а кто же не знает, что за Троицей идет русальная неделя! Хотела Настёнка перекреститься да Богу помолиться, ан чувствует – крестика на шее нет. Потерялся.
Зато бусы русалочьи так и горят в руке. А вокруг-то уже совсем стемнело, откуда-то из недр болота странные звуки доносятся, козодой да сова перекликиваются, вон уж и светлячки выглянули – хорошо бы светлячки, а не огни болотные...
Развернулась Настёнка – и бегом домой.
Прибежала, а дома уж сестры в слезах, отец в тревоге да с ружьем в руках; тетка Аксинья к соседям побежала, чтобы с отцом шли в лес искать Настёнку непутевую. Показала Настёнка, что насобирала...
Об одном только промолчала. О встрече с русалкой да о подарке ее.
Ругали Настёнку тогда, конечно, здорово, отец и палкой грозился, однако под конец простили. Крестик ей новый купили. А из ягод, что Настёнка в лесу насобирала, тетка Аксинья наварила варенья, да такого отменно сладкого и вкусного, какого и барину, и даже самому царю не стыдно бы послать.
Прошел год, прошел второй. Тетка Аксинья понесла – отец на радостях ей колечко серебряное справил, рад был; все твердил, что наконец-то у него сынок родится. Дашка, замуж выйдя, жила в соседней деревеньке, муж ее новую избу срубил, а Машка с Настёнкой молодым на новоселье котеночка отвезли, да теленочка, да курочек. Осень грибной удалась да урожайной...
Казалось бы – живи да радуйся. А вот поди ж ты, снится Настёнке опять сон. Будто идет она по лесу, и как ни сворачивает, а ноги ее сами выносят к болоту, на заколдованную тропку, где с русалкой повстречалась. И вдруг выскакивает волк из кустов. Да не простой, каких Настёнка уж навидалась, а огромный, спина сгорбленная, из пасти клыки торчат. Не бывает нынче волков таких. И шерсть рябая. И вроде подходит этот волк с лаской, и лижет Настёнке руку, а потом – хвать, да как кусанет! Настёнка ну бежать, а волчище-то этот ее догоняет и не отстает. И вдруг Настёнка сама собой куда-то переносится, а места этого и не знает, куда попала. Однако до дома недалеко оказывается. Вот приходит она домой, а там отец и тетка Аксинья горюют: прибежал на подворье огромный волк и задрал Машку-сестрицу.
Проснулась Настёнка – сердце колотится, руки холодные, дышать больно. Еле с полатей сползла. Ан уже вот-вот рассвести должно было: курочек покормить следовало, коров выдоить да в лес пастись отвести, коз опять же... Выбросила Настёнка из головы сон тот страшный.
Да и с чего бы не выбросить? Добро бы он понятный был, как тот, с ягодой, когда русалку встретила... А то сумбур какой-то, ровно в сундуке, где воры одежонку перерыли. Не вещий сон это, Настёнка решила.
Но тревога на душе так и осталась камнем холодным лежать.
Насолила тетка Аксинья с девками грибов да варенья на зиму наварила, но отчего-то ей все было мало. В следующий год она уж Машку отдавать замуж собиралась, были и женихи на примете. Правда, Машка от них нос воротила: тот ей низенький, тот скучный – двух слов не свяжет, у того лицо конопатое... Другая бы забыла материнские слова, будто жених ей достанется лучше всех, а Машке они как втемяшились – и слушать никого не хотела. Молвить честно, Машка и впрямь была не всякому чета. Брови соболиные, глаза ясные, работа в руках так и спорится. Но ведь и Дашка, и Настёнка были девки не из последних!
Настёнка знала, что к ней, когда время придет, младший брат Дашкиного мужа посватается. Мальчишку того она едва знала, но вроде и сам он был хорош, и семья у него была из работящих да непьющих, а по деревенским-то меркам лучше жениха и не надобно.
И пошла Настёнка еще грибов набрать; очень ей это удавалось, бывало, все едва с десяток сыроежек наберут, а у ней всегда полное лукошко, да какие грибы-то – боровики, грузди! Машка – та дома осталась, капусту солить и прочие припасы готовить. Надела Настёнка новые лапти, «счастливый» красный платочек, да бусы русалочьи не забыла: без них она никуда не выходила. Хоть и велела ей русалка только на краю погибели бусины использовать, а кто знает, когда она, та погибель, подкрадется?
А в то время в деревню как раз барин приехал. Молодой, гоношистый такой, за девками гоняется. Собак навез с собой, охоту устроил. Ему охота для забавы нужна, а деревенский люд с охоты живет, так барин все зверье по лесу распугал.
Настёнка про то не думала. Мала она была еще про барина думать да шалостей его пугаться, – так отец ее решил. Да и кому бы пришло в голову за дитем несмышленым бегать?
Вот она и насобирала грибов. Как заведено, положила краюху хлеба с солью для Лешего, да с русалкой поздоровалась – «доброго дня тебе, тетенька», верила, что та ее слышит. И солнце еще на вечер не склонилось, а Настёнка с полным кузовком домой идет. А навстречу ей мужчина молодой. Чудной – такого Настёна еще не видела, в кафтане красном, идет и платочком обмахивается.
– О, – говорит он, – мадмазель! Спозвольте вас проводить тет-а-тет!
– Да пошто меня провожать, я и сама дойду, – Настёнка ему.
– О, мадмазель, какие на вас бусы смешные, – и за руку Настёнку хвать, ну чисто волк из сна. – Будьте же благоразумны, и я подарю вам ценные вещи!
– Это как? – удивилась Настёнка. Про «благоразумие» да «благолепие» в церкви поп говаривал, что грешить-де не надо, а надо Богу молиться да жить по совести. Ну, а ценные вещи-то тут при чем?
– А вот так! – и чмок Настёнку прямо в губы! А рот у него дымом табачным воняет, холодный, скользкий, ровно жабий, и злой. Лучше бы и правда укусил по-волчьи, думает Настёнка.
– А вы, барин, не извольте смеяться, а лучше отпустите, а то вот как дам! – и правда тумака барину отвесила. Кулак у Настёнки был хоть и детский еще, а крепкий. Она и мальчишек на улице, бывало, поколачивала, и с тяжелой работой управлялась. Подхватила Настёнка свое лукошко – и ну бежать!
– Ах ты, плебейская морда! – слышит Настёнка топот за спиной. И поняла она: не убежать ей. «Убьет он меня за то, что по мордасам ему врезала, – решила Настёнка. – Барин, не хухры-мухры... А никто не ведает, где я, и никто меня тут и не найдет. Чую, погибель моя пришла...» – и тут ее взгляд на бусы упал.
С виду они были бусы как бусы. Не «смешные», как барин сказал, но и не Бог весть какие богатые. Бусины в них были гранатовые, граненые, темно-вишневые, а три бусины – побольше, и на них рисунки вырезаны. Летучая мышь, волк и росомаха. Красивые бусы, что и говорить, хоть и не яркие.
Взялась Настёнка за одну бусину – ту, на которой мышка летучая – и думает: как же дальше-то? Призвать силу... а как?
И вдруг чувствует: изменяется она. Все большим становится, каждый звук – слишком громким, лукошко из рук выпало... Взлетела Настёнка вверх.
А тут и барин. Выбежал на тропинку, дышит тяжело, злой, потный, кричит что-то похабное, такое, какого и от пьяных мужиков не всегда услышишь... Нет Настёнки! Бранился барин, бранился, обшарил все кусты вокруг, прибить грозился, а под конец пнул ее лукошко и убрался восвояси.
Отцепилась Настёнка с ветки. Вниз слетела. Выдохнула, чувствует – опять она человеком стала.
Так вот она какова – сила русалочья!
Грибы, конечно, собирать пришлось...
Листья с дерев уж и облетать начали. Повезли отец с теткой Аксиньей Настёну в гости к Дашке – и сестру проведать, пока Аксинья еще может куда-то ездить, на сносях ведь, и с женишком познакомиться поближе. Матвеем его звали. Смущался он очень, а Настёнка – и того пуще, едва парой слов перекинулись, зато взрослым все было по душе. А Машка опять губы надула.
– Ты, батюшка, – говорит, – знал, что барин с друзьями приезжал, и мне не сказал. Может, то судьба моя была?
Настёнка язычок прикусила. Думает, знала бы ты, сестренка, что это за судьба...
Кабы люди свою судьбу знали, может, по-другому бы ею распорядились. Ан вот и знал отец Настёнкин – дочь его предупредила, что вещий сон ей опять был, – да среди зимы на охоту пошел. Обещал Аксиньюшке своей кабана или лося добыть, порадовать свежатиной. Оделся тепло, ружье смазал как следует. Охотник он был удалой: подранков не оставлял, почем зря зверя не бил, но уж если бил, то без промаха. Но в этот раз не повезло ему.
Нашли отца только через неделю в снегу, случайно – соседка пошла в лес калины мороженой поискать. Лежал он с разбитой головой. Не зверь его погубил – люди на ружье охотничье позарились. А рядом в кустах валялся и ягдташ с двумя зайцами.
Готовила Настёна зайцев – последний отцовский подарок – и слезы в горшок роняла. И Машка притихла, опечаленная. С отчимом она хорошо ладила, лучше, чем иной человек с родным отцом. Про замужество за женихом невиданным уж и не заговаривала: ей, как старшей дочери в дому, теперь надо было о матери заботиться, тетка Аксинья уж вот-вот разродиться должна была.
Как чувствовала Аксинья, готовя впрок соленья да варенья: пригодятся!
Настала весна. Аксинья родила сынишку, дочкам на радость, себе на великий труд. Рожала трудно, от разрывов только попущением Божьим не померла, а кричала так, что на другом конце улицы слышно было. А бабы ворчат: ишь, раскричалась, ровно благородная! Побежала Машка за повитухой. Настёна воды согрела. Сутки Аксинья промучилась, наконец, родила. К груди его приложила и плачет: отец-то сына не увидел. Как ты его, безотцовщину, прокормишь, как вырастишь?
А последние деньги ушли, чтобы малого братца, Данилку, окрестить.
Потеплело, снег сошел. Пора на пахоту выходить, а кто пахать-то будет? Запрягли Машка с Настёнкой лошаденку и ну вдвоем стараться. Перешучиваются: вдвоем, мол, веселее, за одного пахаря сгодимся. Да одно дело, когда взрослый сноровистый мужик пашет, а другое – когда две девчонки, одна из которых еще дитя, да и вторая немногим старше. Еле-еле работа у них двигалась.
Наконец вышла к ним и Аксинья. Данилку спеленала, рот жеваным хлебом в платочке заткнула и встала за плуг рядом с дочками... Сарафан от молока промок, Данилка хлеб выплюнул и давай реветь – титьку требует. Машка и говорит: «Мамка, покорми его, мы сами справимся». Послушалась Аксинья, побежала, покормила мальца – и обратно на пашню. Боялась она, что дочки надорвутся от тяжелого труда.
Так поле и вспахали втроем, так втроем и засеяли – под Данилкин рев...
Последние соленья Аксиньины доели уже в самом конце весны. Понадеялись Аксинья с девочками, что новый урожай не за горами, да забыли, что весной бывают заморозки. А они тут как тут, ударили по слабым листочкам хлебных всходов, прихватили почки на деревьях. Почернела зелень, ровно вдовая. Был и про то сон Настёне, да разве от заморозков как-то убережешься? Побежали они с Машкой деревья укутывать да огород укрывать. Что смогли, спасли, да смогли уж очень мало. Попытались девочки новый огород посадить. И посадили, и зазеленел он. Да налетела летом новая беда – суховей.
Небо забелелось, как ситец выгоревший. Нависло над головами расплавленным оловом. Вода в колодце на самое дно ушла. У людей солнце все силы выпило, ветер горячий всю душу выжег. Соседка, тетка Василиса, так и умерла в поле – солнце ее догнало.
Ни ягоды в лесах, ни колоса на ниве. Везде только одно: сухие стебли в раскаленном ветре вздрагивают.
Воспретили Машка с Настёнкой матери из дому выходить да малого Данилку выносить, чтобы молоко у ней не пропало. Сами пытались сделать, что могли: то огород вырванными сорняками прикрывали, то воду из пруда ведрами таскали, капусту поливали...
А тут и барин снова приехал. Видать, надеялся, что в деревне на вольном воздухе попрохладнее будет. Настёнка с Машкой посудачили да и порешили на том, что в городе оно привольнее в засуху-то: дома каменные, высокие, тень густую небось дают, а в деревне даже лес увял, настоящей прохлады не найдешь. Разве что на болоте, но и болото высохло и будто скукожилось в сердце леса. А в глубины болотные, где царит вечный полумрак и сырость, ни единый человек в здравом уме не сунется, разве что грешник-самоубийца.
Побежала Машка корову да коз гнать на пастбище. Пасла она их в лесу. Привязывала к дереву на длинные веревки, так что всегда и корова, и козы лакомились вволю травой и листьями, а в это лето – жевали вялую зелень, но хоть не голодали. В тот день была ее очередь надевать красный «счастливый» платок.
И припомнила Настёнка, что снился ей опять тот страшный сон про волка, который за ней гнался, кусал, а потом ее сестрицу съел. Хотела остановить Машку, да та резвая была – убежала вместе с коровой.
Вернулась Машка нескоро. Так-то она быстро оборачивалась – одна нога здесь, другая там, – а тут что-то ее задержало в лесу, так что Настёнка уж и волноваться стала. Глядит она, а платка на Машке и нет. На щеках и губах будто маки алые горят, глаза блестят.
– Что с тобой, сестрица? – Настёнку будто морозом обсыпало.
– Барин! Жених! – шепчет Машка, а у самой дыханье перехватывает от счастья. – Уж и цаловал меня, и обойнял крепко, и в город увезти сулил! Вот погоди, пойду замуж за наилучшего жениха, как мне мамка и сказывала. А потом и вас с мамкой и Данилкой заберу. Будете городские барыни, а Данилка приказчиком!
– А приказчик – это кто таковский?
– Да почем я знаю, – беззаботно, как давно уж не смеялась, расхохоталась Машка. – Приказчик – стало быть, приказы отдает! Он у нас может; слыхала, как орать начинает? Ну енерал же, только без погонов!
– Дак у меня же тут жених есть...
– А, жених! Был один, стал другой. И он себе новую невесту найдет. Подумал бы, ты ему не чета – умница да красавица, а он голь деревенская.
– Мы ведь тоже деревенские, – напомнила Настёнка, да разве Машка кого послушает? Она и мать не слушала. Как ни предостерегала ее тетка Аксинья, как ни убеждала, что барин на крестьянке не женится, а только сердечко девичье измучает, – Машка в ответ только смеялась.
Кого и когда слушает влюбленная девушка в шестнадцать лет? Счастье снизошло на Машку. Глаза карие, ясные так и затуманились, поволокой подернулись, на щеках румянец расцвел. Размечталась Машка о городе да о барине своем. Уж так она его нахваливала: и красавец он, и образованный, и обхождению обучен всяческому...
Любопытно стало Настёне, что же там за обхождение такое. Сама-то она про барина другое помнила. Ну, стало быть, с девчонкой он не церемонился, а тут девица на выданье, любовь у них, вон уж и про свадьбу разговоры пошли, – совсем другое дело, решила Настёна. Того не вспомнила, что про свадьбу-то Машка говаривала, а у барина и в уме этого не было.
Непривычная к грязи людской Настёна была. Ни отец, ни мать, ни тетка Аксинья, – никто настоящего зла при ней не делал, разве что иногда бранились по мелочам. А что у соседей в избах творилось, того ей и ведать не следовало...
И пошла она за Машкой, когда она снова на свидание с барином со своим-то собралась. Поглядеть, что за поцалуи такие, что Машке они слаще меда.
Отстала, чтобы Машка чего не заподозрила. А когда пошла за ней, слышит – крики и ругань. Заторопилась Настёнка, выскочила на полянку, а там барин за горло Машку держит! Машка хрипит, головой вертит, а вырваться не может.
– Ах, рвань, – это барин ей говорит, – я ей честь оказал, позволил удовольствие своей особе причинить, а она еще и упираться? Плетей ей, дряни этакой!
Плачет Машка, умоляет: «Барин, любименький, за что же?»
А тут и егеря бариновы пришли. Двое, оба здоровенные, косая сажень в плечах. Один так и арапник держит, по широченной ладони им постукивает. Видать, сторожили они барина все время, пока он с Машкой миловался...
Страшно стало Настёнке. Страшнее, чем когда барин за ней самой гнался. Как будто от него побои она бы стерпела, а вот если при ней сейчас Машку изобьют, то и сердце у нее, у Настёнки, встанет, и дыхание остановится. Гневом в груди полыхнуло. «Ишь, гады, погибели нашей хотят!»
И снова, как тогда, шевельнулись на маленькой девичьей грудке русалочьи бусы. Нащупала Настёнка бусину с нацарапанной росомахой, сжала...
Целый мир запахов и чувств обрушился на нее. Пахло кровью, вкусной – заячьей, и чьей-то еще, пахло потом и железом. Страхом Машкиным пахло. И чем-то гадким, склизким – от барина...
Вздыбилась шерсть у Настёнки на загривке. Лапы напружинились. Так, думает, первым бить – этого, что Машку схватил, за ним – того, с арапником, а потом, коли удрать не успеет, так барина, чтобы неповадно было детишек да девок по лесу ловить да колотить! Ишь, моду взял, драться почем зря!
Взметнулось упругое тело, острые когти рванули сперва рожу одному, затем – грудь и шею другому, а потом и до барина добрались. Тот хоть и любил руки распускать, да трусом оказался – и шагу не ступил, только вопил «Убивают, убивают, помогите!»
Настёнка, когда человеком бывала, могла тумака или затрещину отвесить обидчику. Но сейчас у нее не было ни кулака, ни ладони. Была пасть с острейшими зубами. И пасть эта сомкнулась у барина на горле...
Машка взвизгнула при виде разъяренной зверюги да, не будь дура, бросилась бежать. Уж как вести себя при встрече со свирепым и голодным зверем, вся Настёнкина родня хорошо знала.
Встряхнулась Настёнка. Ушла в кусты, огрызаясь и шипя. Да огрызаться не на кого было: барин лежал с разорванным горлом, а егеря его были порваны так, что мало не показалось бы. Неподалеку ручеек журчал; сейчас-то он почти пересох, но тоненькая струйка воды едва сочилась между кочек. Склонилась Настёнка к этой струйке, увидела свою оскаленную, окровавленную звериную морду. И отчего-то не испугалась. Только подумала: «Вот они откуда, сказки про Арысь-Поле да про оборотней, которы мне матушка в детстве сказывала!»
Легла на бережок да и уснула. А проснулась – как раньше, девочкой, только уж очень растрепанной.
Потом, после этого, еще много чего случилось. Приезжали урядники и пристав, крестьян опрашивали, отчего барин помер. Кто-то сдуру на Машку возьми да и укажи. Так что и Машку таскали в уездное управление, сам исправник ее допрашивал. Молодой был да красивый, и колечка на пальце не видать – жених хоть куда, только Машка уже ученой оказалась и глаза от него прятала...
Рассказывать исправнику все она, конечно, не стала. Сказала только, что видела: росомаха барина загрызла.
Аксинья тогда все глаза выплакала: боялась, что Машку в тюрьму посадят. Данилка хирел, рос плохо, все плакал да плакал тоненько у матери на руках. Больно было Настёнке и за сестру, хоть по крови и не родную, да о том уж никто и не вспоминал; больно было и за братца меньшого. Молилась она за него в церкви, свечки во здравие ставила, но ничего не помогало.
И пошла тогда Настёнка на болото. Молиться там стала.
Поначалу она «Отче наш» читала, знакомый с младых ногтей. Потом – все молитвы, какие помнила. А потом из самого сердца у ней слова вырвались. Чужие, незнакомые. Страшные, потому что богопротивные.
...Матушка, Макошь, государыня, небесная мать, Богородица. Ты – рожаница, ты – мать, ты Сварога родная сестрица. Приди мне, Настасье, Богиня, на выручку. Даруй удачу дому моему, даруй братцу моему защиту, здоровья братцу моему Даниле, счастья всем малым и великим. Отныне и вовеки веков, от круга до круга. Так было, так есть, и так будет. Именно...
На последнем слове бусы словно потянули Настёнку вниз. Упала она лицом плашмя на землю сырую, мхом и травами пропахшую. Лежит, а земля из нее будто силы тянет.
Долго ли, коротко ли – очнулась Настёнка. Поднялась с трудом, и, шатаясь, побрела в дом. Взялась в доме за работу – все из рук валится, голова кружится, что ни скажет, все невпопад. Забеспокоилась Аксинья, велела ей идти спать.
А братец Данилка и уснул сладко, и проснулся весело. Лежит в люльке, ручками машет, лепечет что-то по-своему – гу-гу-гу да ма-ма-ма...
Отмолила его у судьбы Настёнка.
Да надолго ли? Заморозки весенние да засуха – суховеи летние, каков урожай будет? Вовсе его не будет, никакого. Мужики бороды рвали, бабы причитали сперва потихоньку, а потом, когда время жать пришло, уж и не таясь. Голодом повеяло от пустого жнивья.
Поначалу храбрилась Аксинья и дочкам жаловаться запретила. Проживем, говорит, где наша не пропадала. Вон, и коровка есть, и козочки, и курочки, солений наделаем. Зря, что ли, мы по грибы да по ягоды ходили? Недоговаривала только, что и грибов, и ягод в лесу мало было, так что солений да варений вышло разве что котейке на прокорм. Да и котейка ближе к зиме отощал – мышей ловил исправно, но мышам нечего грызть было, исхудали да передохли в подполе.
К Рождеству у Аксиньи да детей ее был такой суровый пост, какого они и представить себе не могли. Осталась лишь немного овощей, кадка груздей – чудом, потому что берегли очень, да кадка квашеной капусты. Яйца Машка продавать в город повезла – немного муки купила. Но так продолжаться не могло.
– Будем резать кур, – сказала Аксинья.
Жалко было Настёнке их резать. Да ведь и кур нечем было кормить. Они-то с Машкой еще могли пояса затянуть, а как быть с малым Данилкой? Он и так еле выжил, сердешный...
Кое-как, растягивая каждый кусочек куриного мяса, дожили они до Крещения. И вот не осталось в доме ни крошки хлеба. Остались репа, да свекла, – всего по чуть-чуть, да капуста квашеная на самом донышке. Машка тем временем из козьего пуха пряжи напряла – прясть она была мастерица, нитка у нее тонкой да ровной выходила; продать бы эту пряжу да хоть что-то из еды купить, но в город не выберешься. Разбушевались метели, замели и дорогу, и избы по самые венцы, а чтобы снег не развеялся да не растаял, ударили крещенские морозы. Лютый холод, казалось, пробирался под каждый волосок на теле.
Припомнила Аксинья сказы о целых семьях, которые по весне из-под снега вытаивали. Младенцы в люльке, девки за прялкой, бабы со стариками и редко – с мужиками: когда мужик в хозяйстве заводится, он и дров нарубит, и печку протопит как следует, и избу утеплит. Голод и холод – судьба вдов и сирот.