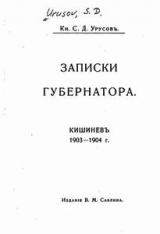
Текст книги "Записки губернатора"
Автор книги: С. Урусов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава Пятая
Военные власти в Кишиневе. Три генерала. Мои отношения с военными властями, роль войск в Кишиневе. Поручик К. Поручик X.
В то время, когда я был бессарабским губернатором, в Кишиневе стояли следующие войска: два полка пехотной дивизии, артиллерийская бригада и один кавалерийский полк. Старшим из местных генералов был начальник кавалерийской дивизии Б., человек светского воспитания, с хорошими средствами, очень приятный в личных сношениях. Жена и дочери генерала отличались любезностью, простотой и гостеприимством. Их очень ценили в Кишиневе, и дом генерала Б-а был, как говорится, один из лучших в городе. Я высоко ставил такт и деловитость, которые генерал Б. проявлял в отношениях своих с гражданскими властями, и всегда беспокоился и страдал, когда за его отсутствием, обязанности начальника гарнизона переходили к командующему пехотной дивизией С-у.
Этот генерал вел себя совсем иначе. В манере себя держать он несколько форсировал ноту «бурбонства» или «солдафонства», смотрел на себя, как на солдатскую косточку, интересовался исключительно военными, имевшими перед «шпаками», т.е. штатскими, преимущество военной славы и ясно очерченного круга действий. За этим кругом С. ничего не хотел видеть, и сношения с ним по службе были нелегки. Третий генерал, командовавший пехотной бригадой, был какой-то маньяк – злого, завистливого характера, занимавшийся преимущественно сплетнями. Изумлению его знакомых не было предела, когда он был отправлен на войну, и уверенность кишиневцев в успехе русского оружия тогда впервые поколебалась.
Четвертый генерал был старый артиллерист, очень милый, проводивший свои досуги в игре на скрипке. С ним мне не приходилось иметь служебных сношений.
До наших генералов, кроме Б–а, с которым приятно было поддерживать знакомство, мне не было бы ровно никакого дела, если бы не существовало «правил о призыве войск для содействия гражданской власти». Правила эти, составленные в то отдаленное время, когда случаи усмирения беспорядков военной силой имели иной характер, оказались мало пригодными для тех случаев, когда, во-первых, помощь войска надлежало получить быстро, в течение получаса, и, во-вторых, когда действия войск должны были происходить в различных частях города сразу. По действующим правилам, губернатор, в случае вызова войска, пишет начальнику гарнизона требование, в котором излагает цель вызова, указывает место, куда надо войску явиться, даже определяет примерно количество потребных военных сил. Затем, представитель гражданской власти продолжает руководить действиями военной: он предлагает задачу для исполнения, указывает, кого надо арестовать и т.д., и только после предложения его действовать оружием, распоряжение войсками, на время этого действия, переходит к начальнику военной части.
Результаты буквального применения упомянутых правил сказались повсеместно во время погромного периода. Вызванные военные части почти всегда являлись поздно, выстраивались на местах, где происходили беспорядки, и большей частью безучастно смотрели на развертывавшиеся перед ними картины разгрома имуществ, грабежа и насилия, перекидываясь шутками и остротами в тех обычных случаях, когда погром бывал направлен против евреев. Случаи военных карательных экспедиций, грабежи и убийства, производимые военными под видом водворения порядка, тогда еще не имели места. О них я здесь говорить не буду. Я хочу лишь сказать, что те правила, которыми я должен был руководствоваться, давали полную возможность войскам бездействовать во время беспорядков, не подвергаясь при этом никакой ответственности.
Так и случилось в Кишиневе в 1903 году. Было время, от двух часов дня до трех с половиной, когда одна рота, в руках дельного человека, могла локализовать, остановить и потушить погромный пожар близ Чуфлинской площади. Вместо этого, явившийся позднее и занявший полгорода, весь кишиневский гарнизон два дня подтверждал своим бездействием справедливость легенды о разрешенном Царем трехдневном грабеже, пока генерал Б. не решил, что надо спасать и город, и честь войска. После его приказания приступить к арестам, погром прекратился, как кажется, в течение двух часов.
Теперь станет понятным, что я не мог, в интересах общей безопасности, поддерживать с военными властями исключительно официальных отношений, на почве действующих правил. Я должен был, мудростью змия и кротостью голубя, добиваться их милостивого отношения ко вверенному мне для охраны населению и постараться установить свои, бессарабские, правила о призыве войск для содействия гражданским властям.
Цель эта была достигнута мною при содействии генерала-джентльмена, гр. Мусина-Пушкина, командовавшего в то время войсками Одесского округа, а введенный мною порядок я поддерживал: с Б. – откровенностью, убеждением и просьбами, с С. – хитростью, а с третьим генералом Г–м – настойчивостью, доходившей иногда до угроз.
Графу Мусину-Пушкину я подал составленную мною записку, в которой изложил подтвержденные примерами недостатки правил о призыве войск. Я предлагал, между прочим, пополнить эти правила статьей, согласно которой каждый начальник части, после вызова её гражданскою властью, обязывался самостоятельно приступить к распорядительным действиям во всех случаях, когда он усматривал беспорядки, грозящие опасностью для жизни и имущества обывателей. Граф очень хорошо и внимательно отнесся ко мне и моим предложениям, но предупредил, что военное министерство, конечно, будет противиться такому порядку, при котором ответственность за отсутствие распорядительности может быть перенесена с гражданской власти на военную.
Это обстоятельство не помешало Мусину-Пушкину оказать мне драгоценное содействие: он обещал разрешить начальнику кишиневского гарнизона войти со мной в сношения относительно ускоренного порядка вызова войск, в случае надобности. В действительности, он сделал даже больше, заменив разрешение авторитетной рекомендацией оказывать мне действительное содействие, идя навстречу моим намерениям до пределов, допускаемых уставом гарнизонной службы.
Мы с генералом Б–м установили следующие правила: на каждый месяц была определена очередь суточного дежурства одной роты и одного эскадрона. Сведения о месте казарменного расположения дежурных частей были сообщены полицмейстеру и приставам. На каждый месяц давался пароль, который мог быть сообщен начальнику дежурной части, лично или по телефону, любым из полицейских чинов, которому я, под своей ответственностью, давал право обращаться за содействием войска. Командир части, по сообщении ему пароля, выступал через десять минут в назначенное место, не дожидаясь приказа военного начальства, которому я одновременно посылал для сведения официальное требование. Таков был порядок частичной мобилизации. Для общего выступления войск заранее был приготовлен план распределения города по участкам и, согласно этому плану, все наличные части вперед знали свои места и находились в связи между собою при помощи телефонной сети. Оставалось преодолеть еще одно затруднение. Генерал Б. иногда уезжал в Одессу, и тогда приходилось иметь дело с С–м. Этот генерал был юдофобом по преимуществу, уступая в ненависти к евреям только генералу Г–у, и не хотел смотреть на все описанные выше меры предосторожности иначе, как как на позорное для армии поручение оборонять жидов. Однажды мне пришлось пригласить С–а на совещание, в котором участвовали вице-губернатор, полицмейстер и местный исправник; требовалось, в виду некоторых соображений, переменить план диспозиции военных частей. Угрюмо и нехотя подчинившись необходимости заняться выработкой нового плана, записанного состоявшим при нем офицером, С., наконец, встал и, прощаясь со мной, произнес следующие слова: «что вы, князь, беспокоитесь, доверьтесь нам, – в лучшем виде жидов растрясем».
Пришлось поневоле отнестись к этим словам, как к остроумной шутке. Но и этого мало. Я принужден был нередко прибегать к хитростям, сообщая С–у о том, что революционеры собираются идти с красным флагом или что среди евреев замечается брожение, и ожидаются с их стороны активные революционные действия. В этих случаях он охотно шел на уступки и отдавал необходимые распоряжения для охраны порядка при разных торжествах, вроде встречи икон и т.п. процессиях.
В тех, к счастью, редких случаях, когда командование переходило к Г–у, я надеялся больше на счастье и собственные силы, твердо решив, после нескольких опытов, обращаться к нему лишь в случаях крайности.
Общий вывод, к которому я пришел по отношению к военным властям, в конце моей административной деятельности в Кишиневе, был тот, что, в интересах охранения порядка, наилучший исход – вовсе не обращаться к содействию войск в тех случаях, когда дело идет о евреях. И, действительно, настроение офицеров кишиневского гарнизона по отношению к евреям не подавало надежды на то, что они окажут мне действительное содействие при возникновении антиеврейских беспорядков.
Два примера, которые я сейчас приведу, будут служить иллюстрацией того образа действий, который применялся местными офицерами к еврейскому населению.
Поручик К., местный уроженец, служил в мое время в драгунском полку. Красивая наружность молодого офицера, казалось, предназначалась для побед над женскими сердцами, а богатырское сложение заставляло предполагать в нем любителя всяких земных благ – рыцаря стола и бутылки. Но на деле оказывалось совсем другое.
К. поселился в двух маленьких комнатах скромного мещанского дома и одну из этих комнат обратил в нечто похожее на часовню. Огромный образ Богородицы, с неугасимой лампадой, евангелие и крест украшали приют, в котором поручик усердно молился, готовясь к подвигам, напоминавшим те времена, когда рыцари посвящали себя борьбе с неверными во славу Божию, для торжества христианства. Рано утром, еще до света, К. седлал лошадей и, вместе с денщиком, выезжал за городскую заставу на бой с евреями, выходившими, вопреки обязательному постановлению городской Думы, закупать хлеб с крестьянских возов, тянувшихся из сел к рыночной площади, где была сосредоточена хлебная торговля под наблюдением городской инспекции. Смело бросаясь на незаконных скупщиков и нанося им неожиданные удары, неустрашимый паладин всегда торжествовал победу, разгонял испуганных евреев и провожал воза на рынок. Но иногда он запаздывал к заключению запрещенных сделок: воза пшеницы оказывались уже купленными и увезенными евреями в свои дворы. К. и в этих случаях не примирялся с проявлением еврейской эксплуатации; он пускался в погоню за увезенным хлебом, находил дом покупщика, вламывался в ворота и отбирал купленное, щедро распределяя удары и брань между покупателем и продавцом, которого заставлял брать свой товар обратно и везти его на рынок.
Религиозная нетерпимость этого идейного офицера заставляла его иногда предпринимать еще более замечательные подвиги. Однажды, стоя в строю перед собором, по случаю какого-то торжественного дня, К. увидел двух любопытствующих евреев, вошедших на церковную паперть и, по-видимому, намеревавшихся проникнуть в собор. Он немедленно спешился, бросился к притвору и несколькими пинками спустил с соборной паперти дерзких иноверцев, которые кинулись бежать со всех ног. Все евреи знали К. и все его боялись, так как он, по их словам, «швыдко бузовал по мордам».
Благодаря моей несчастной славе доступного «гитэ-губернатора», как называли меня евреи, жалобы на поручика К. посыпались ко мне десятками. Я не давал им официального хода, так как был уже умудрен опытом по части сношений с военным ведомством. Но я переговорил с командиром полка частным образом, и тот прислал ко мне К. для объяснений. Поручик оказался добрейшим человеком, милым малым, давшим мне возможность в значительной степени умерить его пыл. Он вникал в мои соображения и во многом со мною соглашался; я счел нужным отдать ему визит, и тогда увидал тот образ, перед которым он вдохновлялся на борьбу с потомками «христопродавцев», получавшими от руки богомольного поручика расплату за давний грех своих предков.
Фамилия второго офицера, о котором я хотел здесь рассказать, мной позабыта. Он был тоже поручик, но пехотного полка, и также пользовался известностью в качестве ненавистника евреев. Однако, достойно замечания то обстоятельство, что кипучего кавалериста К., «бузовавшаго» жидов без всякого стеснения, по праву христианина и защитника бедного люда, евреи не столько ненавидели, сколько опасались, а более корректного, спокойного и холодного пехотинца, редко выступавшего в роли мордобойца, они совершенно не могли выносить. Та переделка, в которую, как ниже будет описано, попал пехотный поручик, немыслима была бы в отношении К., несмотря на его постоянное рукоприкладство к еврейским физиономиям.
Поручик X. вошел однажды в еврейский магазин, помещавшийся на главной улице Кишинева, и бесстрастным голосом произнес: «перчатки». «Сию минуту», ответил приказчик, продолжая отпускать товар какому-то посетителю, пришедшему раньше. «Перчатки!», – Повторил X., возвысив голос, но не теряя еще хладнокровия. Приказчик позволил себе заметить, что он удовлетворяет покупателей по очереди. Немедленно последовал удар офицерской руки по щеке приказчика, который с криком выбежал из магазина. Замечание хозяина лавки, что драться нельзя, было тут же опровергнуто действием, и хозяин, получив свою порцию оплеухи, выбежал также вон; за ним удалились из лавки все покупатели. Вскоре на улицу вышел и офицер, видя, что перчаток ему купить не у кого. Присоединившись к одному из своих товарищей по полку, X. пошел по широкому тротуару улицы, не ожидая никаких последствий от описанного происшествия.
Всякому другому, действительно, эта история прошла бы даром, но, как я сказал, евреи ненавидели X. Вскоре около него, спереди, сзади, с боков, образовалась довольно густая толпа еврейской молодежи, приказчиков соседних лавок, которые стали задевать его за платье, слегка прикасаться к нему локтями, наступать ему на ноги. Оглянувшись, оба офицера заметили, что толпа растет, и повернули с тротуара на улицу; кольцо вокруг них делалось все гуще и тесней, раздавались свистки, насмешки, угрозы. Офицеры вынули шашки и стали медленно подвигаться к противоположному тротуару. Уже с головы одного из них упала фуражка, а на шашку другого накинули петлю, когда, наконец, прибежали полицейские и, с помощью некоторых лиц из числа публики, ввели бледных и растерявшихся офицеров в кондитерскую и стали производить аресты. Арестовали на удачу человек двадцать.
Я узнал о происшедшем немедленно. Все старания мои были направлены к тому, чтобы распорядиться и закончить это дело до приезда ко мне командовавшего в то время гарнизоном С., так как я чувствовал, что ко мне будут предъявлены такие требования, которых исполнить я не соглашусь. Я не смог бы удержаться от осуждения выходки поручика, и, вероятно, разговор наш кончился бы разрывом, за который лавочники расплатились бы не позднее следующего дня.
Немедленно пригласив к себе обоих офицеров, я повез их в арестный дом, куда только что доставили арестованных евреев. Я предложил обиженным назвать мне оскорбителей, на что, после долгого раздумья, последовало с их стороны указание пяти лиц. Эти пятеро были подвергнуты аресту в административном порядке за незаконное сборище в публичном месте, офицерам было предложено удовлетвориться этой мерой, на что они с радостью согласились; побитым в лавке я рекомендовал обратиться с жалобой в суде, на что их согласия не последовало, и военные власти настолько крепко замолчали о всем происшедшем, что никто из них ни разу при мне не упомянул о неприятном случае оскорбления представителей русской армии в публичном месте.
В бытность генерала Раабена губернатором, господа офицеры переезжали в грязную погоду через улицу верхом на городовых; это были невинные шутки, так сказать, взаимные одолжения между военными. При мне таких случаев не было, но зато я не мог похвастаться любовью ко мне в военной среде.
О солдатах кишиневского гарнизона мне почти нечего рассказать, кроме того, что, по возвращении войск из лагерей в город, ночные кражи, уличные драки и безобразия в ночных притонах всегда заметно увеличивались.
Глава Шестая
Дворянство в Бессарабии. Помещик X. Крупенские. Дворянский пансион-приют. Земство. Суд. Дело об апрельском погроме. Мое мнение о причинах возникновения кишиневского погрома. Прокурорский надзор.
Я хорошо знал быт, характер и традиции и особенности дворянства великорусских губерний, в частности губерний московского района. Всего ближе, по условиям моей прошлой жизни, мне было знакомо дворянство земельное, сохранившее свои старые родовые имения, ведущее сельское хозяйство на своих землях. В Ярославской, Костромской, Тульской, Смоленской, Орловской и Калужской губерниях, в 80-х и 90-х годах прошлого столетия, можно было еще нередко найти огромные усадьбы, со следами прошлого величия, с вековыми парками, искусственными запрудами, иногда даже с персиковыми оранжереями, с ценной мебелью, редкой бронзой, фамильными портретами и библиотеками в просторных комнатах состарившихся, но еще годных для жилья домов. Заметно было, что прежняя барская жизнь в таких усадьбах клонится к упадку, что старые дома и старые затеи, в большинстве случаев, не будут возобновлены в прежнем виде, но дух старинного барства еще жил в сохранившейся обстановке, и, при созерцании всей этой старины, получалось известного рода эстетическое наслаждение.
Еще ближе мне были известны усадьбы средней руки, в которых велось незатейливое, приспособленное к окружающим условиям, хозяйство, без агрономов и управляющих, при помощи старосты или приказчика, руководимого живущим в имении владельцем. В большей части таких усадеб не было ни роскоши, ни затей. Несколько собак для осенней охоты, тройка доморощенных лошадей и какой-нибудь любимый жеребенок, на которого возлагались всегда преувеличенные и, по большей части, обманчивые надежды, – составляли роскошь помещика, получавшего от своего хозяйства скромные, но верные доходы, – те рубли, которые, по русской пословице, тонки, но долги. Действительно, больших доходов, быстрого обогащения от таких помещичьих хозяйств нельзя было ожидать. Однако, среди жалоб на неурожаи, на дороговизну труда, на недобросовестность соседних крестьян, владельцы небольших имений жили скромно, но сыто и, хотя иногда украшали своими именами страницы банковских публикаций, тем не менее в сущности даже богатели, в виду медленно, но постоянно возраставшей цены земли.
Таких надежных землевладельцев-дворян я знал много, особенно в губерниях нечерноземных, и должен сказать, что они представляли собой явление в общем благотворное. Отношения их с крестьянами, несмотря на происходившие иногда соседские недоразумения, были большею частью недурны. Кулачество, эксплуатация крестьян – с их стороны были явлением редким. Напротив, в их отношениях с рабочим крестьянством наблюдалось известного рода единение, выработанное продолжительной совместной деятельностью. В этом уступчивом и благодушном отношении к бывшим крепостным своих отцов и сказывалась известного рода особенность, выгодно выделявшая местных дворян-помещиков из ряда частных владельцев других сословий, кулаков-мещан и разбогатевших крестьян, которые были гораздо прижимистее и беспощаднее к низшей братии, чем дворяне. В последних положительно сказывалось (хотя иногда слабо и бессознательно) некоторое сочувствие крестьянству, отчасти идейного характера, вытекавшее из любви их к земле, к земледельческому труду и к тем, кто живет этим трудом. Культурное значение дворянско-помещичьих хозяйств северно-центральной России, где среди крестьянского населения нет земельного голода и вынужденной дорогой аренды, не может быть, по моему мнению, отвергнуто.
Простота жизни, отсутствие классовой замкнутости и сословной гордости, в смысле чванства, трудовая деревенская жизнь, понимание народных нужд и снисходительное отношение к тому напору на помещичье хозяйство со стороны соседей крестьян, который всегда раздражает владельцев-новичков, – вот те положительные стороны помещиков средней руки, с которыми я ознакомился преимущественно в Калужской губернии. Совсем другую картину я увидел в Бессарабии. В бессарабских усадьбах богатых помещиков можно было встретить большую роскошь, но в них не было той старинной величавости, которая в наших местах ведется от времен Екатерины и Александра II. Усадьбы Бессарабии иногда освещены электричеством, но в них не найдется масляных ламп стиля «Empire» и тех бронзовых подсвечников и люстр, по которым в центральной России узнается старый дворянский дом. Книжные шкафы бессарабских помещиков полны новейшими романами, но в них отсутствуют французские энциклопедисты 18-го века, в кожаных переплетах, с золотым обрезом. Не видно в их домах и прежней мебели, работы доморощенных столяров, все сделано модно, по новому, часто меняется. Может быть, многое там и удобнее, чем у нас, но все же их деревенские дома – прекрасно меблированные комнаты, а не русские стародворянские гнезда.
Не заметил я у бессарабских помещиков и той любви к имению, которая у нас обыкновенно не зависит от красоты и доходности его. Мы смотрим на свои имения, как на неодушевленные личности, и любим их за них самих, а не за то, что они нам приносят. В Бессарабии имение – земельный пай, приносящий хороший доход и легко переходящий из рук в руки, – рыночная ценность, обращающаяся среди предприимчивых лиц, благодаря быстрым скачкам в повышении стоимости земли. Имения, приобретенные в 70-х годах по 25–35 руб., переходили при мне в пятые руки по 250–350 руб. за десятину. Высокие урожаи дорогих хлебов, близость портов и границы довели в Бессарабии арендные цены на землю до высоких цифр. Удобрение в мое время применялось там редко. Ведение хозяйства собственным инвентарем встречалось не часто, разве только в северных уездах губернии. Обыкновенно, бессарабский помещик оставлял себе виноградники и небольшой кусок земли, а остальное имение сдавал в аренду, большею частью еврею, передававшему мелкие участки крестьянам, от которых сам помещик был далек, живя по городам и заграницей. Показная роскошь, пользование благами городской жизни, стремление больше получить и еще больше истратить, – таковы были бросавшиеся в глаза черты бессарабских помещиков, лишавшие дворянское землевладение Бессарабии преемственности и прочности. Большие земельные состояния дворян там быстро таяли и переходили из рук в руки. Так, например, в мое время еще жива была память о бессарабском помещике Бальше, земельном магнате и благотворителе, но ни одного имения Бальши я уже не застал. Зато сыновья его бывшего управляющего владели миллионными средствами, которые, в свою очередь, на моих глазах, беспощадно растрачивались его внуками. Не могу отказать себе в желании рассказать здесь историю пяти лет жизни одного бессарабского помещика, большого моего приятеля. Этот рассказ послужит иллюстрацией ко всему вышесказанному и даст возможность увидеть типического бессарабского землевладельца.
В 60-х годах прошлого столетия один небогатый землевладелец Оргеевского уезда., X., обратился к соседнему богатому помещику В. с просьбой ссудить его небольшой суммой денег. Тот отказал, не доверяя кредитоспособности просителя. Через 30 лет, бывший богач не имел почти никакого состояния, а X., умирая, оставил сыну три тысячи десятин незаложенной земли и солидный денежный капитал. Сын X. кончил курс в университете и женился против воли отца, еще при его жизни, на одной особе, обладавшей прекрасным голосом и музыкальными талантом. Молодые уехали в Италию, получая от обиженного отца только 100 рублей в месяц – бывший студенческий паек, – и поступили на сцену, распевая на итальянских театрах, жена – в качестве примадонны драматического сопрано, а муж, быстро выучившийся петь, – в качестве баритона. Так прошло несколько лет их оригинальной, полной приключений жизни, пока смерть отца не призвала чету певцов обратно в Бессарабию, где муж стал служить по выборам и заниматься хозяйством на бессарабский манер. В небольшой отцовский дом, помещавшийся среди села, была привезена из Италии мебель с инкрустациями, были выписаны музыкальные инструменты, бильярд, дорогая посуда. Земский дом в уездном городе был отделан вновь на счет нового общественного деятеля, кареты, кровные лошади были к услугам гостей, съезжавшихся к X. в неограниченном числе. Гости ели, пили, ночевали и веселились, а хозяин, любивший в сущности простую, тихую жизнь и интересовавшийся искусством и службой, обратился в гастронома поневоле. Когда он пригласил меня к себе в деревню, я поставил условием простоту приема, особенно стола, так как я не выносил обильных бессарабских яств. X. до сих пор уверяет, что у него были приняты меры, чтобы угодить моим простым вкусам, но я опишу здесь подробно, как мы провели у него день. Я приехал с женой и одним родственником, не бывшим никогда в Бессарабии, на станцию железной дороги, где нас встретил сам хозяин в двух четырехместных экипажах. Проехав верст 20, мы в 3 ч. дня сели за стол, уставленный бутылками и закусками всевозможных видов. Утолив голод, мы лениво принялись за продолжение обеда, состоявшего из четырех сытных блюд, без супа. Просидев за столом часа полтора, я с нетерпением ждал возможности пойти погулять, но оказалось, что мы имели дело еще только с бессарабской закуской, и что бессарабский обед не начинался. Подали два супа и еще семь огромных, разнообразных, сытных блюд.
Я был настолько близок с хозяином дома, что позволил себе выразить свою злобу на него молчаливым протестом, которого он до сих пор забыть не может: я не прикоснулся к подаваемым блюдам, видя в неожиданном продолжении обеда обман и покушение на мое здоровье. Другой, приехавший со мной гость, калужский помещик, реагировал иначе на бессарабское гостеприимство: он заснул в середине обеда, и лакей долго не решался его толкнуть, подавая ему какое-то по-бессарабски пятое, а по нашему – девятое блюдо. Мы встали от стола около 7 час. вечера; в 11 часов предстоял ужин.
Я потом узнал, что для этого дня было выписано из Одессы провизии на 800 рублей. Молодой, умный, талантливый и добрый X. быстро нашел путь для траты отцовского состояния. Задумав провести зиму в Кишиневе, он стал подыскивать жилище. Ему предлагали прекрасный готовый дом за 70 тысяч, но он предпочел купить за 60 тысяч другой, никуда негодный. Сломав его до основания, он выстроил, на том же месте, небольшой дворец за 120.000 руб., завел свою электрическую станцию, меблировал комнаты заново. Прожив одну зиму в Кишиневе, продав одно имение и заложив другое, он переехал на следующую зиму в Румынию, бросив свой дом, содержание которого с % на затраченный капитал составляло около 18.000 руб. в год. Теперь, когда я пишу эти строки, X. опять живет в Италии, поручив ведение своих дел в Бессарабии одному из своих родственников. Следует заметить, что X. не играл в карты, мало ел и почти не пил. Его любимое развлечение – хорошая музыка и разговор по душе с близким знакомым. Единственная его трата, на удовлетворение своих собственных причуд, – были срочные телеграммы, которыми он сносился со всеми, взамен писем, и независимо от срочности тех сообщений, которые он желал сделать. Такие телеграммы, слов в 100, с обычным обращением и заключением, с длинными вводными предложениями, я получал от него не раз просто по случаю того, что ему хотелось поговорить со мной по телеграфу.
Несколько особняком среди бессарабского дворянства стояла огромная семья Крупенских, имевшая, как говорили, в дворянском собрании 52 голоса, считая женские доверенности. В мое время, старший член этой семьи, М.Н. Крупенский, занимал должность губернского предводителя дворянства, два Крупенских служили уездными предводителями, остальные были губернскими и уездными гласными, почетными мировыми судьями и т.п. Семья эта, очень сплоченно действовавшая в общественных собраниях, играла при выборах огромную роль и отчасти давила на прочих общественных деятелей Бессарабии, за что не все любили Крупенских, считая их гордецами, аристократами и обвиняя их в некоторой семейной исключительности. Будучи людьми богатыми, имея связи в Петербурге, Крупенские вносили в местную среду дух, почерпнутый в привилегированных заведениях, в гвардейских полках, в рядах придворного чиновничества и дипломатического ведомства. Но они не были людьми узко партийными, имели известную свободу мнений и, например, к правительству времен Плеве относились без подобострастия и даже с некоторой критикой. В вопросах о расширении местного самоуправления, во взглядах на еврейское законодательство они являлись отчасти либералами. В особенности гуманен и мягок характером был губернский предводитель дворянства Михаил Николаевич, милейший и благороднейший человек. Про него ходили слухи в Петербурге, что он юдофил, покровительствует евреям и зависит от них в материальном отношении. Безусловную порядочность его я доказывал, как только мог, и Крупенский, наконец, получил, к Пасхе 1904 года, давно ожидаемое им звание камергера Высочайшего Двора, доставившее ему, в то время уже безнадежно больному, большое удовольствие. В общем, за немногими исключениями, роль, которую играла в Бессарабии семья Крупенских, не была отрицательной. Однако, впоследствии, после роспуска первой Государственной Думы, Крупенские, имевшие свое состояние в земле, сильно подались в сторону правительства и, увлекшись ограждением своих семейно-сословных интересов, утратили значение беспристрастных общественных деятелей. Эту перемену я объясняю себе боязнью аграрной реформы, устрашающее влияние которой отразилось в то время на большинстве помещиков.
М.Н. Крупенский задумал увековечить память о своем предводительстве постройкой в Кишиневе дворянского пансиона-приюта. Не жалея трудов и времени, он ездил в Петербург, добивался Высочайших аудиенций и сумел выхлопотать от казны средства на постройку здания, смета которого была составлена тысяч в триста. Бессарабское дворянство решило принять на себя расходы по содержанию приюта, в уверенности, что предпринимает выгодное и важное для интересов сословия дело. М.Н. Крупенский, не дождавшись окончательная согласия министра финансов на отпуск казенных денег, понадеявшись на слова Государя и не собрав ни гроша из средств местного дворянства, приступил к постройке приюта по грандиозному плану. Великолепный дворец, с роскошными квартирами, светлый, просторный, с собственной электрической станцией, был почти готов, когда, наконец, удалось вырвать казенную ассигновку. Крупенский был должен кругом подрядчикам и поставщикам, которых удовлетворил авансами, выдавая им свои векселя. Приют был построен на славу, недорого и добросовестно. Наступила пора подумать о том, кем заполнить это учреждение, и тогда выступила во всем блеске бессарабская беспечность: пансионеров для приюта не оказалось, да дворянскому сбору было бы и не под силу их содержать. В результате – здание стоит пустым до сего времени (зимы 1906 года).







