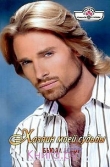Текст книги "Я, Роми Шнайдер. Дневник"
Автор книги: Роми Шнайдер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
– Детка, – говорил мой отчим, которого я окрестила «Дэдди». – Тебе не нравится материал? Эта очередная принцесса стоит тебе поперёк горла? А ты всё равно должна её играть. Потому что ты же не сумасшедшая, чтобы выбросить на ветер 750 000 марок!
Но теперь был и другой мир, и я жаждала его покорить. Париж, театр, большие режиссёры с фантастическими проектами, молодые люди, способные послать к чёртовой бабушке целые состояния... Немыслимый мир, он сбивал с толку и захватывал, всё вместе.
И тут была любовь.
В первые парижские месяцы я была – комок нервов. Жила судорожно, отчаянно, без руля и без ветрил. Каждый день меня бомбардировали телефонными звонками: мама, отчим, даже брат Вольфи. Уж он-то всегда так точно чувствовал мои проблемы! А тут, казалось, даже он перестал меня понимать. Тогда я чуть не поставила крест на наших с ним отношениях.
Алена не воспринимали они все, вся семья. Абсолютно. Стращали меня, нашёптывали всякую непристойную чушь, чтобы оттащить меня от него. Доводили меня до ярости.
Но если хотя бы пару дней никто из них не звонил, я впадала в отчаяние.
В какой-то момент мне пришло в голову, что моя совесть вообще не участвует в этой игре. Будто вместо неё во мне жил закон семьи, где я выросла. Невольно я спрашивала себя: может, они правы? Может, я на самом деле веду себя ужасно? Может, я действительно буду до смерти несчастна, как все они предсказывают?
А потом я уговаривала себя: ну не будь такой слабой, ну попытайся радоваться жизни!
Между звонками мы изводили друг друга письмами. Всё, чего я не могла прокричать в телефонную трубку, я вкладывала в эти письма.
Чудовищные письма. Сегодня я в них раскаиваюсь.
Но ведь и из Германии тоже приходили жуткие письма. Теперь-то мы вместе можем над ними потешаться, а тогда всё было очень серьёзно. Просто семейная драма времён королевы Елизаветы: к концу пьесы на сцене – гора трупов.
Перед большим антрактом этой драмы и мы тоже были как мёртвые – все. А в антракте – примирились, как-то походя, легко. В одночасье трагедия превратилась в комедию.
Было это так.
В марте 1959 я встретилась с мамой и отчимом в нашем доме в Моркоте, близ Лугано. Ханс-Херберт Блатцхайм открыто признал здесь мои отношения с Аленом.
Может, он их никогда бы не признал. Но он убедился, что я прикипела намертво. И решил: уж если оторвать меня от Алена не выходит, то надо хотя бы соблюсти приличия. Как минимум.
Сегодня я понимаю упёртость моего отчима. Он и вправду не мог ни думать, ни поступать иначе – просто по своему происхождению и образу жизни. Дочка «из хорошего дома», его падчерица, не должна была жить с мужчиной по крайней мере без обручения.
И поэтому Ханс-Херберт Блатцхайм устроил нашу помолвку.
Я приехала из Парижа в Лугано и там узнала от Дэдди:
– Завтра – твоя помолвка. Прессу я уже оповестил. Ален будет здесь.
До сих пор не понимаю, как Дэдди удалось уговорить Алена.
Почему этот совсем не благопристойный француз согласился на такой явный фарс?
Я ведь его знала. Поэтому в тот день, 22 марта, до последней минуты сомневалась, что он появится. Однако он действительно приехал.
Мы «праздновали» помолвку. Все позировали для фотографов, и каждый сказал газетчикам пару слов. Например, мама сказала:
– Со свадьбой мы не торопимся. Пусть дети сначала получше узнают друг друга.
Дети уже вполне хорошо знали друг друга. И уж особенно хорошо они знали, какая пропасть их разделяла. Между Аленом и мной лежал целый мир.
В своей книге Ален выразил это так:
«Она происходит из того слоя общества, который я ненавижу больше всего на свете. Конечно, она – дитя своего круга, и пусть сама Роми не виновата в его предрассудках, это дела не меняет.
Ясно, что за пять лет я не смог искоренить того, что двадцать лет подряд вдалбливалось ей в голову.
Во мне ведь тоже живут два, три, даже четыре Алена Делона, вот и в ней всегда были две Роми Шнайдер.
Она это тоже знала.
Одну Роми я любил больше всего на свете, другую так же страшно ненавидел».
И я вижу это дело примерно так же.
Никому не дано выпрыгнуть из своей шкуры. Ты же не можешь просто отшвырнуть то, что выковывало твою натуру с самого детства.
Ален этого не мог, я этого не могла.
И поэтому наши отношения с самого начала были обречены.
Но только тогда мы этого не знали. Или не хотели знать, уж я-то точно.
Мы въехали в дом Алена на авеню Мессин. О свадьбе и речи не было. Нам обоим это вовсе не казалось чем-то важным. Просто формальность, не более. Он – мой муж, я – его жена, и бумаги тут ни при чём. Пока ни при чём.
Поначалу всё шло хорошо. Со своей семьёй я как будто примирилась, Париж был мне по нутру, я учила язык, находила друзей. Кроме того, мне было чем заняться: я выполняла договоры, которые подписала раньше, – «Катя», «Прекрасная лгунья» и «Ангел на земле».
А дальше не было ничего.
Из Германии я «выписалась», во Франции ещё не «прописалась».
И как актриса я просто не существовала. Меня воспринимали как жизнерадостную подружку восходящей мировой звезды Алена Делона.
У Алена фильмы шли один за другим. А я сидела дома. Мы с ним теперь поменялись ролями: когда мы познакомились, он был новичком и, как говорится, только подавал надежды. Я уже была успешной актрисой. Нет, лучше так: у меня было больше актёрского опыта, чем у него. Настоящей, серьёзной актрисой я тогда ещё не была – такой, как сегодня рискну себя определить.
Вечерами в арт-клубе «Элизе-Матиньон» мы встречали больших режиссёров – они обсуждали с Аленом свои следующие проекты. Для меня же у них находилась лишь пара приветливых слов.
Я была подавлена. Раздражалась, услышав очередную новость об успехах Алена, о его новых замечательных контрактах.
Я с ним жила. Но ведь я же не была ему мамочкой, – а такой тип женщины, наверно, больше подходил бы ему. И жёнушкой для штопки носков, стряпни и вечного ожидания – такой жёнушкой я тоже не была.
Я была актрисой и хотела работать. Впервые в жизни я ревновала к чужому успеху.
Я говорила себе: ведь я могла бы чего-то достичь, если бы мне дали шанс. Почему мне не дают шанса? Неужели из-за клейма Зисси?
Летом 1960-го я приехала к Алену на выходные на Искью. Он там снимался у Рене Клемана в фильме «На ярком солнце». Помню этот уик-энд очень отчетливо, потому что именно тогда в моей профессиональной жизни наконец что-то сдвинулось с места.
Мы с Аленом сидели в бистро, в гавани, и болтали. Точнее, не мы болтали, а говорил один Ален. Он говорил, и говорил, и говорил, и всё никак не мог слезть с одной темы. Этой единственной темой был режиссёр Лукино Висконти.
Об этом чудесном человеке я ещё в Париже слышала столько чудесного, что эти чудеса уже стояли у меня поперёк горла. И тут, на Искье, в гавани, пока Ален не умолкал битых два с лишним часа, моё терпение лопнуло. Что за человек, и что за режиссёр, и что за величина, и как он делает то, и как он делает это, и как он ведёт артиста, и что за невероятные идеи у него...
Слушать всё это я больше не могла.
Меня уже тошнило от одного этого имени.
– Давай заканчивай со своим Висконти! – сказала я.
– Ты должна с ним познакомиться, и тогда ты будешь говорить по-другому...
– Я не желаю. Не хочу с ним знакомиться...
Мы поссорились. До того, что разошлись в разные стороны.
И я улетела назад, в Париж, с тяжёлым сердцем.
Когда Ален закончил на Искье натурные съемки, он уехал в Рим. Оттуда он позвонил мне, очень миролюбиво:
– Пожалуйста, приезжай в Рим. Тебе надо познакомиться с Лукино. Мне это важно.
Как я познакомилась с Лукино, я не забуду до конца моих дней. Этот человек сделал для меня в то тяжёлое время так много, как никто другой.
Я и сейчас вижу, как я стою в холле его великолепного дома на Виа Салариа, чуть живая от дурацкой девчачьей робости.
Подхожу к нему вместе с Аленом. Он восседает в громадном кожаном кресле у камина. Смотрит на меня, как будто хочет сказать: ага, малышка Делона, вот я тебя сейчас попробую на зуб...
Из тех мужчин, кого я знаю, он выглядит едва ли не лучше всех. Ему хватило четверти часа бессвязной болтовни, чтобы совершенно меня очаровать. Но мне он сопротивлялся явно и отчётливо. Я скажу так: вероятно, он ко мне ревновал. Ален – его подопечный, из которого он хочет сделать нечто особенное, и он не терпит рядом никого, кто мог бы отвлечь Алена.
И тогда и сейчас было много разговоров насчёт отношений Алена и Висконти. Но я уверена, что в этих отношениях не было ничего, кроме того, что Лукино любил Алена как сырой материал, в котором угадывался большой актер. Висконти хотел придать этому материалу свою форму – и делал это тиранически и жёстко.
Как раз тогда он собирался как продюсер поставить в Париже одну пьесу с Аленом.
Мы встречались у Висконти три или четыре вечера подряд. Казалось, Лукино больше ничего не имеет против меня. Я была просто счастлива: теперь я тоже находила его восхитительным – как и все, кто мне его описывал.
На четвёртый вечер, как и всегда, был великолепный ужин. Этот человек княжеских кровей любит роскошь во всём.
Мы говорили о спектакле, который Лукино готовился поставить: «Нельзя её развратницей назвать» по пьесе Джона Форда [11]
[Закрыть].
Я тогда носила длинные тёмные волосы на прямой пробор. Причёска в старинном стиле. Может, это и натолкнуло Лукино на его идею: действие пьесы происходит в Англии эпохи Возрождения.
Он посмотрел на меня испытующе:
– А что бы получилось, Ромина, если бы ты сыграла в этом спектакле партнёршу Алена? Роль подошла бы тебе идеально.
Я засмеялась.
– Господи! Я же ни разу в жизни не играла на сцене.
Ален нагло усмехнулся. Я заподозрила: он сам и затеял это, чтобы прибрать меня к рукам. Но очень скоро выяснилось, что Висконти с ним об этом никогда не говорил.
Абсурдная идея. Я попыталась объяснить Висконти, что его идея – просто абсурд. Девочка совсем без сценического опыта должна играть английскую пьесу на французском языке с итальянским режиссёром? Да критики просто порвут меня на куски.
И вообще...
Но Лукино не давал сбить себя с толку. Он только спросил, как у меня с графиком и можем ли мы сыграть спектакль в следующем сезоне.
Я ответила:
– При чем тут график? Вы вообще с ума сошли, что ли? Я не говорю толком по-французски, я не умею двигаться на сцене – это же было бы актёрским самоубийством!
– Смелости не хватает, Ромина?
Тут он попал в моё самое уязвимое место. Я не трусиха, а слабость духа считаю пороком.
– Дело не в смелости, – сказала я, – просто я знаю, что этого я не могу.
Но он делал со мной что хотел.
– Я отправлю тебя в Париж, Ромина, заниматься сценической речью. Это первое. Когда ты освоишь речь, мы начнём репетировать. И я тебе обещаю: если мы за две недели установим, что дело не идёт, то я освобожу тебя от обязательств и отдам роль кому-нибудь другому.
Я сказала ему раз сто: ничего не выйдет. Но Висконти стоял на своём.
При одной мысли об этом у меня дрожали колени, и всё же я начала работать.
У мадемуазель Гийо в Париже я брала уроки фонетики и дикции. Она начала со мной с азов, как будто я ещё не говорила по-французски ни единого слова. Мы занимались день и ночь. Работали с магнитофоном, я записывала на плёнку басни Лафонтена. (Много позднее, уже после премьеры, я послушала свои первые записи – и едва узнала сама себя.)
В то же время я занималась французским с актёром и режиссёром Раймоном Жеромом. С ним мы прошли и диалоги нашей пьесы; их перевёл на французский наш друг Жорж Бом.
Висконти мне, правда, категорически запретил произносить диалоги. Никто не должен был портить ему дело. Но так я всё же чувствовала себя увереннее.
А потом об этом «безумном плане» узнала моя мать. Она была просто вне себя.
Таким образом, антракт в нашей семейной драме закончился. Звонок к следующему акту. Конечно, со своей стороны мама была совершенно права. Ещё несколько лет тому назад она мне говорила:
– Прежде чем выйти на большую сцену, ты должна получить актёрское образование и сначала показаться где-нибудь в провинции.
И вот теперь я пустила её советы по ветру – и стартовала именно на парижской сцене, с великим режиссёром.
Безумие.
«Ты же разоришься. Я не могу этого допустить», – писала она. Я возмущенно отвечала, что я сама себе хозяйка, хватит с меня опеки, я могу разориться где, когда и как хочу.
Снова пошла нервотрёпка – телеграммы, письма, ссоры по телефону.
И ведь между нами стоял не только спектакль, но – и прежде всего – мужчина: Ален, который был единственным, не считая Висконти, кто в меня верил. Он, кстати, вложил в эту постановку собственные средства.
Но кроме них в меня и в мой успех не верил никто. Ни один человек. В Париже болтали всякое. Например: она получила это только благодаря Делону. Неужели Висконти сам пришёл бы к мысли дать этой маленькой глупенькой венке такую прекрасную женскую роль?
Все были правы – кроме меня.
Это я поняла после первых же репетиций. Я действительно пустилась в предприятие, для которого мне не хватало способностей.
Воспоминания о первой вечерней репетиции в Театр де Пари просто ужасные.
Мы с Аленом бешено неслись в его «феррари» по Парижу. Всюду красные светофоры. Опоздали на десять минут. Все уже были здесь – и ждали. Все: сливки парижского театра, тринадцать актёров. Валентин Тесье, Даниэль Сорано, Пьер Ассо и как их там ещё зовут.
Никто не сказал ни единого слова. Приняли нас ледяным молчанием. Ага, эти ребята из кино, они не считают нужным по часам являться на большую и важную работу. Дело ясное. Звёздная болезнь. Наглость.
Висконти тоже свирепо сверкнул глазами. Молча.
Висконти репетирует четыре недели только за столом. Актёры сидят кругом (Алена и меня он сажал как можно дальше друг от друга) и читают вслух свои роли. Когда подошла моя очередь, я не смогла выдавить из себя ни слова.
Это было какое-то хриплое карканье, лепет. Я чувствовала себя как нерадивая ученица, которая не выучила урока и была тут же выдворена из школы. Ничего подобного мне ещё никогда не приходилось переживать.
Я была до смерти опозорена. Все остальные не обратили на мой позор никакого внимания, как будто ничего другого и не ожидали.
На следующий день мы с Аленом явились за час до репетиции. Мы репетировали с Висконти одни.
И мы извинились за вчерашнее опоздание.
– Ладно, – сказал он. – Это случилось, и давайте об этом забудем. Но зарубите себе на носу: никогда, никогда, никогда больше!
Актёр Пьер Ассо – сегодня один из лучших моих товарищей – обращался ко мне особенно отстранённо. Я была для него – пустое место. Но спустя десять дней он стал подсовывать мне под столом записочки, вроде таких: «Это уже лучше» или «Сегодня было хорошо».
Это было трогательно – но я не верила ни единому слову.
Я думала, ничего у меня не выйдет. В отчаянии от надвигающегося провала я потеряла сон. День и ночь я думала о замене, о той девушке, которую Висконти присмотрел вместо меня. Я представляла себе: вот сидит где-то у телефона по-настоящему одарённая молодая актриса и ждёт звонка. Ждёт, что голос Висконти скажет ей: «Приходите, мадемуазель. Как и ожидалось, Роми отказано...»
И тогда окажется, что и в самом деле правы те, кто меня предупреждал. Все. Моя мать, и Дэдди, и Вольфи, и коллеги, и журналисты. Весь Париж.
Никогда в жизни не забуду тот день, когда я впервые пережила это грандиозное чувство: что это значит – быть актрисой.
Путь к этому мигу был, правда, суровым. Даже сейчас меня бросает то в жар, то в холод, чуть только вспомню, как мне отказал голос на первой застольной репетиции. Тот писк маленькой глупой девочки.
Внизу, в партере громадного Театр де Пари, – 1350 пустых кресел. Занято только одно-единственное место в пятом ряду – в те первые недели 1961 года. За режиссёрским пультом – Лукино Висконти, совсем не друг, но наоборот – холодный, бесстрастный наблюдатель, чьё молчание может выразить всё: презрение, разочарование, ярость...
И я не осмеливаюсь спросить, что он думает обо мне. Я чувствую, что я провалилась. И это чувство растёт во мне день ото дня, как кошмар.
Ален мне помочь не может. Этого вообще никто не может, кроме Лукино. Ален – человек кино, правда, завоевать сцену ему тоже хотелось бы, но он вовсе не так нуждается в театре, как я. Я чувствую за собой бремя традиции – и долг перед традицией. Я думаю о своей бабушке, великолепной, незабвенной актрисе Бургтеатра Розе Альбах-Ретти, которая и в 85 лет гордо и достойно увлекала свою публику. Она всегда хотела, чтобы я играла в театре. Она мне это всегда советовала, но мне не хватало мужества.
Теперь мужество мне необходимо: я должна играть в театре, причём на чужом языке.
Я думаю о моём отце Вольфе Альбах-Ретти и о моей матери.
Я думаю: ты не имеешь права их опозорить.
Я думаю: уже ничего нельзя предотвратить. Поздно. Ты затесалась в дело, которое тебя потопит.
На первую сценическую репетицию – после четырёх недель читки за столом – я прихожу в брюках. Однако Лукино Висконти настаивает, чтобы я переоделась в кринолин. Он должен помочь мне почувствовать себя Аннабеллой. После всех моих прошлых костюмных фильмов кринолин для меня – не проблема. Я всегда чувствовала себя тем персонажем, чей костюм я надевала. Сразу приходили правильные движения.
Но теперь – всё напрасно. Я мерила сцену тяжёлыми шагами – сколько километров намерила? Я не знала, куда девать руки. Они висели вдоль тела, ненужные и неуклюжие. На мне были тяжёлые башмаки, и мне надо было сделать несколько грациозных танцевальных па по сцене.
Но ведь это-то я могу? Я же овладела этой техникой!
Ни следа. Двигаюсь как слонёнок. И все остальные так это и воспринимают!
Во втором акте я одета в утренний капот из тяжёлого бархата. Висконти любит, чтобы весь реквизит на сцене был настоящий. Он просто фанатик подлинности. Поэтому мой бархатный капот очень тяжёлый. Каждый вечер у меня – красные рубцы на плечах.
И вот в этом самом капоте я должна была сыграть труднейший, просто виртуозный эпизод: Аннабелла ожидает ребёнка от своей кровосмесительной связи с братом Джованни (его играет Ален); муж, узнав об этом, терзает её и издевается над ней. Она должна сознаться, кто отец ребёнка. Мой партнер Жан Франсуа Кальве в кульминации эпизода хватает меня за волосы и швыряет из угла в угол, через всю сцену. То есть так это должно выглядеть.
Но у меня этот «аттракцион» не выходит. Мне не удается крутиться так долго, как надо. И каждый раз я плюхаюсь на пол прямо на середине сцены. После множества попыток моё тело становится зелёным и синим.
И при этом я без конца твержу себе самой: у тебя должно получиться, ты достаточно натренирована.
Но что-то мне мешает.
Висконти во время наших репетиций упал с лестницы, сильно поранил колено и ходил теперь с палкой.
И вот теперь он сидел там, внизу, положив руки на набалдашник, и наблюдал за мной. В большой сцене сумасшествия мой безумный хохот превращался в жалкое хныканье. Сквозь рампу оно не пробивалось.
Висконти много не говорил, только без конца повторял:
– Я тебя не слышу...
Между тем я знала: он меня слышит. Это была его тактика. Он хотел меня доконать, дожать, чтобы потом вытащить из меня то, что ему надо.
Он зашёл очень далеко. После одной длинной фразы, которую я произносила по-итальянски, он откинулся на своем стуле и засмеялся. Висконти смеялся надо мной!
Мне показалось: я лечу в пропасть.
Но потом стало ещё хуже.
Мне надо было петь итальянскую песню, я её выучила у одного композитора. День за днём Висконти прерывал репетицию незадолго до этой песни. И вдруг, на шестьдесят второй день, он объявил:
– Дальше...
Я взбеленилась. Тупо посмотрела на него и закричала:
– Как так? Ты же не предупреждал!
Он – палкой об пол.
– Дальше, я сказал!
Я могла спеть эту песню, знала её твердо, но всё же продолжала:
– Можно спеть завтра? Я ещё не выучила.
Несколько мгновений мучительного молчания. Потом разразилась гроза:
– Если ты сейчас не споёшь, сейчас же, то можешь вообще никогда не петь. Никогда в жизни. Можешь отправляться домой.
– Но...
– Марш домой и никогда не возвращайся!
Его трость четко указала на дверь.
– Au revoir, mademoiselle... [12]
[Закрыть]
Я могу смотреть в глаза любому человеку – но взгляд Висконти я в этот момент не выдержала. Я запела. Я пела тоненьким дрожащим голоском – наказанный ребенок, покрывшийся гусиной кожей.
А Висконти только командовал:
– Дальше, дальше!
В перерыве он отослал всех актёров домой. Оставил только моего партнёра Даниэля Сорано и меня. Я была настолько подавлена, что не могла даже глотнуть шампанского – раньше оно меня всегда взбадривало. Омерзительное чувство неполноценности...
В послеобеденные часы мы работали только с Висконти, ассистентом режиссёра Джерри Маком и Даниэлем. Я начинала ещё раз, и снова, и опять... Висконти молчал. Десять раз, двадцать раз выслушивал он мой лепет.
Внезапно во мне что-то произошло. Я и сегодня могу точно воспроизвести в памяти это чувство.
Больше на меня ничто не давит, я дышу полной грудью, я изменяюсь – внешне и внутри. В какую-то долю секунды я перестаю быть Роми. Я – Аннабелла. Только Аннабелла, вообще никакой Роми Шнайдер.
Я выкрикиваю фразу, я пою песню в полный голос, я двигаюсь как Аннабелла, я продолжаю говорить после песни, я больше не прерываюсь, досказываю весь диалог, я вообще одна на всём белом свете, и ни режиссёр, ни партнёр, ни театр меня вообще больше не интересуют.
Я свободна.
Потом всё кончается.
Я сажусь посреди сцены, потом валюсь на пол и без всякого стеснения плачу.
– Достаточно, – говорит Висконти.
Он ковыляет через сцену, наклоняется ко мне, кладёт мне руки на плечи.
– Неплохо, Ромина...
Большой комплимент от человека, который никого не хвалит, а уж тем более новичков.
Я зашла в маленькое бистро возле театра, «Ше Пье» на рю Бланш. Пока я там ждала Алена – он примерял костюмы, – я позволила себе напиться до чёртиков. Понятия не имею, что я там пила: шампанское, красное вино, виски? Помню, что была совершенно счастливая и совершенно пьяная. Я думала: вот твоя профессия. Раньше у меня тоже кое-что отлично получалось, но театру это всё и в подмётки не годилось. А теперь мне стало ясно: именно здесь моё место, я принадлежу ему. Пусть ещё не сейчас, но потом я его себе заработаю.
Я хотела вернуться в театр и в одиночестве репетировать дальше, но портье уже ушёл. Пришлось мне дожидаться Алена, чтобы рассказать ему, что со мной произошло.
С этого дня я больше не думала о замене, не думала о той девушке, что сидит где-то там в Париже и ждёт, когда Роми наконец-то выгонят.
И только после премьеры Лукино Висконти признался:
– Никогда и не было тебе никакой замены. Я и в мыслях не держал...
Много чего писали о «драматических» событиях перед премьерой, обычный трёп. Враньё простиралось от «дипломатического аппендицита Роми Шнайдер» до выкидыша. Хочу рассказать, как всё было на самом деле.
В Париже сначала три дня играют спектакль для приглашённой публики – художников, писателей, профессоров. Потом идёт открытая генеральная репетиция, и только после – премьера, le gala.
Первые три представления сыграли сносно. Висконти сидел в ложе. Я ощущала его доверие ко мне, и мне словно передавалась его сила.
Однако на генеральной репетиции я почувствовала себя жалкой и больной. Но отнесла это к премьерной лихорадке.
В последней сцене грянула катастрофа, типичная для генеральных репетиций.
В драматическом диалоге Аннабеллы и её брата Джованни я поникла на постели. Ален – возле меня. Нечаянно он сел на мои волосы, я это заметила, но не могла подать ему знак. Он в бешенстве ударил меня ножом, я должна была вскочить и, умирая, рухнуть на скамеечку для молитвы.
Когда я подпрыгнула, я заметила, что мой парик остался лежать на постели. Под париком у меня был шёлковый чулок, намотанный на голову.
Должно быть, это выглядело просто комично: голая как яйцо голова, утыканная шпильками. Вот, изволь умирать, когда люди над тобой потешаются!
Но люди восприняли всё просто сказочно. Значит, мы и в самом деле покорили публику. Ни одного смешка, ни единого!
Но я – я чувствовала себя как раздетая.
Чуть только упал занавес, я бросилась в гримёрную, швырнула парик в угол – и в этот момент пришла боль. Какое-то необычное ощущение в животе.
Появился Висконти, сказал:
– Ладно, Ромина, брось. Ничего!
Симона Синьоре и Жан Маре уговаривали меня не обращать внимания на ляп в последней сцене.
Моя мать – она приехала в Париж к генеральной репетиции – накликала беду:
– Надеюсь, это не аппендицит.
– Да нет, – ответила я. – Это просто от волнения!
И мы вместе поехали глотнуть вина в арт-клуб «Элизе-Матиньон».
По дороге остановились у аптеки. Взяли обезболивающее. Оно не подействовало.
В клубе я не могла спуститься вниз по лестнице, ноги у меня подкашивались. Подруга отвезла меня к врачу.
Он сделал мне укол, но не мог поставить диагноз.
– Вероятно, почечная колика. Волнение, знаете ли, напряжение... На всякий случай пейте только апельсиновый сок.
Мы вернулись в клуб. Только спустились, как боль вернулась. Дьявольская, совершенно невыносимая. Ален увёз меня домой. Ему пришлось шесть лестничных пролётов до нашей квартиры нести меня на руках.
Я рухнула на постель. В восемь утра меня разбудил жуткий крик. Это кричала я сама. Моё тело горит, подумала я, – внутри, снаружи, всюду!
При этом – ещё одна мысль: ты не имеешь права заболеть. На карту поставлена самая дорогущая премьера в Париже. 600 000 марок (60 миллионов старых франков), вот сколько поглотил этот спектакль!
Ален позвонил профессору Миллеру, он тут же явился.
Высказал подозрение на аппендицит. Так оно и вышло.
Когда меня несли на носилках вниз, мне казалось – я умерла.
Мы мчались на «скорой помощи» по городу. Ален сидел рядом, я видела над собой его лицо, то зелёное, то белое. Сквозь стёкла я видела куски голубого неба и мелькающие фронтоны зданий. Какие-то лохмотья воспоминаний... Медсестра в больнице хотела сделать мне укол. Я сопротивлялась. Я не желала допускать к себе сестру.
В этот день, когда профессор Миллер вырезал мне аппендикс, радио и телевидение объявляли об отмене нашей премьеры.
Дни после операции открыли мне Париж и моих друзей-знакомых с новой стороны, чего я прежде и предположить не могла: меня осыпали цветами, меня утешали, хотя на самом деле это мне нужно было бы утешать других: моя болезнь стоила театру 120 000 марок.
Самое прекрасное воспоминание: Жан Кокто прислал мне в палату свой рисунок.
Пять дней в больнице, десять дней отпуска – и потом мы назначили премьеру: на 29 марта 1961 года. Моё лицо всё ещё переливалось разными цветами, на мой живот из осторожности был надет бандаж – всё-таки меня должны были бросать через всю сцену!
Я нервничала как никогда прежде. Хоть я и умоляла не говорить мне, кто присутствует на премьере, всё-таки коллеги проболтались. Я услышала – и чуть не сошла с ума. Пришли все: Ингрид Бергман, Анна Маньяни, Жан Маре, Жан Кокто, Курд Юргенс, известнейшие режиссёры Франции и множество коллег.
В последние минуты перед выходом случилось нечто необыкновенное: внезапно я начала думать на своем родном языке, чего не делала все семьдесят репетиционных дней.
В зрительном зале сидели и моя мать, и мой брат Вольфи. Это был «жест доброй воли» после бесконечной свары, вначале из-за Алена, потом – из-за спектакля. Я была им очень благодарна за то, что в такой день они не приняли меня в штыки.
Мама была возбуждена даже ещё больше, чем я. Она переживала премьеру так, как будто это её собственный дебют. К тому же её посадили рядом с самым грозным критиком, Жан-Жаком Готье, который весь вечер демонстративно скучал и объявлял во всеуслышание, что в антракте уйдёт домой.
Он и в самом деле написал уничтожающую рецензию, где в пух и прах раздраконил и пьесу, и постановку, и Алена Делона – и только мне милостиво не отказал в даровании. Однако, как говорилось в статье, это дарование совсем не обязательно было выказывать на французской сцене.
Другие рецензенты были куда благосклоннее. «Пари Пресс Ль’ Энтранзижан» после критики пьесы написала так: «Только Роми Шнайдер с её изысканным лёгким акцентом удалось заставить нас забыть о гротескной пустоте текста. Она церемонна и бледна, но в её жилах пульсирует свежая кровь. Её яркий голос производит более сильное впечатление, чем слова, что она произносит. Она отличная актриса».
Ещё один критик дал такую оценку этого вечера: «Нужно отдать должное Роми Шнайдер: она, только-только из-под ножа хирурга, так прелестно и грациозно умирает под ножом своего возлюбленного брата. Она – сама распущенность и бесстыдство, и в то же время – воплощение трогательной чистоты, юная, прекрасная, нежная...»
Я вспоминаю: сквозь приветствия можно было расслышать и неодобрительные возгласы, но в целом это был большой успех. Отчаянная борьба тех долгих недель была вознаграждена.
Я очень гордилась, что все трудности, как личные, так и профессиональные, столь счастливо разрешились.
Ингрид Бергман зашла ко мне в гримёрную.
– Вы были восхитительны, – сказала она. – И я знаю, чего это вам стоило. Молодой девушкой я играла в Шведском театре [13]
[Закрыть], а потом через много лет вернулась туда – и будто начала заново. Я знаю этот страх...
Во мне творилась полная неразбериха. То я смеялась, то плакала. Вместе с моей матерью. С матерями всегда так.
А потом в гримёрку пришёл Ален – они с моей матерью друг друга не воспринимали. Он был мокрый как мышь после трудной сцены фехтования. Но, невзирая ни на что, он подскочил к моей маме и обнял её. И гордо указал на меня:
– Сегодня она – королева Парижа. Моя королева.
Я была счастлива, так счастлива...
Это было одно из великих мгновений в моей профессиональной жизни. Как будто Господь одарил меня всем – всем, чем мог. На один-единственный вечер!
Вот что я о себе самой знаю точно: я очень честолюбива. В марте 1961-го моё артистическое честолюбие было впервые удовлетворено. Наконец-то, после того как я долго вообще никому не была нужна, я снова победила. Но всё же я не слетела с катушек и ни минуты не думала, что теперь у меня весь мир в кармане, – просто чувствовала, что наконец-то я на правильном пути.
Назавтра после премьеры градом посыпались телеграммы – из Рима и Нью-Йорка, Лондона и Берлина. Из всех телеграмм и писем явствовало, что я и правда могу гордиться своим успехом.
Я это принимала. Ведь это было единственное достижение, которым я горжусь и по сей день.
Я предполагала играть спектакль в Театр де Пари примерно четыре недели, не надеялась, что получится дольше держать Париж, – а получилось 120 представлений!
Это было прекрасное время, по-настоящему прекрасное время.
Наконец-то я снова была на коне. У меня был мужчина, который меня любил. Ален. Профессионально я больше не была «в отставке». Снова обо мне говорили как об актрисе. Причём в том кругу, который я ценила.