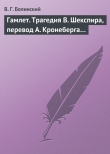Текст книги "Конфликт «внутреннего» и «внешнего» человека в киноискусстве"
Автор книги: Роман Перельштейн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
4.
Методологической основой исследования являются в первую очередь те важнейшие принципы анализа произведения киноискусства, которые разработаны в отечественном киноведении. Хотелось бы выделить труды таких ученых, как Н. Хренов, В. Утилов, М. Ямпольский. Кроме того, в основе исследования лежат концепции таких теоретиков зарубежного кино, как З. Кракауэр и А. Базен. Работы отечественных теоретиков драматургии фильма В. Туркина, Ю. Тынянова, Л. Нехорошева, Ю. Арабова составят методологическую основу исследования с позиций теории кинодраматургии. Наряду с киноведческим методологической основой работы является междисциплинарный подход, где киноведческий анализ дополняется теоретическими выводами русской религиозной философии, философской антропологии и психологии искусства. Какой из аспектов анализа художественного фильма окажется решающим в каждом конкретном случае, будет зависеть как от особенностей картины, так и от контекста, в который она погружена. Автор не хотел бы отказываться и от жанра «художественной критики» или «импрессионистской критики», в котором, в частности, работал молодой Л. Выготский, находившийся под влиянием «символистской интерпретации искусства».
«Метафизика сердца» как направление поисков русской культуры составит методологическую основу исследования с позиций русской религиозной философии. Когда С. Франк в работе «Свет во тьме» (1949) говорит о сердце как о месте соприкосновения двух миров[30]30
См.: Франк С. Л. Свет во тьме. Париж, 1949. С. 88.
[Закрыть], он, в конечном итоге, уподобляет сердце реальности как их границе. «Реальность» же является одним из центральных понятий философии Франка. Подобно реальности, сердце – и глубинный тип бытия, и его поверхностный слой. Сердце человека всеобъемлюще. Оба этих «момента» – глубины и поверхности, духа и плоти – отражены в учении об «антиномизме сердца» Б. Паскаля, которого Франк называл «гениальным христианским мыслителем»[31]31
Стрельцова Г. Я. Сердца метафизика // Русская философия. Энциклопедия. – М.: Алгоритм, 2007. С. 497.
[Закрыть]. Эти два неразрывно связанных между собою «момента» являются солью конфликта внутреннего и внешнего человека. Глубинный, универсальный тип бытия и поверхностный тип, соотносимый с предметной действительностью, преобразуются личностью в два органически ей присущих феномена – «лица» и «личины», или маски. Феномены эти, как мы попытаемся показать, имеют прямое отношение к «метафизике сердца», укорененной в конфликте внутреннего и внешнего человека. Без «метафизики сердца» невозможно себе представить философии русского персонализма в лице таких его представителей, как Н. Бердяев, Н. Лосский, С. Булгаков, С. Франк, Вяч. Иванов, Б. Вышеславцев. Русский персонализм, равно как и русский экзистенциализм, имеют религиозную окрашенность[32]32
Кувакин В. А. Экзистенциализм // Русская философия. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2007. С. 708.
[Закрыть], а потому справедливей было бы называть и тот, и другой «христианским персонализмом». Последний же опирается на религиозно-философскую традицию, заложенную такими великим русскими мыслителями, как Вл. Соловьев и Ф. Достоевский.
Не обойдет автор вниманием и оригинальные концепции современных отечественных мыслителей и культурологов, таких как А. Мень, С. Аверинцев, В. Бычков, В. Кантор, И. Евлампиев, впитавших христианско-культурологическое наследие, связанное с философами Серебряного века и русского зарубежья.
«Переживание трагизма личного, исторического и вселенского бытия»[33]33
Кувакин В. А. Экзистенциализм // Русская философия. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2007. С. 708.
[Закрыть], свойственное экзистенциализму, объединяет персонализм Н. Бердяева и антропологизм Л. Выготского, стоящего у истоков антропологического направления современной философии Анри Бергсона и приверженца антропологического психологизма и экзистенциализма Э. Фромма. Не остается в стороне близкая экзистенциализму антропология Ортеги-и-Гассета, имеющая гипотетический выход в христианский персонализм. Не воспринимается как чужеродная «игровая мораль» гуманитария Й. Хейзинга, относящегося к игре как к экзистенциальной и витальной категории[34]34
Апинян Т. Хейзинга Йохан // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. В. В. Бычкова. С. 479.
[Закрыть]. Игра в понимании Хейзинга – «один из культурных идеалов и одна из трансцендентальных метафизических ценностей»[35]35
Апинян Т. Хейзинга Йохан // Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. В. В. Бычкова. С. 479.
[Закрыть]. Психоаналитическая же антропология З. Фрейда нас будет интересовать только в аспекте «коллективной души» К. Юнга с его противопоставлением «подлинного Я» «неистинным ликам», или маскам, в частности таким, как «Тень» и «Персона». Свою антропологическую позицию Юнг сформулировал в термине «Самость», отражающем целостность видения маскирующейся личности. Поиски этих мыслителей и ученых составят методологическую основу исследования с позиций философской антропологии.
«Импрессионистский и экзистенциальный»[36]36
Ярошевский М. Г. Выготский Лев Семенович // Русская философия. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2007. С. 110.
[Закрыть] подход, продемонстрированный Л. Выготским в этюде «Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира», связан с религиозно-художественной проблематикой шекспировского творения. Впоследствии, когда Выготский становится сторонником естественно-научной психологии, эта проблематика уже не получает развития в его трудах. «Психологическая теория» Л. Выготского, сфокусированная в его трактате о «Гамлете», который он создал в дореволюционный период, составит методологическую основу нашей работы с позиций такой отрасли психологической науки, как психология искусства.
5.
Разделение исследования на две неравных по объему части обусловлено их характером: это по преимуществу теоретический характер первой части и по преимуществу практический – второй.
Первая часть «Внутренний и внешний человек как лики подлинного и мнимого существования» состоит из трех глав: «Реальность и игра», «Внутренний и внешний человек», «Гамлет снимает маски». Анализ противоречия между реальностью и игрой предшествует анализу конфликта внутреннего и внешнего человека. Автор как бы готовит почву к разговору о ликах подлинного и мнимого существования, предпослав этому разговору размышление о двух типах бытия. В третьей главе, посвященной разбору шекспировской трагедии «Гамлет» с позиций новозаветной парадигмы, в свернутом, конспективном виде представлена вся структура исследования. Она рассматривается как на уровне концептуальной основы работы, так и на уровне принципов композиционной организации материала. Хотя первая часть и определена нами как теоретическая, но в ней уже присутствуют элементы киноведческого анализа.
В главе «Реальность и игра» мы поведем разговор о реальности и игре как типах бытия, не столько дополняющих, сколько исключающих друг друга. Реальность есть усилие. Нам нужна сила, чтобы «собрать» свою личность, все ее скрытые возможности. Игра же ослабляет в нас волю к подлинности. Освященное авторитетом игры так называемое внешнее ролевое существование — существование неизбежно мнимое. До определенной степени игра пробуждает личностное начало, игрок почти всегда обладает яркой индивидуальностью, но игра же и кладет предел подлинному личностному существованию.
В главе «Внутренний и внешний человек» мы рассмотрим психологическую и метафизическую составляющие важнейшей новозаветной парадигмы, связанной с трагическим противостоянием двух наших возможных судеб, с драматической борьбой двух наших «я» – человека внутреннего и человека внешнего. Первому из «я» соответствует представление о нашей личности, лице, призвании, то есть бессмертному в нас. Второму «я» соответствует представление о нашем массовом человеке, маске и роли, – всём том, что бренно.
В главе «Гамлет снимает маски» реальность будет противопоставлена обыденности, как трусливому забвению «безвестного края, откуда нет возврата», как банализации смерти и жизни, против которой восстает шекспировский Гамлет. Наследник престола принц Датский играет множество ролей, за каждой из которых закреплена ему ненавистная маска. Пожалуй, только маска актера позволяет Гамлету избежать лицемерия, но и сквозь нее «просачивается» обыденность, искажая подлинный лик бытия. Антитеза реальность – обыденность ляжет в основу анализа шекспировской трагедии с позиций темы «реальность и игра». Эта тема в скрытом виде присутствует в «этюде» Л. Выготского «Трагедия о Гамлете, принце Датском, У. Шекспира».
Вторая часть работы «Реальность и игра как тема художественного фильма» состоит из пяти глав: «Личность снимает маску», «Вещь снимает маску», «Внутренний человек снимает маску», «Внешний человек снимает маску», «Актер снимает маску». Во второй части на примере конкретных режиссерских работ мы рассмотрим и проанализируем следующие частные случаи оппозиции реальности и игры, называя их для удобства «сюжетами».
Реальность и игра в другого как модель внешнего ролевого существования (сюжет «Личность снимает маску»).
Реальность и иллюзия как распыление символической глубины вещей (сюжет «Вещь снимает маску»).
Реальность и сон как упование на безграничные возможности подсознания, его способности решать фундаментальные проблемы жизни[37]37
Андреев Л. Г. Сюрреализм. М.: Гелиос, 2004. С. 83.
[Закрыть] (сюжет «Внутренний человек снимает маску»).
Реальность и утопизм как вера в осуществимость «земного рая», следствием которой становится принесение личностной свободы в жертву земным ценностям (сюжет «Внешний человек снимает маску»).
Реальность и сценическое действие как особое духовное измерение, исполненное «тревогой значительности»[38]38
Седакова О. А. Счастливая тревога глубины // Седакова О. А. Музыка. Стихи и проза. М.: Русскiй мiр, 2006. С. 260.
[Закрыть] (сюжет «Актер снимает маску»).
Реальность в отличие от игры не претерпевает трансформации в «частных случаях оппозиции», хотя именно благодаря «сюжетам» глубинный, универсальный тип бытия поворачивается к нам новыми гранями. Понятие реальности, которую следует понимать как метафизическую реальность и отличать от предметной действительности, является своеобразным кодом прочтения конфликта внутреннего и внешнего человека. Вот только не стоит забывать о том, что реальность есть «слитное бытие»[39]39
Кураев В. И. Реальность // Русская философия. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2007. С. 465.
[Закрыть], обретающееся на границе глубинного и поверхностного слоев бытия. В этом своем качестве «непрерывного потока становления»[40]40
Кураев В. И. Реальность // Русская философия. Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2007. С. 465.
[Закрыть] реальность есть наиболее разработанный русской метафизикой символ границы незримого и видимого, неподвластного рассудку и рационализированного, всеобъемлющей полноты бытия и предметной действительности, которая является частью этой не имеющей аналогов и пределов полноты. А потому реальность есть не только символ границы, но и символ целого, символ абсолютного и бесконечного «Всеединства»[41]41
Курабцев В. Л. Трансрациональность // Русская философия. Энциклопедия. – М.: Алгоритм, 2007. С. 579.
[Закрыть].
Мы взяли на себя смелость заявить, что игра ступенью ниже реальности, хотя и составляет вместе с реальностью одну бытийственную ось. Это не значит, что реальность обладает бо́льшими правами – реальность наделена большей ответственностью. Именно той ответственностью, с которой связано представление о нашем внутреннем человеке. Сфера же прав закреплена по преимуществу за нашим внешним человеком, который часто понимает их превратно: как посягательство на свободу другого, то есть как бегство от собственной свободы. Грань между свободой внутреннего человека и внешнего порою трудноуловима, и для того чтобы отделить подлинную свободу от мнимой, личность жертвует своим благополучием, а иногда даже и жизнью. Одно дело – господствовать, а другое – служить[42]42
Седакова О. А. Параллельная акция – 2 // Искусство кино. 2000. № 1. С. 21.
[Закрыть] (О. Седакова), одно дело – иметь мировоззрение, а другое – совершать поступки[43]43
С. Аверинцев пишет: «Один из моих постоянных собеседников 70-х годов сказал про другого, философа по роду занятий и по влечению ума: “Для него Бог – это его любимая категория”. Такая эпиграмма в прозе, безотносительно к тому, была ли она справедлива применительно к конкретному случаю, хорошо выражает проблематичность такого феномена, как религиозность интеллигента. Его специфическая опасность – искать не жизни во Христе, а, так сказать, христианского мировоззрения, что слишком часто близко к понятию христианского “дискурса”. То, что рождается из чтения книг, изначально заражено “книжностью” и рискует остаться переживанием читателя, только читателя (как сказал однажды Поль Валери, “когда-нибудь мы все станем только читателями, и тогда всё будет кончено”)». (Аверинцев С. Обращение к Богу советской интеллигенции в 60–70-е годы // Община XXI век. 2002. – № 9 (21)).
[Закрыть] (С. Аверинцев), одно дело – казаться добрыми и справедливыми, а другое – являться таковыми[44]44
Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 1993. С. 134.
[Закрыть] (Сократ). «Андрей Ефимыч чрезвычайно любит ум и честность, но, чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право»[45]45
Чехов А. П. Палата № 6. С. 136.
[Закрыть] (Чехов). Апостол Павел во «Втором послании к Тимофею» советует Тимофею удаляться от «имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся» (2 Тим 3, 5). Одно дело во что-то играть, будучи уверенным, что ты живешь этим, а другое дело этим жить, раздвигая границы реальности не рассуждениями о ней и ощущением ее, а чувствами и поступками, нередко лишь косвенно, хотя и глубинно с нею связанными. Игра поневоле тиражирует, а значит, и пародирует любое таинственное движение реальности. Нельзя усомниться в горячем желании игры обосноваться там, где реальность разбила свой палаточный город. Но как только игра попытается притулиться к реальности, цивилизовать ее, увенчать, – реальность, легкая на подъем, тут же свернет свой лагерь и перенесет его вглубь материка жизни, вглубь самих вещей, все ближе и ближе подбираясь к океану потустороннего, незримого, к границе двух миров.
Конфликт внутреннего и внешнего человека, спроецированный на противоречие между реальностью и игрой, позволяет вести речь об одной из вечных темы киноискусства и одной из возможных тем художественного фильма, иерархически между собою связанных, с позиций метафизики. Сферу последней мы ограничиваем синтезом двух начал. Одно из них – это основополагающие принципы русской традиционной культуры, на которые опираются представители отечественной идеалистической философии XIX–XX веков и впитавшие христианско-культурологическое наследие современные отечественные мыслители и культурологи, а другое – антропологические концепции экзистенциально ориентированных зарубежных мыслителей ХХ столетия.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Внутренний и внешний человек как лики подлинного и мнимого существования
Глава I. Реальность и игра
1.В «Первом послании к Коринфянам» апостол Павел сравнивает свое положение с положением участников истмийских игр, «бегущих на ристалище» и желающих победить. Однако венец, который возложат на голову лучшего из лучших, – «венец тленный». Истмийский венец тленен хотя бы потому, что человек пытается одержать победу не столько над самим собой, победу, скрытую от мира, сколько победу над себе подобным, брошенную к ногам мира. Поэтому апостол и говорит: «…я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор 9, 26). Состязания устраиваются для того «чтобы только бить воздух»: в кулачном бою, одном из пяти упражнений истмийских игр, атлет обрушивал удары на противника до тех пор, пока тот не оказывался повержен. Удары же, согласно апостолу, человеку надлежит обрушивать на самого себя, на свое несовершенство, тогда он, возможно, и удостоится венца истинного, нетленного. Вот как эту заветную мысль русской метафизики выразил Н. Бердяев в работе «Я и мир объектов», к которой мы не раз будем обращаться[46]46
Особый интерес в работе Н. Бердяева «Я и мир объектов» для нас представляет первый параграф главы «Личность, общество и общение», озаглавленный «Я и личность. Индивидуум и личность. Личность и вещь. Личность и объект». В этом параграфе Бердяев, апеллируя к теоретику театра Н. Евреинову, проливает свет на социальную природу маски.
[Закрыть]: «Личность предполагает существование темного, страстного, иррационального начала, способность к сильным эмоциям и аффектам и вместе с тем постоянную победу над этим началом»[47]47
Бердяев Н. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Бердяев Н. А. Дух и реальность. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. С. 127.
[Закрыть]. Апостол противопоставляет играм или игре, как началу расточительному, духовное подвижничество, требующее всех наших сил – не только духовных, но и физических. Именно расточительное начало, «избыток сил» Шиллер, следуя за Кантом, взял за основу своей концепции игры, а Хейзинга возвел в ранг высшей формы бытия, едва ли не увенчав игру «венцом нетленным». Игра, согласно Хейзинге, есть действие, «сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием “иного бытия”, нежели “обыденная жизнь”»[48]48
Хейзинга Й. Человек играющий. М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. С. 54.
[Закрыть]. Апостол Павел решительно противопоставляет игре, как физическому упражнению, упражнение духовное. Однако истмийские игры, как и олимпийские, немейские, культивировали не только физическое совершенство человека. Царивший на играх дух состязания, дух честной борьбы, атмосфера праздника, сопутствующая играм, безусловно, приподнимали человека над борьбой за существование, над обыденностью, над животным состоянием, и здесь следует сказать важные слова в защиту игры, отметить ее гуманистический смысл[49]49
Н. А. Мазрова в диссертационном исследовании «Философский смысл игры в моделировании социальной реальности» пишет: «На гуманистический смысл игры обращали внимание Ф. Шиллер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, Ф. Шлейермахер, Й. Хейзинга. А. Камю рассматривал его в контексте абсурда человеческого существования, а Ж.-П. Сартр обращается к гуманистическому смыслу игры в поисках выхода из состояния одиночества посредством, “экзистенциального праздника”, “праздника существования”, безрассудных поступков». (Мазрова Н. А. Философский смысл игры в моделировании социальной реальности: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. н. / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. М., 2004).
[Закрыть].
Подвергая критике римскую религию, Гегель в «Философии истории» указывает на неразвитость воображения римлянина, который, в отличие от грека, был не способен предаваться от души игре чувственной фантазии: «…у римлян, – замечает Гегель, – греческая мифология кажется мертвенной и чуждой им»[50]50
См.: Гегель Г. В. Ф. Философия истории // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. В 14 т. М.; Л.: Соцэкгиз, 1935. Т. 8.
[Закрыть]. Не потому ли и игры у римлян и у греков были разными. Римлянин предпочитает спортивному состязанию гладиаторский бой, сценическому действу – «нечто непостижимое уму, – как выразится Г. Сенкевич, – то была кровавая оргия, страшный сон, чудовищное видение помешанного»[51]51
Сенкевич Г. Куда идешь. М.: Правда, 1991. С. 465.
[Закрыть]. Словом, римлянин предпочитает игре «жестокую действительность». Он, как пишет Гегель, не участник игры, а лишь ее зритель. «Вместо изображения человеческих душевных страданий, вызываемых противоречиями жизни и находящих разрешение в судьбе, римляне устраивали жестокую действительность телесных страданий, и потоки крови, предсмертное хрипение и последние вздохи умирающих были те зрелища, которыми они интересовались»[52]52
Гегель Г. В. Ф. Указ. соч.
[Закрыть].
Игра, культивируемая греком, нравственно неизмеримо выше кровавых римских ристалищ, однако если бы игра попыталась взять следующую высоту, то она была бы приободрена апостолом Павлом: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое…» (1 Кор 9, 26–27). Природе апостол противопоставляет Дух, а «жестокой действительности телесных страданий» – уже не игру, а «незримую Реальность»[53]53
Мень А. Магизм и единобожие. М.: Эксмо, 2004.
[Закрыть]. Следует признать, что обратной стороной «жестокой действительности телесных страданий», которую принес миру Рим, стала отнюдь не игра, как особый род открытой греками нравственности, а незримая Реальность первых христиан, которых Рим хотя и выгнал на арену, но так и не смог заставить биться друг с другом, играть в ту игру, к которой он привык. Вот как духовная победа над Римом первых христиан, взыскующих венца нетленного, описана в многократно экранизированном романе Г. Сенкевича «Камо грядеши». «Зрелище должно было начаться с борьбы христиан между собой – для этого их одели как гладиаторов и дали им всевозможное оружие, которым пользовались профессиональные бойцы для боя наступательного и оборонительного. Но тут публику постигло разочарование. Христиане побросали на песок сети, вилы, копья и мечи и сразу же кинулись обниматься и ободрять друг друга, чтобы стойко встретить муки и смерть. Тогда глубокая обида и негодование охватили зрителей. (…) В конце концов против них по приказу императора выпустили настоящих гладиаторов, которые в мгновение ока перебили этих коленопреклоненных и безоружных людей»[54]54
Сенкевич Г. Указ. соч. С. 482.
[Закрыть].
«Не естественно ли признать, что, подобно тому, как тело связано с объективным миром природы, так и дух тяготеет к родственной ему и в то же время превышающей его незримой Реальности, – пишет А. Мень. – И разве не показательно, что когда человек отворачивается от этой Реальности, вместо нее возникает суеверия и секулярные “культы”? Иными словами, если люди уходят от Бога, они неизбежно приходят к идолам»[55]55
Мень А. Указ. соч. С. 15–16.
[Закрыть]. Игра поднимала человека над жестокой действительностью и над его природным животным состоянием, однако и не позволяла преодолеть это максимально возвышенное животное состояние. А последнее и грезит идолом, и получает идола.
ХХ век завершил «обоготворение человеческой стихии», превратив прогресс в поклонение новому земному богу[56]56
См.: Бердяев Н. А. Философия свободы. М.: АСТ, 2005. 335 с.
[Закрыть]. «Гуманизм окончательно убедил людей нового времени, что территорией этого мира исчерпывается бытие, – пишет Н. Бердяев, – что ничего больше нет и что это очень отрадно, так как дает возможность обоготворить себя»[57]57
См.: Бердяев Н. А. Философия свободы. М.: АСТ, 2005. 335 с.
[Закрыть]. Идея эта нашла воплощение в таком духовном явлении, как утопизм. Собственно, утопия и есть тот главный, постоянно меняющий обличие идол, о котором пишет Мень. Но невозможно вести и речи о поклонении чему-либо, неважно даже чему, какой доктрине: «быстрее, выше, сильнее», «свобода, равенство и братство», «самоотверженность, героизм, справедливость», «наука, разум, прогресс», не имея высоких идеалов. Трудно даже вообразить, что возможно какой-либо социальной, экономической или политической идее поклониться без некоего высокого строя души. Вот только первая ступень этого строя неизбежно природная, естественная, внедуховная. По сравнению с серьезностью борьбы за существование «игра, – пишет Гегель, – все-таки оказывается более возвышенным серьезным делом, так как в ней природа представляется воображению духа, и хотя дух не дошел в этих состязаниях до высшей серьезности мысли, однако в этих телесных упражнениях человек проявляет свою свободу, а именно в том, что он выработал из тела орган духа»[58]58
См.: Гегель Г. В. Ф. Указ. соч.
[Закрыть]. «Высшая серьезность мысли» и есть, нужно полагать, «незримая Реальность», та следующая духовная ступень, на которую апостол Павел подвизает ступить бегающих, прыгающих и мечущих диск коринфян. Игра вырабатывает из тела орган духа, но игра не знает, что с этим духом делать. Далее начинается задача личности, положившей себе цель – обрести реальность.
В статье «Конец Ренаты» В. Ходасевич, размышляя о символизме как о попытке «слить воедино жизнь и творчество», пишет: «Провозгласив культ личности, символизм не поставил перед ней никаких задач, кроме “саморазвития”. <…>. Все пути были открыты с одной лишь обязанностью – идти как можно быстрей и как можно дальше. <…>. Можно было прославлять и Бога и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полная одержимость»[59]59
Ходасевич В. Ф. Конец Ренаты // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник. М.: Сов. писатель, 1991. С. 271.
[Закрыть] (курсив В. Ф. Ходасевича. – Р. П.). Подобного рода одержимость сродни рвению атлета на ристалище. Девиз «быстрее, выше, сильнее» поневоле переводит реальность в план игры. Символизм, каким его видит Ходасевич, возводит на пьедестал личность, с разных концов поджигающую свою жизнь ради невероятного зрелища. И каким бы «венцом правды» символизм ни увенчивал такую личность, правда эта будет неполной. «Знали, что играют, – но игра становилась жизнью. Расплаты были не театральные. “Истекаю клюквенным соком!” – кричал блоковский паяц. Но клюквенный сок иногда оказывался настоящей кровью»[60]60
Ходасевич В. Ф. Конец Ренаты // Ходасевич В. Ф. Колеблемый треножник. М.: Сов. писатель, 1991. С. 271.
[Закрыть] (курсив В. Ф. Ходасевича. – Р. П.).
Игра, становящаяся жизнью, не есть ли это побег от реальности?
В. Мазенко в работе «Игровое начало в произведениях A. П. Чехова» пишет: «Давно известно: для многих индивидов (особенно, если человек находится в разладе с действительностью) уход в субъективный, иллюзорный, основанный на самообмане мир становится своеобразным способом избежать решения проблем, которые ставит перед человеком реальность. Одной из любимых иллюзий человечества является игра. <…>. Для многих чеховских персонажей игра представляется оптимальным способом существования в мире, к которому так трудно порой приспособиться. Игра – спасение, игра – укрытие от житейских бурь»[61]61
Мазенко В. С. Игровое начало в произведениях А. П. Чехова. Дис… канд. филол. наук. Воронеж, 2004.
[Закрыть].
B. Мазенко показывает, как внешнее ролевое существование чеховских героев катастрофически не совпадет с их подлинной внутренней жизнью. Следующий шаг представляется вполне естественным – отождествить игру с существованием мнимым. Реальность как подлинная жизнь противопоставляется игре как мнимой жизни. Однако В. Мазенко не забывает оговориться: «Само собой разумеется, что сам факт разыгрывания героями каких бы то ни было ролей не может быть наполнен исключительно отрицательным смыслом. Игра, наряду с искусством, является одним из способов познания мира, где решение предлагается не в практической, а в условной знаковой сфере. Но в настоящей работе будет рассматриваться игра, мотивация которой скрывается не столько в самом процессе игры, сколько в ее результатах (иначе говоря, нас будут интересовать, скажем, те аспекты повседневного поведения Аркадиной, где она, очевидно разыгрывая роль, решает задачи во внетеатральном пространстве, в сфере взаимоотношений с окружающими людьми – Тригориным, Треплевым, Шамраевым и другими обитателями соринской усадьбы). Подобный способ взаимодействия с действительностью можно назвать лицедейством, а можно – лицемерием: человек знает, что он играет, но делает вид, будто все его слова и поступки продиктованы естественными движениями души»[62]62
Мазенко В. С. Игровое начало в произведениях А. П. Чехова. Дис… канд. филол. наук. Воронеж, 2004.
[Закрыть]. Подход В. Мазенко нам близок. Мы также склонны к тому, чтобы различать игру как процесс и игру как результат, давая негативную оценку игре как результату и полностью сохраняя за игрой как процессом право на подлинность, право «последней прямоты».