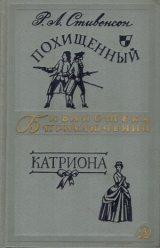
Текст книги "Похищенный. Катриона"
Автор книги: Роберт Льюис Стивенсон
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
Я порядочно струсил. Что, если он поверит моему рассказу, думал я, пригласит мою сестру к себе, и я приведу ее? Нелегко мне будет тогда распутать этот клубок, и может случиться, что в конце концов мы с Катрионой попадем в постыдное положение. Тут я поспешил рассказать о странном характере моей сестры: она чрезвычайно застенчива и так боится встречи с чужими людьми, что я оставил ее одну в городскому саду. Затем, уже вступив на путь лжи, мне оставалось только, как это всегда бывает, погрузиться в нее глубже, чем требовалось, прибавляя совершенно ненужные подробности о нездоровье и уединенной жизни мисс Бальфур в детстве. Разглагольствуя таким образом, я сильно покраснел, чувствуя все безобразие своего поведения.
Старый джентльмен был не настолько обманут, чтобы не пожелать отделаться от меня. Но прежде всего он был деловым человеком и понимал, что, каково бы ни было мое поведение, деньги у меня хорошие. Он любезно предоставил в мое распоряжение своего сына в качестве проводника и поручителя в квартирном вопросе, и поэтому пришлось представить его Катрионе. Бедная милая девушка успела отдохнуть, выглядела и вела себя в совершенстве, брала меня под руку и называла братом гораздо более непринужденно, чем я ее – сестрой. Но тут возникло еще одно затруднение: желая помочь мне, она, пожалуй, была слишком приветлива с голландцем, и я не мог не подумать, что мисс Бальфур уж слишком внезапно утратила свою застенчивость. Кроме того, в нашем говоре была большая разница. Я говорил на лоулэндском наречии, ясно произнося все слова; она же – на гайлэндском, с акцентом, похожим на английский, но гораздо более красивым, и едва ли могла быть названа профессором английской грамматики, так что для брата и сестры мы были поразительно не похожи. Но молодой голландец был тяжеловесный парень, не имевший даже достаточно ума, чтобы заметить ее миловидность, на что я рассердился. Как только мы нашли себе кров, он оставил нас одних, и это было наибольшей из его услуг.
Квартира, которую мы нашли, находилась на верхнем этаже дома, выходившего на канал. У нас было две комнаты; во вторую надо было проходить через первую; в каждой, по голландскому обычаю, в пол было вделано по камину. Из окон нашей квартиры виднелись верхушка дерева, росшего на маленьком дворике под нами, кусочек канала, дома голландской архитектуры и церковный шпиль на противоположном берегу. На шпиле этом висел целый набор восхитительно звучавших колоколов, а солнце в ясные дни светило прямо в наши комнаты. Из ближайшей таверны нам приносили вкусные обеды и ужины.
В первую ночь мы оба почувствовали сильное утомление, в особенности Катриона. Мы мало говорили и сразу после ужина я уложил ее в постель. На следующее утро я прежде всего написал записку Спроту, прося его выслать вещи Катрионы, а также несколько слов Алану на имя его вождя. Потом, отправив письма, я приготовил завтрак и только тогда разбудил Катриону. Я немного смутился, когда она вышла ко мне в своем единственном платье и в чулках, запачканных дорожной грязью. По справкам, которые я навел, должно было пройти несколько дней, пока ее вещи прибудут в Лейден, и ей было необходимо сменить одежду. Сначала она не хотела вводить меня в расходы, но я напомнил, что теперь она сестра богача и должна быть подобающе одета. Не успели мы войти во вторую лавку, как у нее заблестели глаза. Мне нравилось, что она так невинно и от всей души радуется покупкам. Но замечательнее всего было то, что и я сам начал с воодушевлением заниматься этим делом. Мне все время казалось, что я накупил мало вещей или они недостаточно хороши для нее, и я не уставал любоваться ею в различных нарядах. Я начинал немного понимать увлечение мисс Грант нарядами. Дело в том, что когда наряжаешь красивую особу, то самое это занятие становится красивым. Надо сказать, что голландские ситцы были чрезвычайно дешевы и изящны, но мне как-то совестно написать здесь, сколько я заплатил за чулки. Все-таки я истратил настолько большую сумму на это удовольствие (не могу иначе назвать его), что долгое время совестился тратить еще, и, чтобы возместить убыток, оставил наши комнаты бедно обставленными. У нас были постели; Катриона была достаточно нарядна; были свечи, при которых я мог видеть ее, – на мой взгляд этого было достаточно.
Окончив наши странствия по лавкам, я оставил ее дома со всеми покупками, а сам отправился на длинную прогулку, во время которой прочел себе наставление. Я приютил под своей кровлей молодую, чрезвычайно красивую девушку, невинность которой была для нее главной опасностью. Разговор мой со старым голландцем и ложь, к которой я должен был прибегнуть, дали мне некоторое понятие о том, что мое поведение выглядело подозрительным в глазах посторонних. Теперь же, после того как я пришел в восхищение от ее красоты и потратил массу денег на ненужные покупки, я и сам насторожился. Я спрашивал себя: если бы у меня действительно была сестра, стал ли я так компрометировать ее? Затем, считая подобный случай слишком проблематичным, изменил свой вопрос, спрашивая себя, доверил бы я Катриону другому человеку или нет. Ответ на это заставил меня покраснеть. Но раз я уже попал сам и поставил девушку в такое неподходящее положение, тем более я был обязан обращаться с нею в высшей степени бережно. В отношении хлеба и крова она совершенно зависела от меня. Если бы я оскорбил ее чувство стыдливости, у нее не осталось бы другого пристанища. Я был хозяином квартиры и покровителем девушки, и тем менее у меня могло быть оправданий, если бы я воспользовался своим положением, хотя бы для самого честного ухаживания. Даже самое честное ухаживание было бы недобросовестным в этих удобных для меня обстоятельствах, которые никакие благоразумные родители не допустили бы ни на минуту. Я видел, что должен стараться как можно дальше держаться от нее, однако все-таки не слишком далеко. Хоть я не имел права играть роль влюбленного, но должен был постоянно и по возможности приятным образом исполнять роль хозяина. Очевидно, для этого требовалось много такта и умения, может быть, больше, чем то было возможно в мои годы. Но я попал в положение, которого бы даже ангелы испугались, и из него не было другого выхода, кроме корректного поведения. Я составил целый ряд правил для руководства, помолился, чтобы мне дана была сила следовать им, и в качестве более земной поддержки в этом деле купил себе учебник по законоведению. Так как больше ничего я не мог придумать, то ограничился этими серьезными соображениями. В голове моей стали роиться приятные мысли, и, возвращаясь домой, я, казалось, не шел, а несся по воздуху. При одной мысли о «доме» и о той, которая ждала меня в этих четырех стенах, сердце забилось у меня в груди.
Беспокойство мое началось с самого моего возвращения. Катриона с явной и трогательной радостью выбежала мне навстречу. Она была одета в новое платье, которое я купил ей, и выглядела в нем еще более красивой. Она все ходила вокруг меня и приседала, желая, чтобы я разглядел ее наряд и полюбовался им. Вероятно, я сделал это очень нелюбезно, так как помню, что даже стал запинаться.
– Ну, – сказала она, – если вас не интересуют мои красивые платья, то посмотрите, что я сделала с нашими комнатами.
Действительно, квартира была хорошо подметена, и в обоих каминах горел огонь.
Я был рад случаю показаться более строгим, чем был на самом деле.
– Катриона, – сказал я, – я очень недоволен вами: вы не должны входить в мою комнату. Один из нас должен быть главой, пока мы живем вместе. Приличнее, чтобы то был я, как мужчина и как старший, и я требую этого от вас.
Она сделала один из своих обворожительных реверансов.
– Если вы будете сердиться, – сказала она, – мне придется стараться угождать вам, Дэви. Я буду очень послушна: ведь каждая ниточка на мне принадлежит вам. Но и вы не будьте слишком сердитым: теперь у меня никого нет, кроме вас.
Я был глубоко тронут, и в наказание самому себе поторопился сгладить впечатление от моих резких слов. Это было сделать нетрудно, тем более что Катриона, весело улыбаясь, повела меня в комнаты. При виде ее милых взглядов и жестов сердце мое совершенно растаяло. Мы весело пообедали и были так нежны друг с другом, что даже смех наш звучал ласково.
Но среди веселья я вдруг вспомнил свои добрые намерения, неловко извинился и сел за учение. Книга, которую я купил, была толстая и поучительная: это было сочинение покойного доктора Гейнекциуса. Я в последующие дни много читал ее и часто радовался, что некому спросить меня о моем чтении. Помню, что Катриона иногда кусала губы, глядя на меня, и это мучило меня. Таким образом она оставалась в полном одиночестве, тем более что сама никогда не держала книги в руках. Но что мне было делать? Вечер прошел почти в совершенном безмолвии.
Я был готов поколотить сам себя. В эту ночь я не мог заснуть и в бешенстве, полный раскаяния, ходил взад и вперед босиком по комнате, пока почти не замерз, так как камин потух, а мороз был очень силен. Сознание, что она тут, в соседней комнате, и даже может слышать, как я хожу, воспоминание о моей грубости и о том, что я должен продолжать в том же духе или совершить бесчестный поступок, лишали меня рассудка. Я находился как бы между Сциллой и Харибдой. «Что она должна думать обо мне?» – эта мысль приводила меня в отчаяние. «Что будет с нами?» – эта мысль снова закаляла мою решимость. То была первая бессонная ночь, полная сомнений и колебаний. Много подобных ночей мне предстояло провести, гуляя взад и вперед как сумасшедший, плача иногда как ребенок, временами молясь, как искренне верующий.
Молиться не особенно трудно. Трудности обыкновенно появляются на практике. В присутствии девушки, в особенности когда я допускал вначале некоторые вольности, я иногда терял над собою власть. А между тем сидеть весь день в одной комнате с ней и притворяться, что занят Гейнекциусом, было выше моих сил. В конце концов я прибегнул к такому средству: я надолго уходил, посещал лекции и слушал профессоров, часто совсем без внимания, доказательство чему я недавно нашел в записной книжке того времени; бросив следить за поучительной лекцией, я царапал на ее страничках очень скверные стихи, хотя латинский язык, которым они были написаны, пожалуй, превзошел мои ожидания. К несчастью, польза от этого образа действий была невелика. У меня оставалось меньше времени на искушение, но зато, когда я возвращался домой, искушение еще больше усиливалось. Так как Катриона все дни проводила в одиночестве, то стала с таким возрастающим жаром встречать мое возвращение, что я едва мог противиться ей. Я должен был грубо отталкивать ее дружеские ласки. Иногда это так оскорбляло ее, что мне приходилось нежным вниманием заглаживать свою вину. Таким образом, наше время проходило в постоянной смене настроений, в ссорах и примирениях.
Больше всего меня тревожила необычайная доверчивость Катрионы: она меня удивляла и восхищала и в то же время заставляла жалеть девушку. Катриона, очевидно, совсем не понимала своего положения и не замечала моей борьбы с собой, встречая каждый знак моей слабости с радостью. А когда я снова замыкался в своей крепости, она не всегда умела скрыть печаль. Были минуты, когда я думал: «Если бы она была влюблена по уши и всячески старалась покорить меня, она вряд ли повела бы себя иначе».
Чаще всего мы ссорились из-за ее платьев. Мой багаж вскоре прибыл из Роттердама, а ее вещи – из Гельвута. У нее теперь оказалось два гардероба, и не знаю как, но между нами как бы установилось молчаливое соглашение: когда она была дружески расположена ко мне, она надевала платье, которое я ей подарил: в противном же случае – свое собственное. Это означало, что она недовольна мною. Я в душе понимал это, но обыкновенно бывал настолько разумен, что не подавал виду, будто что-нибудь замечаю.
Раз, однако, я впал в еще большее ребячество, чем она. Случилось это следующим образом. Возвращаясь с лекции и думая о ней с нежностью и любовью, но вместе с тем и с некоторой досадой, я заметил, что досада эта мало-помалу улетучилась. Увидев в витрине магазина цветок, одни из тех, которые голландцы так искусно выращивают, я последовал минутному влечению и купил его для Катрионы. Я не знаю названия цветка, помню только, что он был розовый. Я думал, что он понравится ей, и отнес его домой с нежным чувством в сердце. Уходя, я оставил ее в подаренном мною платье, а когда я вернулся, то и платье было на ней другое, и выражение лица ее совсем изменилось. Я оглядел ее с головы до ног, заскрежетал зубами, распахнул окно и выбросил свой цветок во двор, а затем – то ли в приступе бешенства, то ли из предосторожности – выбежал из комнаты и хлопнул за собою дверью.
На крутой лестнице я чуть не упал. Это привело меня в себя, и я сейчас же понял, как бессмысленно мое поведение. Я пошел не на улицу, как сперва хотел, а во дворик, где обычно никого не было и где я увидел свой цветок, который мне обошелся гораздо дороже своей настоящей стоимости, висящим на безлистном дереве. Стоя на берегу канала, я смотрел на лед. Деревенские жители пробегали мимо меня на коньках, и я с завистью глядел на них. Я не видел выхода из своего положения. Мне не оставалось ничего, как вернуться в комнату, из которой я только что убежал. У меня больше не было сомнения в том, что я обнаружил свои тайные чувства. Что еще хуже, я в то же время – с глупым ребячеством – оказался невежливым но отношению к моей беззащитной гостье.
Она, вероятно, видела меня из открытого окна. Мне казалось, что я не очень долго стоял на дворе, как вдруг услыхал скрип шагов по замерзшему снегу и, сердито повернувшись – я не желал, чтобы прерывали мои размышления, – увидел Катриону. Она переоделась снова.
– Разве мы не пойдем гулять сегодня? – спросила она.
Я в смущении глядел на нее.
– Где ваша брошка? – спросил я.
Она поднесла руку к груди и сильно покраснела.
– Я забыла ее, – сказала она. – Я сбегаю за нею наверх, и тогда, не правда ли, мы пойдем гулять?
В этих словах ее слышалась мольба, которая привела меня в замешательство. Я не находил слов, чтобы ответить ей, и лишь молча кивнул головой. Как только она ушла, я влез на дерево и достал цветок, который и преподнес ей, когда она вернулась.
– Я купил его для вас, Катриона, – сказал я.
Она с нежностью, как мне показалось, прикрепила цветок к груди вместе с брошкой.
– Он не стал лучше от моего обращения, – продолжал я, краснея.
– Мне он от этого не меньше нравится, можете быть уверены, – сказала она.
Мы в этот день разговаривали мало. Она казалась настороженной, хотя и не выказывала враждебного чувства. Во время нашей прогулки и позже, когда мы пришли домой и она поставила цветок в кувшин с водой, я не переставал думать о том, какая загадка – женщина. То я удивлялся тому, что она до сих пор не заметила моей любви, а то мне казалось, что она уже давно все заметила, но из чувства приличия это скрывает.
Каждый день мы отправлялись гулять. На улицах я чувствовал себя спокойнее, не так следил за собою, а главное, там не было Гейнекциуса. Поэтому наши прогулки были не только отдыхом для меня, но и особенным удовольствием для бедной девочки. Возвращаясь в назначенное время, я обыкновенно заставал ее уже одетой и горящей нетерпением пойти погулять. Она старалась продолжить прогулки до крайних пределов, точно боясь, как и сам я, минуты возвращения. Вряд ли около Лейдена осталось какое-нибудь поле или берег реки, где бы мы не гуляли. За исключением этих прогулок, я не разрешал ей выходить из квартиры, боясь, как бы она не встретила каких-нибудь знакомых, отчего наше положение стало бы чрезвычайно затруднительным. Опасаясь того же самого, я не позволял ей ходить в церковь да и сам не ходил туда, а довольствовался молитвой вместе с Катрионой в нашей комнате, с благим намерением, но, сознаюсь, с большой рассеянностью. Действительно, на меня вряд ли что так действовало, как эти коленопреклонения рядом с нею перед богом, точно мы были мужем и женой.
Как-то раз шел сильный снег. Мне казалось невозможным идти гулять, и я был очень удивлен, найдя ее одетой и ожидающей меня.
– Я не могу отказаться от прогулки! – воскликнула она. – Вы, Дэви, дома никогда не бываете хорошим мальчиком. Я только и люблю вас, что на открытом воздухе. Я думаю, нам лучше стать цыганами и жить на большой дороге.
Это была самая приятная наша прогулка. Когда падали густые хлопья снега, она прижималась ко мне. Снег сыпался и таял на нас; капли снега висели на ее румяных щеках, точно слезы, и скатывались с ее улыбающихся губ. При виде этого у меня точно прибавлялось силы, н я чувствовал себя великаном. Мне казалось, что я мог бы поднять ее и убежать с нею на край света. Во время прогулки мы разговаривали удивительно свободно и нежно.
Было уже совершенно темно, когда мы подошли к двери нашего дома. Она прижала мою руку к своей груди.
– Благодарю вас за эти счастливые часы, – проговорила она растроганным голосом.
Смущение, которое я испытал при этих словах, быстро заставило меня принять меры предосторожности. Не успели мы войти в комнату и зажечь огонь, как она увидела суровое и непреклонное лицо человека, изучающего Гейнекциуса. Катриона, без сомнения, была огорчена более обыкновенного, да и мне было труднее, чем всегда, сохранить свою внешнюю холодность. Даже за едой я едва решился поднять на Катриону глаза и, как только закончился обед, снова занялся законоведением с более рассеянным видом и меньшим пониманием, чем обычно… Мне помнится, что, читая, я слышал, как сердце мое стучало, точно столовые часы. Как я ни притворялся, что занимаюсь, но глаза мои все-таки, скользя над книгой, направлялись к Катрионе. Она сидела на полу около моего большого сундука, пламя камина освещало ее и, отбрасывая на лицо ее удивительные оттенки, заставляло его казаться то пылающим, то совершенно темным.

Она смотрела то на огонь, то опять на меня, и тогда меня обуревал страх за себя, и я начинал переворачивать страницы Гейнекциуса.
Вдруг она громко воскликнула.
– О, почему не приходит мой отец? – и залилась потоком слез.
Я вскочил, швырнул Гейнекциуса в огонь, подбежал к ней и обнял ее.
Она резко оттолкнула меня.
– Вы не любите своего друга, – сказала она. – Я бы могла быть так счастлива! – И продолжала: – О, что я сделала, за что вы так ненавидите меня?
– Ненавижу вас?! – воскликнул я, крепко держа ее. – О слепая, неужели вы не видите моего несчастного сердца? Неужели вы думаете, что когда я сижу тут и читаю эту дурацкую книгу, которую я только что сжег, черт бы ее побрал, я могу думать о чем-нибудь другом, кроме вас? Каждый вечер сердце мое надрывается, когда я вижу, что вы сидите совершенно одна. А что я могу сделать? Вы здесь под защитой моей чести. Неужели вы хотите наказать меня за это? Неужели вы за это станете отталкивать своего преданного слугу?
При этих словах она слабым, неожиданным движением прижалась ко мне. Приблизив ее лицо к своему, я поцеловал ее; она же склонила голову ко мне на грудь, крепко обнимая меня. Голова моя кружилась, точно у пьяного. И вдруг я услышал ее голос, тихий, заглушенный моей одеждой.
– Вы вправду целовали ее? – спросила она.
Я почувствовал такое сильное изумление, что был потрясен.
– Мисс Грант? – воскликнул я растерянно. – Да, я попросил ее поцеловать меня на прощание, что она и сделала.
– Ну что ж, – сказала она, – во всяком случае, вы и меня тоже поцеловали.
Эти странные и милые слова объяснили мне, в чем дело. Я встал сам и поставил ее на ноги.
– Не годится так говорить, – сказал я, – это невозможно, совсем невозможно! О Кэтрин, Кэтрин!
Последовала пауза, во время которой я не был в состоянии произнести ни слова.
– Ложитесь спать, – наконец сказал я. – Ложитесь спать и оставьте меня.
Она повернулась, послушная, как ребенок, и вскоре остановилась уже в самых дверях.
– Спокойной ночи, Дэви! – сказала она.
– Спокойной ночи, дорогая моя! – воскликнул я, в страстном порыве схватил ее снова и прижал к себе так, что, казалось, мог сломать ее. Через минуту я вытолкнул ее из комнаты, с силою захлопнул дверь и остался один.
Слово вырвалось, наконец правда была сказана. Я, как вор, вкрался в душу молодой девушки. Она, слабое, невинное создание, была теперь совершенно в моей власти. Какое мне оставалось средство защиты? Точно символом было то, что Гейнекциус, мой прежний защитник, сожжен. Я раскаивался, но между тем в душе не мог порицать себя за эту большую ошибку. Мне казалось невозможным сопротивляться ее наивной смелости или последнему испытанию – ее слезам. Но все эти извинения делали мой грех еще значительнее: девушка была так беззащитна, а положение мое представляло столько преимуществ!
Что теперь будет с нами? Мне казалось, что нам нельзя больше оставаться в одной квартире. Но куда мне уйти? Куда уйти ей? Не по нашему выбору и не по нашей вине жизнь заключила нас вместе в это тесное жилище. У меня появилась дикая мысль немедленно жениться на ней, но я тут же с негодованием отвергнул эту мысль: она была еще дитя, не знала собственного сердца. Я поймал ее врасплох и ни в коем случае не должен воспользоваться этим. Я не только должен сохранить ее невинной, но и свободной, такой, какой она пришла ко мне.
Я уселся перед камином, размышляя, терзаясь раскаянием и тщетно ломая голову в поисках спасения. Когда около двух часов ночи в камине оставалось только три красных уголька и весь город уже спал, я услышал тихий плач в соседней комнате. Бедная девочка, она думала, что я сплю. Она сожалела о своей слабости и о том, что, может быть, – помоги ей бог! – была слишком смела, и в ночной тишине облегчала грудь слезами. Нежные и горькие чувства, любовь, раскаяние и жалость боролись в моей душе. Мне казалось, что я обязан осушить ее слезы.
– О постарайтесь простить меня! – воскликнул я. – Постарайтесь простить меня! Забудем все, попытаемся всё забыть.
Ответа не последовало, но рыдания прекратились. Я еще долгое время стоял со сжатыми кулаками. Наконец ночной холод пронизал меня насквозь, я вздрогнул, и разум мой пробудился.
«Этим ты делу не поможешь, Дэви, – подумал я. – Ложись в постель и постарайся заснуть. Утро вечера мудренее».








