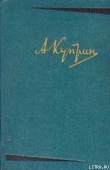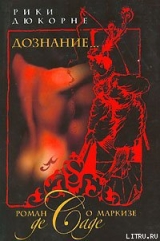
Текст книги "Дознание... Роман о маркизе де Саде"
Автор книги: Рикки Дюкорне
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
Инквизитор перевернулся на другой бок. Так сыра была его кровать, в таком беспорядке и, правду сказать, так воняла, что походила на лежбище зверя. Ланда не одобрял ни купален, ни обычая омывать себя водой, к которому индейцы в своей похотливости и суетности так прилепились, что предавались ему, невзирая на штрафы и порки. Ланда купался в собственной привычной вони, а дождь все барабанил, словно пальцами перебирал его мысли. В сон Ланда погрузился, как в ил. Во сне он увидел, как посреди главной площади Мани козел уестествляет женщину, и никому нет до этого дела. Женщина и козел совокупляются истово: женщина держит козла за рога, сидит у него на коленях, а сам он развалился, будто король на сияющем троне, и мошонка у него точно огромная бархатная подушка.
«Неужто никому нет дела? – кричит Ланда индейцам и монахам, снующим взад-вперед, занятым пустыми делами. – Неужто я один это вижу?»
В самом тайном, известном только ей одной убежище, в самой глубокой пещере под Мани, в круглом зальце, выложенном красным камнем, который скрепили известью на черепашьих яйцах, вдова Кукума сидит на полу. Рядом с ней – свеча, чернильница ее мужа и пучок его неочиненных перьев. Здесь же – двенадцать самых священных книг ее народа: завернутые в ягуаровую шкуру, закопанные в песок.
Она возжигает курение любимым богам своего мужа: Итцамне, богу письменности, и древнему, древнему Павахтуну. Еще она возжигалакурение богу зерна. Ведь разве книги не подобны хлебу? Разве они не питают наши души, как зерно питает наши тела?
Ей утешительно знать, что книги так близко. У нее есть немного ягод. Она ест их медленно, одну за другой, потому что они очень горькие. А потом ложится умирать.
10
Сегодня мне вернули бумаги, и среди них – последнее письмо Габриеллы, по которому я мучительно тосковал. Вот отрывок, которым я упустил поделиться с тобой ранее, милый читатель. Мне хотелось бы сделать это сейчас:
«…начались уроки. Хотя Олимпа диктовала красноречиво и живо, она то и дело ударялась в преувеличения и цветистости, которые я чаяла осторожно обуздать. Ее правописание было в лучшем случае своеобычным: к словам, которые она почитала особо важными, она приписывала лишние буквы. Или писала такие слова с заглавной – недостаток, согласитесь, в наше время весьма распространенный. Настаивая на своем, она подчеркивала строки с такой (поистине мужской) силой, что перо рвало бумагу.
Уроки проходили в моих комнатах над atelier, недавно преображенных драгоценными подарками Меандра. Благодаря его чудесному ковру из верблюжьей шерсти, окрашенной индиго и мареной, пол полыхал feudejoie.
Однажды Олимпа сказала:
– Милый друг, позволь, я тебе подиктую. С самого утра у меня в голове роятся мысли: я проснулась ото сна о городе, не похожем ни на один город в мире, но все же это был Париж. Быть может, Революционный Париж.
Там не было толп голодающих, криком требующих хлеба, и на улицах не лежали завшивевшие трупы. Сверкая под ярким летним солнцем, осененный садами, город расцвел среди лугов, за которыми распростерлась Первозданная Дикость, во сто крат обширнее его самого. Налетающие оттуда ветра наполняли каждый квартал различными запахами (мы недооцениваем значение обоняния!). Городской воздух пах сосновыми иголками, спорами, цветами и преющей листвой. Благодаря близости лесов, общественные огороды, где трудятся граждане, высаживая рядами латук, разбрасывая семена люпина и подвязывая цветной горошек, пестрят птицами и бабочками. В парках пасутся косули, под карнизами крыш вьют гнезда фазаны.
В годины бедствий – голода, чумы и войны – леса позволят семье, коммуне – да что там! – всему населению вернуться к Первобытному Состоянию. Еще окрестные чащи, под сенью которых притаилось множество озер и болот, круглый год снабжают рынки форелью, щукой и угрями.
На каждой городской площади разбит сад. Осенью граждане все вместе собирают урожай лесного ореха, миндаля и яблок, а в разгар лета – вишни. Вообрази себе целый квартал, засаженный вишнями! У каждого ребенка за ухом – гроздь вишен! Вообрази себе радость детей, выросших на Миндальной улице, прелесть городского парка под сенью сотни ореховых деревьев!
На каждом перекрестке – фонтан. Журчание воды (мы недооцениваем значение слуха!) убаюкивает младенцев. Болото, – добавляет она, – (лучше на некотором отдалении, скажем, в дне пути), стоит оставить, хотя бы ради гнездящихся там ибисов.
– А есть ли бойня в городе твоей мечты? – поддразнила я.
– Если да, – она улыбнулась, потакая мне, – то это будет огромный портал, наподобие широко разинутого рта – в напоминание всем, вступающим туда, что и они в свой черед будут съедены.
Но это было еще не все. В лесах обитали отшельники-философы, посвятившие себя нравственной философии. В переломные часы своей жизни гражданин мог отыскать тропинку к философской башне и там обсудить материи духовные и сердечные. В каждой такой башне имелась обсерватория, «чтобы любой мог подолгу взирать на свои истоки, изумленно черпая в них вдохновение».
– Граждане моего города будут самостоятельны интеллектуально и нравственно, – сказала она, – и будут обладать многими умениями и талантами. Они не желают быть рабами сами и не желают порабощения своих детей, поэтому я воображаю их сведущими в законах, медицине, философии, науках и искусствах, все это обеспечит им благосостояние. Я воображаю их свободными и несгибаемыми.
– Одно можно сказать в пользу нашего нынешнего города, – промолвила я, откладывая перо. Я встала и принялась вынимать из волос Олимпы гребни. – А именно, наши женщины уже несколько поколений – от пылкой маркизы де Рамбуйе до неподражаемой атеистки мадам дю Деффан – открывали свои дома для дискуссий. Однако как странно: столько лет мы говорим об эстетике, политике, нравственной философии и морали, а парижане все так же восстают друг на друга, а то и вовсе готовы вцепиться друг другу в горло! Марат, например, заставил бы нас закалывать наших врагов и поедать их сырыми!
– Мадам дю Деффан не пригласила бы его на ужин!
– Если бы все пахли так же приятно, как ты, – сказала я, целуя ее в макушку, – среди людей не стало бы вражды!
– Боюсь, это не так, – вздохнула она, – ведь я то и дело наживаю множество врагов. – И после минутного раздумья добавила: – Я часто спрашиваю себя, как связаны разум и нравственность? Зло, разумеется, всегда подкреплено «разумными» доводами. Но что, если истинный разум есть принадлежность нравственности, а истинная нравственность – принадлежность разума?
– Ты придумываешь новую нравственность, – сказала я. – Ту, которую еще только предстоит изобрести.
– Вот именно. – Она улыбается нежно. – Вот зачем я придумала философа, который всегда готов принять страждущего в своей уединенной башне! Чтобы каждый гражданин мог днем созерцать Природу, а ночью обсудить ее добродетели с участливым другом.
Уроки Олимпы перемежались смехом, чашками шоколада и чтением Вольтера:
«Театром мы обязаны Шекспиру. Будучи могучим и плодовитым, его гений одновременно безыскусен и высок, совершенно лишен хорошего вкуса и не имеет ни малейшего представления о правилах».
– Это вселяет в меня надежду! – воскликнула Олимпа. – И я тоже совершенно лишена хорошего вкуса, и тоже не имею ни малейшего представления о правилах.
Она всегда будет писать слова, повинуясь случайной прихоти. Правописание для нее сродни выпеканию пирожков: отдушки, изюма и орехов сыпешь, когда и сколько вздумается. И как восхитительна на языке фраза: «Золото всегда податливо». Точно масло плавится на горячей гренке!
Мы смаковали слова, наделенные особой силой, вспоминали, как в нашем детстве эти слова заключали в себе целые таинственные миры, – совсем как сейчас «Отаити» Кука заставляло нас томиться по его рассказу, впитывать его, как вдыхаешь легкий ветер с запахом полевых цветов.
– В детстве, – призналась я ей, – я путала «грамоту» с «греблей». Читать было для меня все равно что плыть с отцом на маленькой лодочке среди камышей. И сейчас, пока я, сидя рядом с тобой, глядела в открытую книгу, ко мне вернулось ощущение того дня, его погоды и сладости. На солнце наплывают облака, и вода меняет свой цвет. Исейчас, когда ты, милая Олимпа, вслух читаешь название этой книги…
– «К Южному полюсу и вокруг света».
– Я все больше погружаюсь в грезу. Лодочка, небо и вода растворяются, открывая путь в неведомые времена и дальние края, которых я никогда не видела, но куда я с радостью, хотя и не без печали, однажды бы уплыла».
Интервью с автором
Стив Томасула (СТ): Имя маркиза де Сада нередко употребляют как синоним жестокости, особенно по отношению к женщинам, тем не менее в «Дознании веерщицы» он выведен скорее с сочувствием. Не могли бы вы рассказать, что привлекло вас в де Саде и почему вы решили написать эту книгу.
Рикки Дюкорне (РД): Все мои романы начинаются с того, что я слышу голос. На этот раз это был голос бесстрашной веерщицы. Она поведала, что действие романа будет развиваться во время Великой Французской Революции и что главным действующим лицом в нем будет де Сад. Я подумала: «Только не это! Теперь мне все-таки придется сразиться с монстром! Перечитать его кошмарные книги. Лицом к лицу встретиться с безумцем и его ужасными парадоксами: с его жаждой сексуальной свободы и его собственной изводящей импотенцией, с его граничащим с одержимостью, энциклопедическим увлечением убийством на сексуальной почве и его ненавистью к смертной казни; с тем фактом, что при всех его мечтах о сексуально раскрепощенной женщине его страх и ненависть к ее телу отравляют эти самые мечты».
(СТ): В посвящении вы благодарите своего отца за то, что, когда вам было шестнадцать лет, он дал вам роман де Сада «Жюстина».
(РД): Мой отец обладал выдающимся умом и не менее выдающейся библиотекой и обоими поделился со мной. До «Жюстины» он давал мне читать Сартра, а также «Скромное предложение» Свифта. «Жюстину» я прочла как философский роман, а также как сатиру. Давая мне «Жюстину», отец признавал, что я стала мыслящей и сексуально раскрепощенной женщиной. Это доверие было величайшим подарком, какой он мне сделал.
Я с детства интересовалась вопросами этики. У Сартра я почерпнула мысль о том, что свобода и ответственность неразрывно связаны друг с другом. Де Сад и Сартр ставят перед читателем одну и ту же дилемму: если мы живем в безбожном мире, то как нам себя вести? Каждый по-своему, оба писателя показывают, что нравственная пустота ведет не к свободе, а к кошмару и смерти.
(СТ): Поэтому «Дознание веерщицы» не столько исторический роман, сколько роман об идеях де Сада?
(РД): Как вы знаете, есть множество способов интерпретировать историю. Несмотря на то что мой роман основывается на исторических реалиях и тщательном изучении материала, он не маскируется под историю как таковую. Напротив, в нем выведена возможная реальность, параллельная реальность, в которой идеи действительно можно исследовать.
(СТ): В одном из своих эссе вы описали, как живший в XVIII столетии физик Роберт Хук, глядя в микроскоп, зарисовывает невероятно увеличенную блоху. То же делает для нас и де Сад? Показывает нам порок с большой буквы?
(РД): Когда веерщица читает де Сада в первый раз, она приходит в ужас и с отвращением от него отворачивается. Но потом она осознает, что его виденье ада в действительности виденье опасностей, которые грозят всем нам. Она решает, что для того, чтобы выжить, необходимо «посмотреть в лицо тигру». Сама я считаю, что если мы решимся присмотреться к гипотетической реальности де Сада внутри каждого из нас, у нас появится шанс выжить. Что если бы мы внимательно прочли де Сада, то, возможно, были бы готовы к возможности холокоста и сумели бы вовремя его предотвратить.
(СТ): Как рисунки Хука, ваша книга также завязана на пристальный взгляд, или, точнее, воображение.
(РД): Я не только писательница, но и художница и поэтому много времени провожу, разглядывая то, что меня окружает: предметы, ландшафты, картины, лица людей. Поскольку напряженное разглядывание ведет к напряженным размышлениям, мой слог всегда опирается на зрение.
Помню, в возрасте шести лет я нашла замечательное синее яйцо малиновки и положила его в коробочку с ваткой. Каждое утро я бегала посмотреть, не вылупился ли из него кто-нибудь за ночь. Однажды утром оно исчезло. У моих родителей накануне была вечеринка, и мама показала яйцо гостям, чтобы их развлечь. Кто-то шутки ради раздавил его между ладоней. В этом яйце для меня заключался огромный смысл: оно воплощало жизнь, дикую природу и красоту. Думаю, в то утро я начала задумываться о нравственности.
В «Дознании веерщицы» веер – могущественная сила, пронизывающая всю книгу, и не только потому, что книга посвящена веерщице, но и потому что она посвящена сексуальности и раздумью: открытию и закрытию тел и умов. Подобно уму и человеческому телу, веер очень хрупок. Как вам известно, открывать себя миру рискованно. Так же рискованно, как и необходимо. Жизненно необходимо.
Могу добавить, что огромной силой обладают также книги, к которым мы возвращаемся по многу раз. Их сюжеты, описанные в них предметы расцвечивают и слова автора, и наши собственные воспоминания. Тут мне приходит на ум магическая книга «Десять тысяч вещей» Мари Дермю.
(СТ): Значит, повествование вы рассматриваете как некий шкафчик, в котором хранятся те или иные предметы?
(РД): Думаю, романы сродни первым «кабинетам диковин», набитым вещами, которые показались коллекционеру занимательными, но остаются разрозненными. Забавного вида рог может лежать на полке рядом с диковинным древесным наростом, двуглавой змеей в бутылке, любопытной вышивкой, редкой раковиной. И все же это странное собрание может многое рассказать о мире, пусть только о том, что творится в душе коллекционера!
(СТ): В качестве аналогии мне приходит на ум одно место из Данте, где логика тоже ассоциативная, а не рациональная: Господь в его хрустальной сфере выступает как отражение Сатаны, его негатив. Один – антипод и пародия другого, но, как в ваших романах, персонажам иногда зачастую трудно определить, где добро, а где зло.
(РД): Де Сад зачастую пародия на самого себя, и именно эта «отстраненность» и делает его в конечном итоге человечным. В своих мечтах он – монстр, а в жизни – недотепа, атеист, которому, чтобы получать удовольствие в постели, необходимы всевозможные католические нараферналии. Однако он мечтает о свободе, и в основе моей книги «противостояние» Сада и епископа Ланды, человека в самом деле уничтожившего целый мир: кто истинный монстр?
Я писательница, потому что написание текстов позволяет мне мыслить глубже. Процесс письма, если оно скрупулезное и решительное, заставляет не только писателя, но и читателя забираться в неожиданные и зачастую опасные места. Посметь взглянуть в лицо парадоксам в нас самих – и страх, и тайна, и наслаждение прочтения и написания книг одновременно.
(СТ): Это выглядит как антитеза обычному употреблению слов. Позвольте, я процитирую другое ваше эссе: «Можно сказать, что литературный вымысел имеет свою функцию. А заключается она в том, чтобы освободить первозданную ярость языка от шелухи повседневного использования».
(РД): Я много думала о том, что делают с языком политика и реклама, а ведь в нашей стране политика все больше становится разновидностью рекламы. Одно дело – естественное изменение языка, в конце концов, язык никогда не бывает статичным, но постоянно видоизменяется; совсем другое – когда слова высасывают досуха и лишают смысла.
(СТ): В уста де Сада вы вкладываете следующие слова: «И мне начхать, если от моих изобретений, не в пример гильотине, нет "пользы"». Выходит, странность и полезность – это необходимые качества литературы?
(РД): С одной стороны, нет ничего полезнее того, что заставляет нас мечтать и позволяет нам изменяться, становиться богаче. Искусство тоже обладает такой чудесной способностью. Но с точки зрения нашей, склонной к идеосинкразиям культуры, где что-то ценится только тогда, когда на нем можно сделать деньги, искусство бесполезно. Я утверждаю, что пусть искусство и «бесполезно», оно тем не менее абсолютно необходимо.
(СТ): Так как же вы совмещаете это со способностью языка высвобождать страшнейшие разрушения, геноцид, темную сторону всего того, что вы защищаете?
(РД): Разумеется, меня интересует язык и возможность использования его во вред. Обращение с языком требует большой осторожности. Одна из разновидностей такой осторожности, на мой взгляд, писать книги, в которых я исследую, что случается, когда посредством «хорошего» довода даже самые худшие поступки обретают силу и оправдание.
(СТ): Писательницы-феминистки нередко указывают, что личное есть одновременно и политическое, и в судьбе Габриеллы и де Сада вы как будто продемонстрировали эту идею.
(РД): Я живу с психоаналитиком. Некоторое время назад среди его пациентов был один трансвестит, который считал, что у него нет другого выбора, кроме как решить, к какому полу себя отнести, и пойти на операцию. Почему бы – вместо того чтобы подвергать человека ужасам и риску такой операции – не придумать общество, которое отказалось от уничижительных стереотипов и допускает возможность существования бесконечного числа полов. Не быть принужденным ограничивать себя, бесконечно сомневаться в официальных стереотипах, значит хотя бы отчасти вернуть себе рай.
(СТ): Что ж, де Сад и был тем, кто поколебал официоз.
(РД): Что да, то да!
(СТ): На «плохих парнях» сюжет строится, а?
(РД): «Плохие парни» дают писателю где развернуться. Поднимают ставки. Я пристрастна к тем, кого французы называют литературными безумцами. В восемнадцатом веке таких было множество. Они спорили о приезде ангелов, об академическом языке и о том, способны ли звезды мыслить.
(СТ): В одном из эссе вы писали: «В раннем детстве я была заражена змеиным ядом языка». Более всего в этом утверждении меня заинтересовало размывание границ между телом и языком. Это снова возвращает нас к вашему роману.
(РД): Я писала про одно из моих самых первых воспоминаний. Я открыла букварь, и буква «п» оказалась зависшей над цветком пчелой. Картинка так на меня подействовала, что я была очарована, а еще я почувствовала жжение от укуса. С тех пор книги воздействовали на меня не только на интеллектуальном, но и на уровне физических ощущений. Те книги, которые я пишу, – это те самые, которые я читаю.