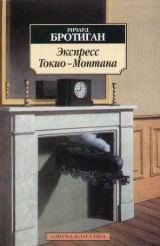
Текст книги "Экспресс Токио - Монтана"
Автор книги: Ричард Бротиган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Синее небо
Вопрос:Как я мог это сделать?
Ответ:Ни на секунду не задумываясь, почему-то именно так представлялось мне естественным, необходимым, и я ничуть не жалею.
С этой мозаикой он возился три дня. Тысяча кусочков должны были сложиться в гавань, лодки и много синего неба.
Синее небо обернулось неразрешимой задачей.
Все остальное шло, как и было предопределено: час за часом, кусочек за кусочком появлялись гавань и лодки.
Настал черед синего неба.
Синего неба было много, в нем ничего, кроме него самого, и еще сотни кусочков до конца. Мой друг размышлял над ними весь тот долгий медленный вечер.
Кусочки категорически отказывались принимать форму. Наконец он сдался:
– Ничего, кроме синего неба. Ни облачка, ни подсказки. Одно и то же синее небо. Сдаюсь.
Он провалился в кровать и в судорожный сон.
Весь следующий день он не прикасался к мозаике.
Собранная на 80 процентов, она лежала на обеденном столе. Все готово, не считая двухсот кусочков синевы. Над лодками и гаванью зияла огромная дыра цвета столешницы. Странное зрелище. Небо не бывает коричневым.
Друг тщательно избегал этой мозаики.
Как будто на столе сидела собака Баскервилей. Он не желал иметь с этой псиной ничего общего.
Наступал вечер, мой друг сидел в гостиной в кресле-качалке и поглядывал в столовую, где, расположившись на столе, мозаика облизывала лапы.
– Я сдаюсь, – сказал он наконец, разбивая долгое молчание. – Мне ее не доделать. Синее небо безнадежно.
Не говоря ни слова, я встал, принес пылесос и включил его в розетку. Друг сидел и смотрел на меня. Он так ничего и не сказал, а я достал шланг и всосал мозаику со стола. Кусочек за кусочком она исчезала в пылесосе: гавань, лодки, незавершенное синее небо, – пока не ушло все, стол пуст, ни кусочка не осталось.
Я выдернул пылесос из розетки и унес его вместе с мозаикой.
Потом вернулся, и друг заговорил – впервые с той минуты, когда я взялся засасывать его мозаику.
– Там слишком много синего неба, – сказал он.
Нюх на хорошие продукты
Иногда я слишком небрежно набираю номер телефона. Промахиваюсь мимо цифр и начинаю заново, но ее номер я всегда набираю очень внимательно – так, словно работаю бухгалтером на стекольной фабрике.
Я только что набрал ее номер и теперь жду; телефон звонит… и… снова звонит.
Третий звонок…
И четвертый.
Я слушаю звонки очень внимательно – так, словно это сложная классическая музыка или двое интересных людей говорят о технической задаче.
Я слушаю так внимательно, что вижу телефон на маленьком деревянном столике у нее в комнате. Рядом лежит книга. Какой-то роман.
…седьмой звонок, и восьмой… Я так внимательно слушал звонки, что оказался в ее квартире, стою в темной комнате рядом с телефоном и слушаю, как он звонит.
Она не отвечает. Она ушла. Ее нет дома.
Мне надоел телефон, и я брожу по квартире. Включаю свет и разглядываю вещи. Смотрю на картину, которая мне нравится, и на постель. Я почти вижу свое отражение в ней, но это было в прошлом году.
На кухонном столе нераспечатанные конверты и счета. Такая у нее привычка. Она не любит открывать счета. Распечатывает остальные конверты, а счета оставляет на кухонном столе. Кипа растет. Иногда к ней приходят люди и так ужинают – за столом с нераспечатанными счетами.
Я открываю холодильник и смотрю, что там есть. Половина запеканки из тунца, полбутылки вина и помидор. Очень хороший на вид помидор. У нее большой талант выбирать продукты.
Кот заходит в кухню и глядит на меня. Он видел меня уже много раз. Я ему надоел. Он уходит.
Что теперь?
Телефон прозвонил уже двадцать раз, не меньше… а может, и больше. Ее нет дома.
Я вешаю трубку.
Исчезают до того, как открываются глаза
Нечем заняться – лишь волны памяти несут меня прочь от любого берега. Я лежал на кровати. Стоял ранний вечер того дня, в котором меня по-настоящему никогда не будет.
Бывают такие дни, в которых нас просто нет.
…исчезают до того, как открываются, глаза.
Я думал о давней-давней комнате и о предметах в той комнате. Я вспомнил их пять или шесть и сколько-то своих ощущений той комнаты, но оставалось и другое, чего я вспомнить не мог.
Я старался изо всех сил, но они не возвращались. Потом я это бросил, но дал себе обет. Я запишу все, что вспомнил из комнаты и ощущений, после чего пару-другую месяцев не буду заглядывать туда. Пройдет время, я достану записи и вспомню что-нибудь еще из предметов и ощущений той комнаты.
Лежа в кровати и плавая в безбрежной памяти, я думал, что это даже интересно.
Пока все хорошо, одно лишь плохо: когда день, которого никогда не было, переходил в вечер, я встал наконец с кровати, но забыл записать воспоминания о той комнате – более того, я целую неделю вплоть до сегодняшнего дня так о ней и не подумал, так что теперь я не помню из той комнаты вообще ничего.
Увы, давным-давно была на свете комната, которую я забыл.
Гарем
Почти невидимый он бродит по Токио, фотографируя красивых женщин. Его внешность, манеры и само присутствие незаметны до такой степени, что описать его не представляется возможным. Таких людей забываешь, даже когда на них смотришь, а стоит им исчезнуть из виду, они забыты окончательно.
Красивые женщины не обращают внимания на то, что он их фотографирует, а если и обращают, то мгновенно забывают.
У него тысячи фотографий красивых женщин. Он проявляет пленки в собственной лаборатории и печатает снимки в полный рост. Они висят у него в шкафу на тысячах вешалок.
Когда становится одиноко, он просто одну вынимает.
Монтанская любовь
Во вчерашней газете заметка о том, как мать, усевшись на сына-подростка, не подпускала к нему полицию.
Совершив преступление, мальчик прибежал домой к матери, и туда же явилась полиция – кажется, они это называют «по свежему следу». Полицейские достали наручники, но в эту минуту в комнату зашла мать и, увидев, что происходит, села на своего сына, чтобы полиция не могла его арестовать.
Представляю, какие мысли носились в полицейских головах при виде такого зрелища. Я почти вижу, как они уговаривают мать слезть со своего сына.
Что еще за дерьмовщина, кому это надо. Когда люди желают вам удачи, они же не имеют в виду такое, правда?
Ну хватит, мэм, вставайте.
Ну хватит, мэм, слезайте.
Женщину арестовали за сопротивление властям, выразившееся в «якобы» сидении на собственном сыне.
Кошачья канталупа
Канталупа оказалась совсем невкусной. Нужно было подержать ее подольше, чтоб созрела, а может, с ней вообще было что-то не то. Вполне допускаю, что канталупе с самого начала была уготована горькая судьба, но мы этого так и не узнаем, ибо у нее не было возможности себя проявить.
Доев ее с невнятным раздражением, мы с женой поставили тарелки на пол. Почему – не знаю. С таким же успехом мы могли поставить их на журнальный столик.
По дому бродил свежеодолженный кот. Мы жили в Монтане наездами, а потому соблазняли соседских котов обещаниями экстравагантных кошачьих деликатесов и бесплатным отпуском в парижском «Кошачьем Ритце». Слишком много развелось мышей. Коты оставались без Парижа. Мы перебирались из Монтаны в Калифорнию, а коты с ненужными паспортами – в свои дома.
Так или иначе, новый кот подошел к оставленной на полу канталупе и принялся внимательно изучать корку. Затем лизнул – в исследовательских целях. После чего этот кот, которому не суждено было применить свой французский, облизал несколько раз корки, но уже фамильярнее. И кот принялся за канталупу. Никогда раньше я не видел, чтобы коты ели канталупу. Я старался, но не мог представить, что напоминает коту вкус канталупы. Из нормальной кошачьей еды я не знаю ничего, хоть отдаленно напоминающего канталупу.
Мышей, птиц, сусликов, насекомых придется исключить из рассмотрения, равно как и такую домашнюю кошачью еду, как рыбу, курицу, молоко, а также все, что пакуют в банки, мешочки и коробки.
Что из оставшегося напоминает коту канталупа?
На эту тему у меня не было ни единой мысли, и вряд ли таковая появится в будущем, но одно я знаю точно: никогда в продуктовом магазине не найти мне на полке с кормом для животных кошачьей канталупы.
Розовая гавань Эла
Эл ходил в море десять лет и скопил за это время кое-какие деньги. Он любил, когда всем весело, и решил купить бар. Купил. Бар назывался «Веселая гавань Эла». Бар разорился, поскольку располагался в неудачном месте, а Эл ничего не понимал в барах и вдобавок не позволял своим друзьям платить за выпивку.
Управляя баром, он завел множество друзей. Все думал, что они придут еще и приведут с собой нормальных денежных посетителей, а те – других нормальных денежных посетителей. Бесплатная выпивка, которую он предлагал друзьям, была хорошей рекламой, призванной растянуть по всему миру сеть «Веселых гаваней Эла».
Один бар будет в Гонконге, один в Сиднее, по одному в Рио-де-Жанейро, Гонолулу, Денвере и Йокогаме; даже в Париже, Франция, «Веселая гавань Эла» предложит вам трехзвездочную закуску! Эл будет их навещать, проверять, как идут дела, – на личном самолете, непременно с личной стюардессой, сошедшей с центрального разворота «Плейбоя». Купив очередной «Плейбой» и развернув его посередине, вы увидите пустую страницу, поскольку девушка месяца в это время будет лететь в самолете и держать Эла за руку.
Теперь Эл живет с матерью.
Каждый день он обещает, что через месяц уйдет в море, но это тянется уже два года. Он редко выходит из дому, а кораблей на горизонте не видно. Весь задний двор материнского дома усажен розами. Она любит розы. А он – нет, потому что красные розы слишком красные, желтые – слишком желтые, а розовые – слишком розовые.
Иногда, глядя на эти цветы из окна своей спальни, он недоумевает, почему так вышло, и думает, что розам явно не хватает промежуточности.
Прощай, первый класс, и здравствуй, «Нэшнл Инкуайрер»
Не везло мне в школе, особенно в первом классе. Провалившись несколько раз на экзаменах, я стал в нем выше всех мальчишек. Странно этот первый класс устроен. Я поступил в него нормальным ребенком среднего роста, а через два года стал выше всех.
Хуже всего было чтение. Я вообще его не понимал. Просидев два года в первом классе, я с тем же успехом мог читать книгу вверх ногами, если она попадала ко мне в таком виде.
В конце концов я выучился читать, ведь за эти годы первый класс осточертел мне настолько, что скука дошла до какого-то подобия пустого религиозного экстаза, а я все сидел и перерастал от сентября до июня, когда меня на три месяца условно освобождали из первого класса, чтобы осенью вновь посадить в него же.
Я научился читать, разбираясь в том, что говорят вывески и продукты. Я таскался по улицам и решал головоломки: РЕМОНТ ОБУВИ У СЭМА, КАФЕ «ВКУСНАЯ ЕДА», ТАБАЧНАЯ ЛАВКА ЭЛА, БЫСТРАЯ И ЧИСТАЯ СТИРКА, ВАФЛИ «НЕОН», ДЕШЕВЫЙ МАГАЗИН, ИНСТИТУТ КРАСОТЫ МЭЙБЛ, не говоря уже о ТАВЕРНЕ
«ОЛЕНЬИ РОГА» с кучей рогов в витрине, а в самой таверне еще больше.
Там сидели люди, тянули пиво и разглядывали все эти рога, я же, застряв у витрины, изучал выставленное в ней ресторанное меню и медленно соображал, что это еще за слова: «бифштекс», «картофельное пюре», «гамбургер», «салат» и «масло».
Иногда я отправлялся учить язык в продуктовый магазин. Бродил взад-вперед по проходам и читал баночные этикетки. Картинки на этих банках здорово мне помогали. Я разглядывал нарисованный горох, читал слово «горох» и собирал их вместе. Болтаясь по отделу консервированных фруктов, я выучивал персики, черешню, сливы, груши, апельсины и ананасы. Обучение плодам пошло быстрее после того, как я твердо решил выбраться из первого класса.
Самым трудным в изучении фруктов был, разумеется, компот.
Иногда я стоял десять или пятнадцать минут с консервной банкой в руках и таращился на нее, ни на шаг не приближаясь к истине.
Все это происходило тридцать семь лет назад; с тех пор мои читательские пристрастия скачут вверх-вниз, словно бутылочная пробка на американских горках. Сейчас мое любимое чтение– «Нэшнл Инкуайрер». Я истинный поклонник этой газеты. Я люблю истории из жизни, а в «Нэшнл Инкуайрер» неимоверное количество историй из жизни. Вот заголовки статей «Инкуайрера» за эту неделю:
В большинстве внутрисемейных раздоров виновата еда.
Низкорослые живут дольше.
Нас привезли в таинственный инопланетный город.
Почему президент Трумэн всегда стирал свое белье.
Автомобиль в руках разгневанного водителя – смертельное оружие.
Лоис Лэйн в ярости из-за полуголых снимков.
Профессора тратят ваши налоговые $$$ на изучение сверчков.
Я привык читать под телевизор «Нэшнл Инкуайрер», хотя раньше предпочитал воскресную «Нью-Йорк таймс». Это довольно просто: в один прекрасный день заменить «Нью-Йорк таймс» «Нэшнл Инкуайрером», только и всего.
Пусть кто-нибудь другой покупает мой выпуск «Нью-Йорк таймс». Пусть он забирает мою газету, а вместе с ней и ответственность сознательной думающей личности. Мне сорок четыре года, я, слава тебе господи, выбрался из первого класса и теперь хочу лишь одного – немного бездумной радости от тех лет, что мне остались.
Я счастлив, как амеба, когда читаю перед телевизором «Нэшнл Инкуайрер».
Волк мертв
Я ждал его смерти несколько лет – той смерти, что налетит стирающим ветром и унесет с собой его самого, все, ради чего он был нужен, и все, что стало для меня символом 1970-х.
Почти все эти десять лет его жизнь была узором непрерывных шагов – неподалеку от автотрассы, взад-вперед по клетке. Ни разу на моих глазах он не стоял на месте. Всегда ходил. Его будущее было в его следующем шаге.
Впервые я увидал его в 1972 году, когда тридцать лет спустя вернулся в Монтану; с тех пор год за годом я смотрел на него постоянно, и постоянно он был занят одним и тем же – ходил, пока осенью 1978-го я на полгода не уехал из Монтаны, а когда вернулся, его уже не было. Мы поменялись местами.
Очевидно, тем летом волк умер. Пустая клетка заросла травой и сорняками. Пока он был жив и пока были 70-е, из-за его бесконечных хождений там ничего не росло. Шаг за шагом он прошел это десятилетие. Если сложить его шаги, вполне возможно, выйдет половина пути до луны.
Я рад, что он умер: волк не должен жить в клетке у автотрассы – но не подумайте, что его специально выставили напоказ. Он был чьим-то домашним животным, и клетка стояла у дома этого человека.
Мировоззрение хозяина, очевидно, можно выразить так: «У меня живет домашний волк», и что бы потом ни происходило, происходило уже после.
Но теперь волк мертв.
Клетка заросла травой.
Путь к луне завершен.
Ближайшая от моря точка с начала эволюции
В прошлые выходные я ездил с друзьями на японский берег и кормился там исключительно рыбой – рыба на завтрак, обед и ужин. Даже перекусывал перед сном я тоже рыбой. Сырая рыба, вяленая рыба, жареная рыба и просто рыбная рыба.
Я перепробовал двадцать сортов рыбы, если не больше – все они оказались очень вкусными, но через некоторое время рыба в буквальном смысле полезла у меня из жабер.
Однажды утром в туалете я ощутил, как мое дерьмо пахнет морем. Никакой разницы – нюхать собственное дерьмо, гулять по пляжу или сидеть на пирсе, разглядывая корабли и солнце, что опускается за их силуэтами в миллиарды лет воды.
После того дерьма я стал лучше понимать собственные корни, некогда плававшие среди рыб, а еще – мой первый подводный дом, из которого я медленно вырастал, словно сад к земле.
Поклон Граучо Марксу [2]2
Грачо Маркс – знаменитый американский комик – Прим. перев.
[Закрыть], 1890–1977
– Локомотивы! – орал он.
Он хотел ясного ответа.
Фактически – требовал.
– Локомотивы! – орал он вновь и нетерпеливо ждал моей реакции.
Я подбирал слова с тщательностью ювелира, что ограняет бриллиант в густом закрученном тумане. Я хотел, чтобы эти слова серьезно изменили его жизнь – так, что он их даже не поймет.
Ничего больше, как мне казалось, я не мог для него сделать – его действительно интересовало мое мнение, и он притащился черт знает откуда, чтобы его узнать. Я не утверждаю, что он обошел по такому случаю вокруг света, но и не исключаю этой возможности.
Вид у него был усталый.
Я дал бы ему пирожок, если бы тот у меня был.
Конечно, он был молод, но не настолько молод, насколько всем казался. Такие люди и в тридцать один год постоянно называют себя в третьем лице «пацан», а то просят прощения за ошибки у совершенно чужих людей, оправдываясь молодостью и недостатком опыта.
Иногда они и вовсе не совершают ошибок. Только просят прощения, не успев ни в чем провиниться.
Другими словами: они хотят, чтобы с ними обращались так, словно им четырнадцать… милые, бесконечные четырнадцать лет.
На вопрос я отвечал медленно – для начала перевел разговор с праздного интереса к локомотивам на те несколько дней, что провел пару лет назад в Коннектикуте.
Я жил там у чужих людей. Ничего интересного, если не считать завтраков, обедов и ужинов, которые тянулись очень, очень долго, часто подавались на открытой террасе и, насколько я помню, всегда под дождем.
Никогда не думал, что можно так долго жевать гамбургер.
Мне было неловко с этими людьми, и, наверное, им было так же неловко со мной. В последнее утро они даже не дали мне зонтик.
Я уехал и с тех пор никогда ничего о них не слышал. Тогда, впервые, нас свела случайная и непредвиденная встреча. Очевидно, всем нам лучше держаться друг от друга подальше.
Собирая вещи перед тем, как покинуть их жилье, я забыл в шкафу свитер. И вспомнил о нем только на следующий день, дома, после долгой автобусной поездки. Можно было не сомневаться – эти люди никогда не напишут мне, что нашли в шкафу свитер.
Я не ошибся.
Я с легкостью пошел на эту жертву.
Даже вопрос не вставал о том, чтобы как-то опять связываться с этими людьми. А ответ вообще был за тридевять земель.
– Так что бог с ним, с этим свитером, – проникновенно сказал я «пацану» и тем завершил свой ответ.
Он смотрел на меня, не веря своим глазам, будто слон надумал принять вместе с ним душ.
– Я говорил не о свитере, – сказал он. – Я спрашивал вас о локомотивах. Причем тут свитер?
– А, ерунда, – сказал я. – Все равно пропал.
Беспомощность
У официанток мало работы. Ресторану необходимы посетители. Я сижу за столиком один, в дальнем углу сгрудились официантки. Они топчутся просто так. Нетерпеливо и неуклюже. Их пятеро. Всем под сорок, все в белых туфлях, черных юбках и белых блузках.
Им нужны посетители.
Я кладу в рот кусок жареной курицы. Три официантки таращатся на меня с отсутствующим видом. На вилку я кучкой собираю кукурузу. Может, им хочется запомнить, как выглядят посетители ресторанов. Я отпиваю воды со льдом. Теперь на меня таращатся четыре официантки.
Пятая смотрит на входную дверь. Думает: хорошо бы, она сейчас открылась и компания из четырех человек села бы за ее столик. Но хватит и шестидесятилетней женщины, которой нужна лишь чашка кофе с ломтем пирога.
Я берусь за очередной кусок жареной курицы. К четырем официанткам присоединяется пятая, и вместе они так же на меня таращатся, но я и без того сделал все, что можно. Больше делать нечего. Если б я мог съесть пять куриц за пятью разными столиками, моя жизнь заметно бы упростилась.
Рука, соженная в Токио
Я знаю о нем лишь то, что двадцати лет от роду он выпрыгнул с шестого этажа больницы.
Посреди непереносимой, словно самопожирающие американские горки, суматохи этой страны, среди всех наших вопросов жизни и смерти, повсюду вокруг, 24 часа в сутки, безостановочно, друзья, родные и чужие, даже президент Соединенных Штатов, его друзья и друзья его друзей – у меня нашлось сегодня время подумать об этом юном японском самоубийце.
Про него не писали в газетах и не показывали репортажей по телевизору. О случившемся мне рассказала старая знакомая, объясняя, почему ее сотрудник не пришел вчера на работу. Он был хорошим другом погибшему мальчику, и похороны слишком его измучили, чтобы идти потом на работу.
Старая знакомая сказала, что погибший мальчик попал недавно под машину и ему отрезало руку. В непереносимом шоке из-за этой отрезанной руки он и выпрыгнул из окна больничной палаты.
Сперва он потерял под машиной руку, потом от горя о потерянной руке отказался от жизни. Ничто из оставшихся лет – любовь, брак, детей, карьеру, зрелость, старость, даже саму смерть – он не хотел принимать одной рукой.
Он не хотел всего этого и выпрыгнул из окна больничной палаты.
Рассказав его историю, старая знакомая добавила:
– Ужасное несчастье. Зачем он это сделал? Можно ведь прожить и с одной рукой.
Да, но он не мог, и конец все равно был бы таким же: однорукий труп, сожженный в крематории. Там, где должна гореть вторая рука, нет ничего.







