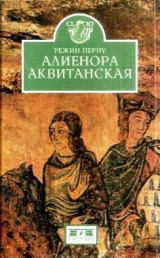
Текст книги "Алиенора Аквитанская"
Автор книги: Режин Перну
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
IV
…и святой монах
Я был словно оглушен
Любовью всю мою жизнь.
Но теперь я знаю.
Что это было безумием.
Бернарт де Вентадорн
Дорога от Парижа до Сен-Дени была забита сильнее, чем в дни ярмарки; паломники сбивались в кучки; то и дело тяжелым возам с сеном приходилось съезжать на обочину, пропуская какую-нибудь процессию прелатов или баронов, чьи кони в нетерпении переступали на месте, а два послушника, с головы до ног покрытые пылью, кое-как подгоняли вперед стадо овец. По мере приближения к Сен-Дени движение становилось все более оживленным, повозки, нагруженные мешками с мукой, винными бочками, горами овощей, – здесь было собрано все, что только можно было собрать с огородов Иль-де-Франса, и сейчас, в начале июня, овощи пришлось везти издалека, – теснились на подъезде к селению; королевским сержантам, явившимся на подмогу людям из аббатства, стоило немалого труда направлять в нужное русло этот поток людей и скота, и, насколько достигал взгляд, по обеим сторонам дороги раскинулись палатки, которым предстояло на те три дня, которые продлится церемония, стать кровом для оруженосцев, священников и всех тех незначительных людей, кому не хватило места в монастырской гостинице, отведенной для более высоких особ, и в деревенских домах.
Все они тронулись с места ради того, чтобы присутствовать при торжественном открытии хоров новой монастырской церкви Сен-Дени, которое было намечено на воскресенье 11 июня 1144 г. Сияющий аббат Сугерий неутомимо хлопотал, лично встречая знатных гостей и указывая каждому отведенное ему место. Этот маленький худосочный прелат – до того слабый здоровьем, что вечно казалось, будто он стоит одной ногой в могиле – несомненно, принадлежал к числу наиболее выдающихся личностей своей эпохи. Удивительная судьба, которая с отцовской нивы вознесла его до того, что он возглавил королевское аббатство, а впоследствии должна была поставить его и во главе государства, никогда не заставала его врасплох. Точно так же, как и немилость, которую ему пришлось на себе испытывать в течение нескольких лет: он немедленно воспользовался предоставленным ему досугом для того, чтобы энергичнее прежнего взяться за восстановление своей монастырской церкви, и посвятил этому делу все свое время. Он нередко вставал до рассвета, часто допоздна оставался на ногах, и вполне мог сказать о себе, что никогда, даже во время поездок, которые ему приходилось совершать на службе у короля, не позволял себе пренебречь ежедневным богослужением в соответствии с правилами своего ордена. Он был необычайно образованным человеком, и его сочинения изобилуют цитатами из древних авторов, но – и в этом он вполне принадлежит своему времени, – в нем нет ничего от интеллектуала, кабинетного ученого. Сугерий напоминает скорее одного из тех прелатов, которые были вместе с тем и деловыми людьми (и в этом определении нет ничего уничижительного) и которые в Соединенных Штатах или, в наши дни, в странах, недавно ставших христанскими, строят церкви, основывают школы, начинают издавать католическую литературу и т. д. Он сам, с удовольствием, едва уловимо приоткрывающим в нем выскочку, рассказывает о некоторых эпизодах строительства своей монастырской церкви, и в рассказе этого человека перед нами проходит вся его деятельность неутомимого созидателя. Однажды ему сообщили о том, что плотникам пришлось прервать работу из-за отсутствия строительного материала: в монастырских лесах, уже изрядно вырубленных, не осталось дерева для балок необходимой длины. Сугерий немедленно покинул свою келью, обегал вдоль и поперек Ивелинский лес и лично указал лесорубам двенадцать дубов требуемой высоты, которые сами они не сумели найти.
Кроме того, ему, как и многим предпримчивым и неугомонным людям, казалось, всегда сопутствовала удача. Возникли затруднения с перевозкой камня, извлеченного из понтуазских карьеров? Ему сообщали, что местные крестьяне предлагают безвозмездную помощь. Ювелирам потребовались драгоценные камни для большого креста, которым Сугерий задумал украсить алтарь монастырской церкви? Ему преподносили, от имени графа Шампанского, великолепную коллекцию топазов и гранатов. За три дня до торжественного открытия церкви, когда монахи не знали, чем накормить толпу гостей, – в стадах аббатства случилась эпидемия, и много скота пало, – один из братьев-цистерцианцев, подойдя к нему перед самым началом богослужения, сообщил, что к монастырю гонят стадо баранов, дар его ордена по случаю торжественного открытия хоров Сен-Дени.
Толпа зашевелилась, послышались крики, радостные восклицания, извещавшие о прибытии короля и королевы. Да, этот июньский воскресный день был поистине великим днем, поскольку в этот день должно было совершиться и торжество примирения.
Ничто ни в облике, ни в поведении короля Людовика VII не говорило о королевском величии. К изумлению толпы, на нем в этот день не было ни шелковой туники, ни мантии, подбитой горностаем: король был одет в серую рубаху кающегося грешника и обут в простые сандалии; затеряйся он в толпе, его можно было бы принять за обычного паломника, пришедшего поклониться могиле святого Дионисия. Он резко выделялся среди собравшихся сеньоров, своих вассалов, выряженных, как принято было в те времена, в ослепительно яркие одежды; не менее резким был контраст и с епископами в их сверкавших на солнце расшитых золотом митрах. Что касается Алиеноры, то она не упустила случая показаться во всем блеске праздничного наряда, – в парчовом платье и жемчужном венце, – тем более, что подобные случаи при дворе французского короля теперь выпадали ей не часто. В первые годы своего замужества она могла дать волю своей любви к роскоши. По случаю их коронации в качестве короля и королевы Франции, в Рождество 1137 г., в Бурже был устроен великолепный праздник: Людовик уже был коронован в Реймсе, но в те времена, как только появлялась такая возможность, и в особенности по случаю свадьбы, коронационные торжества повторялись многократно. И с той поры молодой супруг, стараясь угодить любимой жене, осыпал ее подарками. Она попыталась сделать немного повеселее угрюмый старый дворец на острове Сите. Для нее ткали ковры, – к тому времени в Бурже уже было несколько известных мастерских. Торговцы, которые уже тогда начинали привозить в Иль-де-Франс товары с Ближнего Востока, – мускус, душистые породы дерева вроде сандала, наполнявшие благоуханием обширные мрачные залы дворца, легкие шелковые покрывала, очищавшее дыхание варенье из лепестков роз и имбиря, – теперь знали дорогу ко многим королевским резиденциям: в Париже, Этампе и Орлеане. А главное, Алиенора поспешила созвать трубадуров, без которых жизнь казалась ей скучной и однообразной. Ей необходимы были их песни, аккорды виол и звон тамбуринов, звуки флейты и цитры, а еще более того, – поэтическая игра, обмен словами, любезные ответы, иногда игривая, а иногда и дерзкая болтовня, которые были в обычае при дворе ее отца и деда и которые она хотела привить во Франции.
Но это не всегда было по вкусу ее супругу, чья страстная любовь нередко омрачалась недоверием. Трубадуру Маркабрюну довелось узнать это на собственной шкуре.
Маркабрюн был типичной для своего времени фигурой. Это был подкидыш, выросший где-то в Гаскони; его прозвали пустожор. Серкамон, приближенный ко двору Гильома X Аквитанского, приобщил мальчика к поэзии, и талант его расцвел, песни его зазвучали повсюду, от Кастилии до берегов Луары. Алиенора пригласила ко двору Маркабрюна несмотря на то, что ее муж это не слишком одобрял. Но ведь трубадур непременно должен быть влюблен в прекрасную Даму, вдохновляющую его поззию, чтобы говорить об этом в пламенных строфах. И в один прекрасный день Людовик рассердился. Он без долгих церемоний отослал трубадура восвояси, и тот, как мог, отомстил за себя коварными строками: дерево, как он выразился, уродилось
Высоким и раскидистым, полным ветвей и листьев
… И, расползаясь во все стороны,
Добралось от Франции до Пуатье
… Его корень – Злоба,
Заставляющая Юность умолкнуть…
Впрочем, Людовик с некоторых пор сильно изменился. Он явно испытал потрясение во время той злополучной истории в Витри. Праздники прекратились, больше не было ни танцев, ни пиров, ни стихов, ни песен; король был мрачен и одержим раскаянием, он постился несколько дней в неделю и постоянно – кстати и некстати – твердил молитвы. По случаю открытия хоров в Сен-Дени он решил подарить Сугерию чудесную хрустальную чашу, оправленную в золото, которую сам получил в подарок от Алиеноры. Он начал подумывать о том, чтобы снова призвать старого аббата на совет и теперь – здесь у Алиеноры сомнений не оставалось! – это означало, что ее собственное влияние начинает уменьшаться. Благодаря Сугерию уже был заключен мир с Тибо, графом Шампани, и, после смерти Иннокентия II, король поспешил покорно склониться перед новым папой. «Иногда мне кажется, что я вышла замуж за монаха», – признавалась Алиенора своим близким.
А еще глубже под всем этим залегла глухая тревога, терзавшая молодую чету. Лоб Алиеноры временами прорезала складка: у двадцатидвухлетней королевы не могло быть морщин, и эта складка, несомненно, говорила о том, как серьезно она озабочена. Дело в том, что у королевской четы не было детей. В самое первое время после свадьбы появилась надежда, которая вскоре погасла. Вокруг них начинали перешептываться (а ухо Алиеноры улавливало любой шепот), начинали поговаривать, что этот брак, на который возлагали столько надежд, вполне может оказаться не таким уж выгодным для королевства: большие расходы, войны, в которых обвиняли королеву, заставлявшую их развязывать по своей прихоти, отсутствие наследника, способного обеспечить будущее династии…
И в голове Алиеноры сложился план. Настоятели всех крупнейших монастырей королевства будут присутствовать на церемонии, которую Сугерий хотел окружить невиданным блеском. Воспользовавшись этим случаем, она попросила о встрече наедине с Бернардом Клервоским. Ее притягивал этот святой человек, которого толпа обожествляла и который властным тоном разговаривал с ее мужем, – должно быть, ее влекло к нему скорее любопытство, чем преклонение. Отец Алиеноры уже пытался в свое время противостоять Бернарду Клервоскому. Эта история осталась в анналах Аквитании. Однажды в Партене Гильом X, на которого аббат обрушил свой гнев, при полном вооружении ворвался в церковь, где тот служил мессу. Но аббат двинулся ему навстречу с дароносицей и облаткой в руках, – и герцог, покорившись силе, исходившей от этого пламенного создания, внезапно рухнул к его ногам, охваченный раскаянием. Власть этого мира так же не могла устоять перед святым Бернаром, как и небесное владычество.
Видимо, Алиенора почувствовала, что нуждается в заступничестве святого человека перед Богом и людьми. Она хотела иметь ребенка – ребенка, которому она сумела бы привить честолюбие и вкус к роскоши, без которых не стать великим королем, – а кроме того, она хотела, чтобы было снято отлучение от церкви ее сестры и супруга. И кто, если не Бернард Клервоский, мог наилучшим образом исполнить оба ее желания?
* * *
Церемония завершилась, и, как и предвидел Сугерий, этот день стал незабываемой датой как в истории Церкви, так и в истории искусства. В самом деле, для людей XII в. церковь Сен-Дени была примерно тем же, что церковь в Асси, Вансе или Роншане в наши дни: они отдавали себе отчет в том, что она представляла собой нечто новое в искусстве. И действительно, впервые в здании таких размеров свод опирался на стрельчатые арки. Прелаты, приглашенные для участия в церемонии, – некоторые из них, как, например, епископ Кентерберийский, прибыли издалека, и Алиенора, наверное, с удовольствием увидела среди них Жоффруа де Лору, архиепископа Бордо, благословившего ее брак, – должны были извлечь из этого урок, и многие из них, вернувшись в свои епархии, решили перестроить, используя новый архитектурный прием, соборы, ставшие слишком тесными для населения, которое росло с невероятной быстротой. Использование стрельчатых арок позволяло смело уменьшать толщину несущих стен, и двадцать алтарей, которые предстояло торжественно освятить в этот день, были залиты потоками света: проходя через витражи, он дробился на разноцветные лучи и ложился на камень ослепительно яркими пятнами. В центре, на главном алтаре, сверкал великолепный золотой крест (шестиметровой высоты), установленный на позолоченной медной опоре и весь искрящийся эмалевыми вставками, драгоценными камнями и жемчугом: это был шедевр работы лотарингских ювелиров, самых прославленных в то время мастеров, которые трудились над ним больше двух лет. Это совершенно завораживающее зрелище, сопровождавшееся пением псалмов, и глас толпы, перекликавшийся с хором из нескольких сотен священников, и свойственная тому времени атмосфера религиозного усердия, – все вместе не могло не произвести на присутствующих сильного впечатления. Здание, хоть и было очень просторным, не могло вместить всех, толпа теснилась и кипела вокруг, и, когда процессия священников вышла из дверей церкви, чтобы окропить святой водой стены снаружи, глазам присутствующих предстала более чем удивительная картина: сам король, присоединившись к своим сержантам, расчищал путь для процессии! Впрочем, в тот день Людовику VII не раз представлялась возможность проявить усердие: когда епископы, отправились за раками, содержавшими «святые мощи» – останки святого Дионисия и его спутников, – он поспешил приблизиться и попросил, чтобы ему позволили самому нести серебряный ковчег святого Дионисия. «Никогда, – пишет Сугерий, – никогда еще не видывали более торжественной и волнующей процессии, и никогда присутствующих не охватывала столь же высокая радость».
Можно представить себе, что по крайней мере некоторые из присутствовавших при этом с тревогой поглядывали в сторону Бернарда Клервоского, спрашивая себя, как-то он отнесется к подобному изобилию золота, драгоценных камней и роскошных литургических облачений, – ведь он с беспримерной суровостью клеймил стремление прелатов к роскоши и дошел до того, что запретил делать цветные витражи в цистерцианских церквях: высшее покаяние для человека его времени! На самом же деле, как бы ни были далеки друг от друга эти два человека – Бернард и Сугерий – между ними царило полное согласие. За двадцать лет до того Сугерий, вняв голосу святого Бернарда, полностью пересмотрел свой образ жизни. В том, что касалось лично его, он повиновался решительному призыву к евангельской бедности, с которым цистерцианец обратился к Церкви своего времени: с тех пор из кельи настоятеля Сен-Дени было изгнано все, кроме распятия, а питался он так же скудно, как любой из монахов. Но всю свою страсть к роскоши он перенес на монастырскую церковь.
И невозможно понять Алиенору, если не учитывать этого фона, неотделимого как от нее самой, так и от ее эпохи: любви к роскоши, заметной везде и во всем, от церквей, сверху донизу украшенных росписями и озаренных огнями тысяч свечей, играющими на драгоценных крестах, до рыцарских романов, в которых герои в сверкающих доспехах вступали в невероятные битвы и предавались ослепительным грезам. Черта эпохи, проявлявшаяся в самых различных формах, от мистики света, которая впоследствии расцветет как в готической архитектуре, так и в серьезнейших философских трактатах, таких, как труды Робера Гроссетеста или святого Бонавентуры, до пристрастия к «gold and glitter», ко всему, что блестит и сверкает, – сказывалась на мышлении того времени, и Алиенора, несомненно, испытала на себе ее влияние, о чем свидетельствуют ее жизнь и ее склонности. Она должна была как нельзя лучше чувствовать себя в обстановке, которую Сугерий воспел в восторженных строках, играя словами, как солнце играло на драгоценных камнях, в изобилии украшавших здание…
Святилище сверкает во всем своем великолепии,
Блистает роскошью
Творение, залитое новым светом.
Праздники уже подходили к концу, когда в монастырской приемной состоялась, наконец, встреча, о которой Алиенора просила Бернарда Клервоского. Удивительная пара: безрассудная королева и святой. Алиенора сияла юной, вполне земной, вполне плотской красотой; о том, что она была красива, и о том, сколь ослепительной была ее красота, свидетельствуют современники, – правда, следуя досадному для нас обычаю того времени, они не оставили нам никаких подробностей на этот счет, удовольствовавшись сообщением, что Алиенора была perpulchra, то есть красота ее выходила за рамки обычного. Можно предположить, что она соответствовала идеалу женской красоты того времени:
Стройное тело, светлые глаза, прекрасное чело, ясное лицо, белокурые волосы, облик смеющийся и ясный…
В XII в. люди были решительно склонны к светлым тонам.
И можно считать, что ей вполне подходит описание, оставленное нам поэтом более позднего времени, Раулем де Суассоном, и вполне исчерпывающее собой средневековый идеал красоты:
У моей Дамы, как, мне кажется,
Веселые светлые глаза, темные брови,
Красивые золотые волосы,
Прекрасный лоб, хорошо посаженный прямой нос,
Кожа цвета лилий и роз,
Алый и нежный рот,
Белая, без всякого загара шея,
Сияющая белизной грудь;
Любезной, приветливой и веселой
Сотворил ее Господь Бог.
И вот теперь перед этой красавицей стоял удивительный человек, о котором, кстати, мы располагаем несколько более подробными сведениями, поскольку святость больше всего привлекала людей того времени, и они старались как можно полнее, ничего не упустив, сохранить память о земной жизни святого. Мы знаем, что Бернард тоже был красив, что в молодости он, как рассказал нам Гильом де Сен-Тьерри, был «более опасен для мира, чем мир для него». Он был высоким, с очень тонкой кожей и рыжими, быстро седеющими волосами. Но к тому времени, как состоялась описываемая встреча (Бернарду тогда уже исполнилось пятьдесят четыре года, он умер четыре года спустя), он полностью преобразился внешне под влиянием внутренней жизни; нечто подобное мы можем видеть, к примеру, на последних фотографиях отца Шарля де Фуко. «Его тело, истощенное постами и добровольными лишениями, его бледность почти лишают материальности его облик». (Вибальд из Ставело) Один из современников сказал о нем: «Это Глас». Духовный жар буквально сжег его плоть, и он, подобно Иоанну Крестителю, обратился в слово. «Один только вид этого человека, – говорили о нем, – убеждал слушателей прежде, чем он успевал открыть рот».
Тем не менее, у Алиеноры хватило самообладания на то, чтобы внятно рассказать, какая тревога ее снедает: вот уже скоро семь лет, как она живет с королем, и все еще остается бесплодной; в первые годы еще теплилась быстро угасшая надежда, но теперь она и не надеется на появление столь желанного ребенка. Поможет ли заступничество Бернарда Клервоского добиться от Неба этой милости?
Ответ монаха был таким же прямым, как его огненный взгляд, перед которым некогда отступил отец Алиеноры: «Стремитесь к миру в вашем королевстве, и обещаю вам, что Господь в своем милосердии даст вам то, о чем вы просите».
Меньше чем через год в стране, где настал мир, у королевской четы родилась девочка, которую в честь Царицы Небесной назвали Марией.
V
К Иерусалиму…
Кто называет меня алчным, тот прав,
И я жажду далекой любви;
Ибо никакая радость так меня не влечет,
Как наслаждение далекой любовью.
Джауфре Рюдель
Сколько повозок, сколько же здесь повозок! Их цепочка растянулась на многие лье; и крестьяне стекались со всех сторон, бросив сенокос, и удивлялись при виде такого огромного обоза. Могучие кони тащили тяжелые четырехколесные возы, на которых громоздились окованные железом сундуки и до следующей стоянки были свалены свернутые палатки: все это было заботливо накрыто чехлами из кожи или толстого полотна.
Но, если длина обоза и огромное количество возов, говорившее о богатстве, восхищали рейнландских крестьян, то у окружения французского короля они вызывали совершенно другие чувства: здесь с беспокойством спрашивали себя, как войско с таким обозом сможет выстоять против врага и избежать его ловушек.
Ведь этот обремененный невероятным количеством возов кортеж, в Троицын день покинувший Мец и двинувшийся к дунайским равнинам, принадлежал именно французскому королю Людовику VII и его спутникам, которые отправились в «путешествие в Иерусалим». В самом деле, в тот самый год, как родилась Мария, их первый ребенок, Людовик с Алиенорой, во время торжества в Бурже, на которое традиционно собирались во время рождественских праздников их главные вассалы, объявили о своем намерении взять крест. Людовик таким образом хотел исполнить обет, некогда данный его старшим братом, Филиппом, – тем самым, чья преждевременная кончина сделала его наследником французского престола; и, несомненно, на это решение в немалой степени повлияло и раскаяние, которое испытывал Людовик после того страшного пожара в Витри. Вскоре после торжественного открытия монастырской церкви Сен-Дени все христиане были взволнованы распространившимся известием о том, что Эдесса, прославленный город Святой Земли, попал в руки Зенги, правителя Алеппо и Мосула. За пятьдесят лет до того Эдесса была завоевана Балдуином Булонским, родным братом легендарного героя первого крестового похода, Годфрида Бульонского, при помощи многочисленных армян, которые жили в этом городе и подвергались преследованиям со стороны турок. Северная Сирия, этот пограничный фьеф латинских королевств, теперь оказалась беззащитной перед набегами Зенги, который держал в своих руках три крепости, расположенные вблизи Антиохии, чье завоевание стоило немало трудов и такой крови первым крестоносцам; этот турок, о котором ходило столько легенд, был грозным воином: говорили, будто он обязан своим рождением прекрасной амазонке, маркграфине Иде Австрийской, прославленной красавице и бесстрашной всаднице, которая взяла крест одновременно с Гильомом Трубадуром и пропала без вести во время его неудачного похода; считалось, будто она стала пленницей и попала в какой-то гарем, где и родила мусульманского героя.
Падение Эдессы представляло серьезную угрозу для латинских королевств, тем более что королем Иерусалима в то время был тринадцатилетний мальчик, юный Балдуин III, в то время еще не вышедший из-под опеки своей матери, Мелизинды. Но никто из тех, кто так тревожился об участи Святой Земли, кто так жалел армян, ставших жертвами страшной резни, учиненной турками после своей победы, казалось, не спешил снова устроить большой поход, наподобие того, какой состоялся полвека тому назад. С тех пор, как Иерусалим был отвоеван, помощь Святой Земле оказывали лишь от случаю к случаю, когда такое желание внезапно возникало у какого-нибудь младшего сына в семье, реже – у какого-нибудь знатного сеньора, и он – из личного благочестия или из любви к приключениям – давал обет отправиться в крестовый поход, вербовал солдат, созывал других паломников, движимых тем же желанием, и предоставлял себя в распоряжение латинского королевства, которое к тому времени, несмотря на непрочность своего положения, казалось прочно установившимся.
Потому всех удивило решение, которое принял Людовик, король Франции. Он был первым королем, намеревавшимся отправиться в паломничество с оружием в руках. Жоффруа, епископ Лангра, произнес в Бурже проповедь, в которой предложил баронам последовать примеру своего сюзерена, но они неохотно отвечали на этот его призыв. Сам папа – в то время им был Евгений III, ранее принадлежавший к ордену цистерцианцев, – не без колебаний поддержал это намерение. А затем, поскольку он не мог посвятить себя проповеди крестового похода, поручил заняться этим Бернарду Клервоскому. История сохранила для нас знаменитый эпизод, разыгравшийся на Пасху следующего года, 31 марта 1146 г. Подмостками для него стали холмы Везеле: именно там святой Бернард с кафедры, сооруженной для него и для короля, обратился с пламенным призывом к сеньорам и толпам народа, заполнившим уступы склонов. Поначалу слышалось лишь, как ветер треплет флаги и знамена, но вскоре раздался рев толпы, требовавшей крестов, и с таким рвением, что запасенных крестов не хватило, и монаху пришлось делать недостающие из собственного одеяния. Его речь вызывала посреди христианской Европы бурю воодушевления, которой запомнился Клермонский собор и которая заставила подняться великую волну первого крестового похода.
Алиенора взяла крест одновременно с мужем. В противоположность тому, что представляется многим, в этом поступке не было ничего особенного. Напротив, во время первого похода многие сеньоры брали с собой жен. Именно так поступили Балдуин Булонский, герой Эдессы, и Раймунд Сен-Жильский, один из предводителей похода. Собственно говоря, если сын Раймунда носил имя Альфонс-Иордана[9]9
Jourdain – Иордан.
[Закрыть], то именно потому, что был окрещен в водах реки, некогда слышавшей голос Иоанна Крестителя: он родился как раз во время этого легендарного похода в Иерусалим. Брошенная жена, разлученная с мужем, затворница, ожидающая его возвращения за стенами мрачного замка, – этот образ прочно закрепился в представлении многих, но он не более правдив, чем прочие глупости, унаследованные от классических времен, для которых средневековое варварство было неоспоримой догмой.
Собственно говоря, если некоторые из современников порицали Людовика VII, то вовсе не за то, что он взял с собой в крестовый поход жену, – заметим, что его правнук, Людовик Святой, столетие спустя поступит точно так же, – дело в том, что Алиенора, как и другие участвовавшие в походе и, вероятно, последовавшие ее примеру женщины – графиня де Блуа, Сивилла Анжуйская, графиня Фламандская, Федида Тулузская, Флорина Бургундская, – не собирались на время этого долгого странствия отказываться ни от услуг своих камеристок, ни от хотя бы относительного комфорта. Вот потому и потребовалось такое невероятное количество повозок, тянувшихся по равнинам Центральной Европы в сторону Венгрии. Слишком много возов, – перешептывались воины; слишком много возов, – вторили им священники. И, пока первые прикидывали, какие поражения может потерпеть войско, обремененное таким количеством лишних ртов и громоздким обозом, служители Церкви бичевали распутство, которое неминуемо должно было стать следствием всего этого. Слишком много служанок и горничных, – а это означало, что с наступлением темноты в лагере непременно будет раздаваться подозрительный смех, и тени будут неминуемо скользить украдкой среди палаток. Тем самым нравственности людей, пустившихся в это благочестивое предприятие, будет нанесен урон. И, как заметил не боявшийся сомнительных каламбуров летописец, в этих лагерях не было никакого целомудрия (castra non casta).
Алиенора, вне всяких сомнений, принимала самое деятельное участие в приготовлениях к походу. Просматривая собрания местных грамот, мы с удивлением отмечаем, как много пуатевинцев принимало участие в этом походе. Вероятно, причиной этого стало то, что Алиенора сама объехала личные владения. И ее пример, вероятно, был убедительным. Она сумела собрать деньги и увлечь людей. Многие гасконские и пуатевинские рыцари взяли крест, в том числе и Жоффруа де Ранкон, владелец того самого замка Тайбур, где Алиенора провела свою первую брачную ночь. Среди крестоносцев можно было увидеть многих рыцарей, чьи имена не раз всплывут в истории рядом с Алиенорой: там были Сальдебрейль де Санзе, которого она называла своим коннетаблем, Гуго де Лузиньян, Ги де Туар и множество других. Все бароны западной Франции откликнулись на призыв святого Бернарда. Вполне возможно, что среди сеньоров, составлявших свиту графа Тулузского, был и нежный поэт Джауфре Рюдель, сеньор Блайи, певец «далекой любви», – в смысл этого выражения пыталось проникнуть не одно поколение комментаторов; уже в XIII в. биограф Джауфре не вполне понимал, что он имел в виду, говоря об «amor de lonh». Он предполагал, что Джауфре был влюблен в принцессу Триполитанскую. «Только из любви к ней, – говорил этот автор биографии Рюделя, – князь Блайи взял крест». Наверное, никто никогда не узнает, что именно хотел сказать трубадур, столь упорно твердивший во всех своих стихах о «далекой любви», но само выражение, со всеми различимыми в нем ностальгическими и таинственными оттенками, чудесно передает глубокое стремление, которое владело той эпохой, тягу к далеким приключениям, жажду недостижимой и непостижимой любви, желание выйти из тесных рамок ближайшего и сегодняшнего. «Amor de lonh…»
Маркабрюн также присоединил свой голос к голосам проповедников. Он сочинял прекрасные песни о крестовом походе, умудряясь и здесь своим красноречием ужалить короля Франции:
«Горе королю Людовику, из-за которого мое сердце оделось в траур», – говорил он устами юной девы, оплакивающей расставание с уходящим в крестовый поход возлюбленным, в своей, впрочем, очень красивой поэме «A la fontana del vergier». До чего же он был злопамятным, этот Маркабрюн!
Во время этих поездок по Аквитании Алиенора не раз подтверждала привилегии монастырей – несомненно, в обмен на финансовую поддержку похода. Так, мы видим, – и это первое документальное свидетельство подобного рода, – что она сделала дар аббатству Фонтевро. Крестоносцы имели обыкновение перед началом похода просить монахов и монахинь молиться за них, и при этом делали пожертвования. Жест Алиеноры, которым она накануне похода закрепила за монастырем доход от пуатевинских ярмарок в размере пятисот су, стал первым из целого ряда дарений, которыми будет отмечено в дальнейшем ее существование: каждое из важных событий ее жизни так или иначе отзовется в аббатстве Фонтевро. Возможно, в тот, первый раз она не придала этому особого значения, поскольку ее дар ничем не отличается от тех, какие получили от нее по тому же случаю Монтьернеф, аббатство Сен-Мексен, церковь Милости Божией и многие другие. Но, когда перед нами проходит вся ее жизнь, этот дар приобретает символическое значение: вскоре должно было произойти нечто для Алиеноры очень важное.
Должно быть, Алиенора и сама это чувствовала: мы видим много свидетельств того, какое большое участие она принимала в приготовлениях к этому походу; кажется, она с нетерпением и радостью ждала его начала. Несомненно, она с готовностью шла навстречу опасностям, среди которых смерть была едва ли не наименьшей; путь в Святую Землю был к тому времени устлан трупами всех тех, рыцарей или бедняков, кто вступил на него во времена первых походов, когда у неверных было отвоевано общее достояние христиан. И ни для кого не были тайной страдания, которые пришлось вытерпеть всем, кто от начала до конца проделал это паломничество с оружием в руках, – три года пути по пустыням или коварным горным ущельям, с неразлучными спутниками: голодом, жаждой и турецкими стрелами. Но их самопожертвование принесло им славу перед Богом и людьми, и нынешние паломники тоже стремились к этой небесной или земной славе, искупавшей в их глазах все непомерные страдания.








