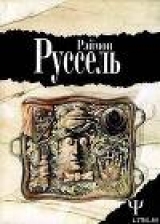
Текст книги "Locus Solus"
Автор книги: Рэймон Руссель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Вольтер глядел на нее с невыразимой тоской, отчего его худое лицо стало еще более землистым, чем обычно. От сильного волнения черты его судорожно сжались, и при звуке священных слов услышанной им рядом молитвы с уст его бессознательно, словно песнопение, сорвалось латинское слово «Dubito» – «Я сомневаюсь».
Сомнение это наверняка касалось его собственных учений об атеизме. Можно было подумать, что при виде отрешенного выражения лица молящейся девушки на него снизошло некое озарение, а близость смерти, чему в его возрасте удивляться не приходилось, навеяла страх перед вечными муками, охвативший все его существо.
Состояние это длилось всего мгновение. Ироническая улыбка вновь мелькнула, и начатая фраза была завершена язвительным тоном.
И все же потрясение состоялось, и Фридрих навсегда запомнил тот краткий и бесценный миг, когда Вольтер испытал мистическое озарение.
№ 7. Событие, прямо касающееся гения Рихарда Вагнера.
17 октября 1813 года, Лейпциг, перемирие, объявленное между французами и союзными войсками, прервало начатую накануне смертельную битву, которой суждено было с таким ожесточением продолжаться еще два следующих дня.
На одной из празднично украшенных улиц скопилась толпа бродячих артистов и торговцев, которых армии всегда тянут за собой. Многие горожане слонялись тут же среди солдат, и весь этот оживленный люд своей пестротой напоминал ярмарочную сутолоку.
В толпе весело носилась стайка молодых женщин, которых явно привлекала мишура передвижных лавок и забористость призывов продавцов. Одна из женщин несла на руках ребенка, которому было тогда уже около пяти месяцев, и ребенком этим оказался не кто иной, как Рихард Вагнер, родившийся в Лейпциге 22 мая того же года.
Неожиданно какой-то длинноволосый старик, стоявший у столика, издали окликнул молодую мать, предлагая ей погадать на ребенка. Чистый француз и по своему виду, и по выговору, человек с трудом изъяснялся на ломаном немецком, вызвавшем смех веселых женщин. Видя, что дело выгорело, он слегка подзадорил их, и вся стайка подлетела к нему.
Напустив на себя таинственный вид, старик посмотрел на ребенка и взял со столика стакан, донышко которого было устлано ровным и тонким слоем металлических опилок.
Не выпуская стакан из рук, он предложил молодой матери трижды щелкнуть пальцем по его краю и думать при этом о судьбе своего ребенка. Женщина в точности выполнила наставления старика и кончиком указательного пальца троекратно стукнула по стакану, продолжая все так же крепко прижимать к себе свою живую ношу. Колдун же бережно поставил стакан на столик, водрузил на нос огромные очки и стал рассматривать порошок, уже не лежавший на донышке таким же ровным слоем.
Внезапно он отшатнулся с изумленным видом, взял из стоявшего перед ним письменного прибора листок белой бумаги и стал переписывать на него пером рисунок, образовавшийся на металлическом порошке. Затем он протянул бумагу женщине, и та увидела на ней написанные по-французски два слова «Будет ограблен», достаточно разборчивые, хотя буквы лежали вкривь и вкось, а линии их были неровными то же время гадальщик обратил внимание женщины на то, что слова на бумаге полностью совпадали с рисунком, возникшим на порошке после постукивания по стакану и принявшим вид двух переписанных им слов.
Старик перевел женщине значение этой короткой фразы и на ломаном немецком силился объяснить ей ее значение. По его словам, в этом лаконичном выражении, как в зародыше, лежали самые высокие судьбы гениев искусства и применяться оно могло только к какому-нибудь великому новатору, способному дать жизнь собственной школе и плеяде подражателей.
Счастливая мать, хоть и не была суеверной, щедро заплатила прорицателю и забрала листок бумаги, храня его как бесценный документ. Позднее она отдала его сыну и рассказала ему о том приключении, в центре которого он оказался когда-то, сам того не осознавая.
Под конец жизни Вагнер, чье творчество, наконец приобретшее известность и признание, уже привлекало к себе стаи хищных и бесстыдных плагиаторов, с удовольствием рассказывал эту историю и признавался, что столь счастливо осуществлявшееся предсказание оказывало на весь его творческий путь благотворное влияние, принося ему некое суеверное подбадривающее начало во все бесконечные годы неудач и бесплодной борьбы, когда им часто овладевало отчаяние.
Остановив выбор на столь различных сюжетах, Кантрель заказал фигурки-поплавки, снабдив заказ точными указаниями.
В основание каждой из них должен был быть заложен тщательно рассчитанный грузик для удерживания их в состоянии постоянного равновесия, а внутри самой фигурки выполнялась покрытая специальным металлом полость для улавливания и выделения химическим путем дополнительной порции кислорода, растворенного в слюдяной воде. Когда полость эта постепенно наполнялась газом, поплавок должен был сам по себе всплывать на поверхность. Однако по достижении определенного давления ровно через десять секунд после рассчитанного начала всплытия кислород, содержащийся в крошечном чреве, должен был приподнять на мгновение его верхнюю часть – подобно крышке – и вырваться в виде пузырька наружу, приведя при этом в действие некий механизм, заставляющий фигурку выполнять движения, соответствующие изображаемому ею сюжету. После полного выхода воздуха фигурка должна была снова погрузиться на дно под собственным весом, пока вновь образовавшийся в ее внутренностях кислород не принудит ее к очередному всплытию.
Некоторые из этих автоматических игрушек требовали оснащения чрезвычайно тонким механизмом. Например, для появления светового знака на лбу Пилата нужно было включать на время вделанную в него маленькую электрическую лампочку. Слово «Dubito», в котором был сосредоточен весь смысл истории, касавшейся Вольтера, должно было срываться с приоткрытых уст великого мыслителя в виде множества воздушных пузырьков, выстраивавшихся в нужном для слова порядке в результате хитроумного деления на части одного пузыря, вылетавшего из фигурки. Для воссоздания кровавого пота механизм, приспособленный к карлику Пиццигини, должен был при каждом движении выпускать из внутреннего резервуара через множество отверстий определенное мизерное количество специального красного порошка, который на мгновение окрашивал воду, а затем полностью растворялся в ней и исчезал. В стакане лейпцигского шарлатана поддельный металлический порошок должен был принимать требуемую форму слов при трех щелчках пальца по нему.
По завершении всех этих сложных приготовлений Кантрелю пришла мысль, что он еще не пробовал свою воду. И тогда он приготовил небольшой запас ее для дегустации и испытания ее свойств на себе.
После того как ее наливали в бокал, слюдяная вода, похожая на жидкий алмаз, казалась предназначенной для утоления пересохшего от жажды горла. С первых же глотков Кантрель обнаружил ее исключительную легкость и тончайший вкус. Он с жадностью выпил кряду три стакана искрящегося напитка, ввергнувшего его, ввиду избытка в воде кислорода, в состояние необычайной веселости.
Тогда Кантрелю захотелось узнать, какие ощущения он испытает, если добавить к опьянению водой действие вина.
Он велел подать себе пьянящего сотерна и стал наполнять им бокал, из которого только что пил и на дне которого осталось немного воды. Метр замер, увидев, как первые же капли вина превратились в плотную массу. Слюдяная вода придала свой чудесный блеск вновь образовавшемуся в ней твердому телу. Оно же благодаря своему собственному цвету засверкало, подобно солнцу. Состав воды не позволял жидкости смешаться, а в результате резкого обогащения кислородом бордоское вино затвердевало.
Кантрель ощупал винную массу пальцами и нашел ее весьма податливой. Он тут же забыл о намеченном испытании двойного опьяняющего действия, так как в голове его возник новый план, основанный на мягкости и солнечном блеске обращенного в плотную массу вина. Незадолго до этого он начал опыты по акклиматизации, пытаясь, в частности, приучить некоторых морских рыб к пресной воде. Его единственным методом работы в ходе этого эксперимента было постепенное обессоливание морской воды, немедленно прекращавшееся, если у подопытных рыб отмечалось хоть какое-то нарушение жизнедеятельности. Таким образом, для успешного проведения опыта требовалось большое терпение и немалое умение.
Первый успех был достигнут во время работы с морскими коньками, акклиматизация которых на тот момент уже полностью закончилась. Трое из десяти погибли во время опасного эксперимента, а оставшиеся в живых семеро теперь совершенно спокойно, без тени неприятия или возмущения жили в пресной воде.
Кантрель решил выпустить их в «алмазный» сосуд и запрячь в шар из затвердевшего сотерна, который благодаря искрящейся слюдяной воде будет выглядеть как настоящее миниатюрное солнце, а вся композиция станет похожа на эдакую водную колесницу Аполлона.
Для начала и для пробы он бросил в граненый сосуд одних лишь морских коньков, чтобы посмотреть, не оказывает ли на них вредного влияния новая среда. Уже через секунду стало видно, как эти грациозные создания, испытывающие, вероятно, сильные неприятные ощущения, стремятся найти выход из аквариума.
Кантрель быстро понял весьма простую причину охватившей их тревоги и мысленно упрекнул себя за то, что не предусмотрел ее заранее. Дело оказалось в том, что сверкающая жидкость прекрасно подходила для дыхания чисто земных существ, но содержала слишком много кислорода для созданий водных, и для морских коньков находиться в ней было так же опасно, как и на воздухе.
Метр поспешил выловить их сачком и вернуть в уже привычный им аквариум.
Затем, думая о том, как бы избежать огромного недостатка, грозящего разрушить все его планы, он решил проделать в груди каждого конька сквозной канал, через постоянно открытые отверстия которого будет выходить избыток кислорода, образующегося в организме морских коньков.
Эксперимент был проведен для начала на одном коньке и увенчался полным успехом: легкие пузырьки находили себе выход через новые отверстия свища, как только конька погружали в слюдяную воду, и он не испытывал теперь никаких неудобств, а спокойно плавал в искрящейся жидкости. В обычной воде края сквозного канала не испытывали давления избыточного воздуха изнутри и полностью смыкались на отверстии, обеспечивая его совершенную герметичность.
Когда встал вопрос о том, какую упряжь приспособить для задуманного им сказочного экипажа, Кантрель решил использовать для этого тесемочки, пропущенные через свищ, сделав их достаточно длинными для закрепления на винном шаре.
Поскольку, по замыслу Кантреля, колесница должна была совершать грациозные круги внутри «алмаза», ему захотелось еще более украсить зрелище и провести первые в мире скачки коньков. Если придать тесемочкам достаточную эластичность, то самые быстрые из коньков будут обгонять остальных лишь на совершенно незначительное расстояние – столь слабы их силы.
Для того же, чтобы легче можно было различать скакунов, Кантрель остроумно покрасил каждую тесемочку в один из семи цветов радуги, подобно тому, как на обычных скачках различают жокеев по цветным знакам. Предварительно он провел пробные заезды, дабы установить скорость каждого конька и расположить их в порядке от самого слабого к самому сильному. Итак, все они получили свои тесемки, раскрашенные в строгом соответствии с цветами радуги.
Размышляя о том, как прикрепить эти странные вожжи к желтому шару, Кантрель подумал, не сможет ли электричество, передаваемое слюдяной водой всему, что в ней находится, создавать определенное притяжение между затвердевшим вином и каким-либо токопроводящим материалом, которым можно было бы оснастить концы вожжей. После нескольких более или менее удачных проб он соединил оба конца каждой тесемки в тонкой блестящей оболочке, сделанной из металла, выбранного среди многих за показанные им качества, которая при достаточном сближении с миниатюрным солнцем в слюдяной воде обязательно прилипнет к нему.
Стараясь точно обозначить дистанцию скачек, Кантрель погрузил в сосуд недалеко от Дантона простую маленькую трубку, изготовленную с точно рассчитанной плотностью и держащуюся поэтому неподвижно на небольшой глубине, не пытаясь всплыть или опуститься ниже. Чтобы пройти полный круг, упряжка должна была обогнуть, двигаясь справа от центра «ипподрома», с одной стороны неподвижную трубку, а с другой – группку фигурок-поплавков. Фигурки же эти в силу их количества и неизбежной несогласованности при чередующихся подъемах и спусках будут обозначать – по крайней мере, одна из них – какую-либо точку верхней зоны, в которой будут проходить скачки.
Рассудив, что зрелище внезапно затвердевающего сотерна при его соприкосновении со слюдяной водой достойно интереса, метр решил вливать вино в последний момент, а также научить морских коньков самих лепить солнечный шар, разминая своими левыми боками, которые он выровнял с помощью слоя воска одинакового с ними цвета, падающие в воду куски вина.
Когда дрессировка достигла желаемых результатов и куски стали склеиваться воедино, не оставляя при этом следов соединения, он научил своих питомцев разом отпускать шар, выстраиваться тут же в одну шеренгу, чтобы металлические оболочки тесемок, прилипая рядышком к миниатюрному светилу, останавливали его медленное погружение и образовывали правильную и равномерно одетую упряжь.
В конце концов он выдрессировал их так, что по сигналу они начинали скачки, пытаясь обогнать при этом друг друга. Финишем служила трубка, а наблюдать за завершением скачек лучше всего было через одну из граней «алмаза» в черный кружок, нарисованный на ней.
Коньки с тесемками выучены были выстраиваться в свою необычную упряжку в точности так, как располагаются цвета настоящей радуги. А так как беговые лошади должны иметь клички, то Кантрель, дабы не напрягать память болельщиков, дал своим семи чемпионам просто латинские номера от фиолетового цвета к красному. Обладатель фиолетовой тесемки – «Первый», самый медленный из группы, располагался на левом краю шеренги, получая таким образом постоянное преимущество, тогда как самый резвый скакун – «Седьмой», напротив, помещался крайним справа со своей красной тесемкой, самой длинной изо всех. Идеальная пропорция, соблюдавшаяся между величиной преимущества, данного каждому из пяти средних скакунов в соответствии с их физическими возможностями, обеспечивала полную справедливость незначительной форы, основанной на необычной необходимости для запряженных в единую «колесницу» коньков вечно оставаться на одном и том же месте в шеренге.
Во все то время, что Кантрель рассказывал, Хонг-дек-лен без конца играл с медленно влекомым морскими коньками солнечным шаром.
Закончив рассказ, Кантрель обошел «алмаз», закатал правый рукав, сделал знак Фаустине, чтобы она посадила кота себе на плечо, а сам снова поднялся по стремянке.
Опустив руку в воду, он подхватил карликовое солнце, легко отделил его от металлических присосок и уложил рядом с бутылкой сотерна.
Один за другим морские коньки перекочевали из сосуда в сачок, а из него в аквариум, где из их груди наконец-то перестали вырываться воздушные пузырьки.
Кантрель положил руку на шею Фаустине, а она, откинув голову назад, ухватилась руками за край сосуда, в то время как Хонг-дек-лен терся о ее щеку. Подтянувшись на руках, она оттолкнулась ногами в воде и, поддерживаемая крепкой рукой за затылок, выбросила тело из воды, стала коленями на крышу сосуда и спустилась по никелированной лесенке вслед за хозяином, прома-кивавшем платком руку, чтобы поскорее опустить рукав.
Кот спрыгнул с ее плеча на землю и умчался в сторону виллы, а наша группа, к которой присоединилась Фаустина, снова неторопливо тронулась в путь. В ответ на наши опасения, что она может простудиться, танцовщица сказала, что это ей совершенно не грозит, так как по выходе из сосуда в ее организме наступала длительная и сильная тепловая реакция.
Глава четвертая
Пройдя вместе с Кантрелем всю эспланаду, мы вступили на прямую пологую дорожку из желтого песка, проложенную посреди ярко-зеленых газонов, которая постепенно переходила в горизонтальную поверхность и огибала двумя рукавами, как река огибает остров, гигантскую прямоугольную стеклянную клетку размером примерно десять метров на сорок.
Состоявшая исключительно из огромных стекол, закрепленных на ажурном железном каркасе, где властвовали только прямые линии, прозрачная конструкция походила геометрической простотой своих четырех стенок и потолка на чудовищную коробку без крышки, уложенную на землю вверх дном так, чтобы ее главная ось совпадала с аллеей.
Достигнув своеобразного устья, образуемого расходящимися рукавами аллеи, Кантрель взглядом пригласил нас взять правее и, обогнув угол хрупкого сооружения, остановился.
Вдоль всей стеклянной стенки, к которой мы приблизились и теперь все вместе направлялись, стояли люди.
Нашим глазам предстала находившаяся отдельно на расстоянии меньше метра от него своего рода квадратная камера, в которой отсутствовали, чтобы ее можно было лучше разглядеть, потолок и та из четырех стен, которая должна была бы располагаться против нас. Камера похожа была на некую полуразрушенную часовенку, используемую как место заключения. Посередине правой от нас стены камеры было проделано окно с двумя кривыми поперечинами, разнесенными далеко друг от друга и несущими насебе ряд вертикальных прутьев с заостренными концами. На выщербленных плитах пола валялись два тюфяка: один побольше, другой поменьше, и стояли низенький стол и табуретка. В глубине, у стены, виднелись остатки алтаря, от которого отвалилась лежавшая рядом разбитая статуя Богородицы, из рук которой выпал при падении, правда, не пострадав, младенец Иисус.
Какой-то человек в меховом пальто и шапке, который прохаживался, как мы успели заметить издалека, в огромной клетке и которого Кантрель назвал одним из своих помощников, при нашем приближении вошел через пролом в часовенку, откуда он только что вышел, направляясь в правую сторону.
В камере на большем из двух тюфяков с задумчивым видом лежал седовласый мужчина.
Некоторое время спустя он как бы на что-то решился, встал и, осторожно ступая левой ногой, что, по-видимому, причиняло ему боль, направился к алтарю.
Возле нас послышались всхлипывания, рвавшиеся из уст женщины в черной вуали, опиравшейся на руку юноши. Умоляюще протягивая руку к часовне, она окликала:
– Жерар… Жерар…
Человек, к которому она взывала, подошел к алтарю, подобрал с пола младенца Иисуса, уселся на табуретку и положил фигурку себе на колени.
Затем кончиками пальцев он достал из кармана круглую металлическую коробочку, щелкнул ее откидывающейся крышкой и стал набирать из нее какую-то розовую мазь, которую тут же наносил на лицо статуэтки.
Женщина в черной вуали, словно имея в виду эти странные действия мужчины, немедленно обратилась к плачущему и согласно кивающему юноше:
– Это было ради тебя… чтобы тебя спасти…
Напряжено вслушиваясь, будто опасаясь какой-то неприятной неожиданности, Жерар быстро орудовал рукой, и в скором времени все каменное лицо, шея и уши фигурки были покрыты розовой мазью. Закончив дело, Жерар уложил изваяние на меньший тюфяк, под левой стеной, на несколько мгновений задержал на нем взгляд, отправил в карман коробочку с мазью и подошел к окну.
Благодаря несколько выгнутой наружу форме решетки он смог наклониться и посмотреть вниз.
Движимые любопытством, мы сделали несколько шагов вправо и увидели противоположную сторону стены. Выполненное с небольшим уступом назад окно находилось между двумя проемами, дальний из которых служил вместилищем и платформой для пестрой кучи отбросов, в которой видны были между прочим бесчисленные остатки груш. Не обращая внимания на кожуру, Жерар протянул руку сквозь прутья и подобрал все валявшиеся в куче остатки мякоти груш вместе с семечками и черенками. Собрав «урожай», он вернулся в часовню, а мы перешли на прежнее место.
Быстрыми движениями его пальцы отделили от черенков и от семечек оставшиеся на грушах волокна, выглядевшие теперь, как толстые беловатого цвета шнурки, и он стал терпеливо разделять их на нити.
С помощью этих кусков, которые он связывал мелкими узелками по несколько штук, чтобы сделать их длиннее, с жарким упорством, помогавшим ему преодолеть явный недостаток сноровки, Жерар принялся за диковинную работу, напоминавшую действия ткача и портного.
В конце концов хитроумное плетение, постоянно направляемое на создание некоего выпуклого изделия, завершилось тем, что в руках умельца оказался чепчик для младенца, весьма похожий на настоящий. Он одел его на выкрашенную розовой мазью статуэтку, которая лежала лицом к стене, укрытая по голову одеялом, и теперь, когда не стало видно ее каменных волос, была похожа на младенца.
Жерар тщательно собрал с пола отходы от своего труда и выкинул их в левое окно. После всего этого на какое-то мгновение он показался нам рассеянным и отсутствующим. Вскоре, однако, к нему вернулась ясность ума, он резко опустил левую руку от локтя, сложил пальцы вместе, и с запястья в ладонь правой руки соскользнул золотой браслет в виде цепочки с подвешенным на ней старинным экю.
Жерар принялся царапать монету о выступавшее внутрь камеры острие железного прута на окне, собирая золотой порошок на подставленную к пруту левую руку. На столе, контрастируя с четырьмя современными книжками карманного формата, лежала очень толстая старая книга, на обложке которой ясно читалось написанное большими буквами название: «Erebi Glossarium a Ludovico Toljano».
Рядом стоял кувшин, полный воды, и валялся стебель цветка.
Сунув браслет в карман, Жерар придвинул табурет к столу, стоявшему довольно близко от нас, прямо у стены с окном, и уселся перед «Словарем Эребия», расположил его поудобнее и только перевернул картонный переплет, потянувший за собой и ровно легший вслед за ним форзац. Показалась абсолютно чистая первая страница или ложный форзац.
Жерар взял стебель, лишенный цветка, словно ручку, и слегка обмакнул один конец его с длинным шипом в воду, почти до краев наполнявшую кувшин. Затем кончиком шипа он принялся писать на белом листе словаря, по-прежнему проявляя некоторую тревожную спешку. Написав несколько строк он взял со все так же вытянутой левой руки щепотку золотого порошка и постепенно ссыпал его, потирая указательным и большим пальцами, на свежую невидимую запись, которая, впрочем, сразу же окрасилась.
Под написанным большими буквами названием «Ода» проявилась строфа из шести александрийских стихов.
Выполнив столь несложную задачу, он пересыпал то, что осталось от щепотки порошка, снова на левую руку, еще раз обмакнул в кувшине конец стебля с шипом и продолжал писать. Вскоре на листке была написана новая строфа, которую он тоже посыпал золотом.
Так, в чередовании царапанья и посыпания порошком, на странице до самого низа выстраивались одна за другой новые строфы.
Дождавшись, когда порошок высохнет, Жерар приподнял на миг листок, скатав его наполовину, и ссыпал тем самым к левому полю все золотые песчинки, не впитанные водой, затем поднял словарь почти вертикально, и все они перекочевали на еще неистраченную кучку золота на левой руке, терпеливо ожидавшую ее наполнения. При этом маневре до тех пор расплывчатые золотые строки освободились от всего лишнего, что только отвлекало глаз, и предстали во всей своей чистоте.
Жерар легонько опустил словарь на стол и, действуя одной рукой, подложил стопкой четыре книжки карманного формата под переднюю сторону переплета так, чтобы он лег горизонтально на опору из книг. Перевернутый вслед за этим ложный форзац обнаружил свою нетронутую обратную сторону, которую Жерар прежним способом покрыл стихотворными строками из золотых букв, тоже вскоре высохших до последней.
И на этот раз лист был осторожно перегнут, свободные золотые песчинки соскользнули по правому полю, прежде чем были тонкой струйкой ссыпаны обратно в запас в результате очередного подъема тяжелой книги.
После того как Жерар совершил, подобно человеку без руки, еще один маневр, стопка книжек переместилась вправо и поддерживала уже другую сторону переплета, на которой ровнехонько лежали форзац и ложный форзац, на левую же сторону были перевернуты все страницы словаря, и теперь чистая сторона ложного форзаца мало-помалу заполнялась новыми строфами, вписываемыми смоченным в воде шипом и посыпаемыми золотом.
Убедившись, что написанное высохло, и собрав по обычаю золотые песчинки, Жерар перевернул страницу и уже на ее обратной стороне закончил и подписал свою оду, все строфы которой внешне не отличались друг от друга.
На левой руке у него оставалось лишь несколько драгоценных песчинок, и он стряхнул их на пол.
Когда полностью высохла и поставленная внизу страницы золотая подпись, Жерар ссыпал золотой песок уже просто на стол, закрыл свой фолиант и снова положил на прежнее место.
После длительной паузы, в течение которой, как казалось, его ум был занят усиленной работой, Жерар протянул руку к стопке маленьких книжек, взял верхний томик в мягкой обложке с названием «Эоцен».
Он отодвинул в сторону словарь, перелистал книжку до конца и остановился на первой странице указателя, расположенного в две колонки. На ней напечатаны были в виде списка слова и цифры, по которым он водил пальцем, пересчитывая их одно за другим. На следующих страницах указателя Жерар продолжил, ничего не пропуская, вести свой быстрый счет при помощи пальца и, дойдя до последнего слова на одной из них, быстро встал.
Он вновь направился к окну в дальнюю от нас сторону, вынул из кармана свой золотой браслет, снова поскоблил монету об уже служившее для этого острие решетки, собрал на этот раз очень мало золотого порошка и не мешкая снова уселся у стола перед книгой.
На той странице, где закончился его счет, он в обычной своей манере, но только большими печатными буквами, написал сверху посередине: «Время в заключении», над левой колонкой – «Актив», а над правой – «Пассив». Последнее слово написано было задом наперед и без какого-либо усилия, благодаря геометрической простоте составляющих его букв. После этого Жерар перечеркнул действительно напечатанное слово, которым начиналась первая колонка.
Порции порошка хватило как раз на то, чтобы позолотить новые слова и черту. Когда вся влага на бумаге высохла, Жерар на миг поставил книжку на ребро и с нее ссыпались песчинки, не впитанные водой.
Поставив палец под цифру, следующую сразу же за зачеркнутым словом, он стал листать книгу к началу, словно искал какую-то страницу.
В этот момент Кантрель провел нас немного вправо вдоль огромной прозрачной клетки и предложил остановиться перед красиво отделанным католическим алтарем, обращенным к нам лицевой стороной за стеклянной стенкой. Там же находился священник в ризе, стоявший перед дарохранительницей. Выполнявший какое-то дело помощник в зимней одежде направился от алтаря к помещению Жерара и на какое-то время скрылся в нем.
На плите алтаря, справа, покоился роскошный металлический ларец, на вид очень древний, на передней стороне которого над замочной скважиной выполненными из гранатов буквами было начертано: «Недостойный венец золотой свадьбы». Священник подошел к столу, поднял крышку ларца и извлек из него довольно большие простые тиски в виде обруча, приводившиеся в действие гайкой с «барашком».
Спустившись по ступенькам алтаря, он подошел к очень старым мужчине и женщине, вставших при его приближении со стоявших бок о бок спинками к нам парадных кресел. Мужчина был во фраке и без шляпы, а слева от него стояла женщина в глубоком трауре с черной шалью на голове, зябко кутавшаяся в тяжелое пальто. И у него, и у нее на руках не было перчаток.
Повернув стариков лицом к лицу, священник крепко соединил их правые руки, одел на них обруч и потихоньку начал закручивать гайку, специально держа ее так, чтобы мы видели.
Однако мужчина с улыбкой протянул левую руку и, оттеснив ею священника от металлических ушек гайки, стал сам весело и с лукавой намеренной силой вращать ее, в то время как расчувствовавшаяся женщина принялась всхлипывать.
Захваты обруча, очевидно, были сделаны из какого-то легкого материала, имитирующего железо, ибо они поддавались, не причиняя никакой боли переплетенным правым рукам.
Наконец мужчина отпустил гайку, и священник долго раскручивал ее, а затем снова поднялся по ступенькам алтаря, направляясь к ларцу, а пожилая пара, разжав руки, вновь уселась в кресла.
Двигаясь все так же вдоль гигантской клетки, Кантрель подвел нас к находившемуся в нескольких метрах роскошно убранному помещению, откуда в сторону пожилой пары поспешно вышел помощник в мехах, который перед этим зашел туда, пройдя за алтарем.
Совсем рядом со стеклянной стеной, за которой мы находились, видна была устроенная вровень с полом сцена, напоминавшая своим убранством богатую залу средневекового замка. Благодаря отсутствию рампы помощник мог свободно входить и выходить через переднюю часть сцены.
В глубине сцены, чуть слева, у наискось поставленного стола напротив отдернутого занавеса с видневшимся за ним большим окном боком сидел какой-то сеньор с голой шеей и делал пометки в книге. На затылке его начертаны были готическим шрифтом буквы Б, Т, Г.
Посредине площадки, у самой задней стены, в нескольких шагах справа от сеньора лицом к закрытой двери стоял человек с пергаментом в руке. Костюмы обоих актеров хорошо сочетались с декорациями, изображавшим давно минувшие времена.
Не меняя позы и не прекращая делать пометки, сеньор произнес с подчеркнутой иронией:
– Вправду… расписка?… А как подписана она?…
Голос его доходил до нас благодаря тому, что в стеклянной стене в двух метрах от земли проделано было круглое отверстие величиной с тарелку, заклеенное с внешней стороны шелковой бумагой.
Прямо под этим слуховым окошком стояла одетая в черное девушка. Она внимательно слушала и пожирала глазами говорившего.
На заданный вопрос человек с пергаментом кратко ответил:
– Там – лошадь.
В тот самый момент, как прозвучало это слово, сеньор растопырил пальцы, неожиданно резко повернул голову вправо и тут же поднес обе руки к затылку, словно почувствовав боль, о которой он, впрочем, быстро забыл. Затем он встал и нетвердой походкой подошел к человеку, а тот поднес к его глазам свой пергамент, на котором под словом «Расписка» располагались несколько строк, оканчивавшиеся каким-то именем над грубо нарисованной лошадью с короткой гривой.






