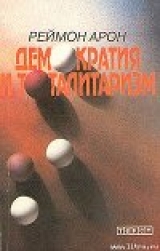
Текст книги "Демократия и тоталитаризм"
Автор книги: Реймон Арон
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
XI. Разложение французского режима
В предыдущей главе я рассматривал проблему разложения конституционно-плюралистических режимов. При этом я исходил из трех гипотез: саморазрушение, растущая уязвимость режима, отсутствие эволюции в строго определенном направлении. В конечном счете я остановился на третьей из этих гипотез. Не то чтобы в этих режимах нет зародышей разложения, но тенденции к укоренению не менее сильны, чем тенденции к распаду. На политическом уровне конституционно-плюралистические режимы ослабляются благодаря своему «износу», а укрепляются благодаря привыканию к ним. Когда национальное единство под угрозой, всегда остается шанс на прекращение конфронтации с революционерами. По мере развития индустриальное общество создает себе дополнительные трудности в управлении, но рост уровня жизни позволяет массам мириться с существующим строем. Конституционным режимам приходится искать политических вождей, отстаивающих парламентаризм и преисполненных решимости поддерживать конституционность. Вопреки росту материализма, граждане вынуждены проявлять преданность сообществу. Ни одно из этих условий нельзя назвать невыполнимым; вместе с тем нет никаких гарантий, что они будут выполнены. Такой выход носит строго отвлеченный характер, он не дает возможности предвидеть будущее конституционных режимов. Вполне вероятно, что капиталистический режим исчезнет, даже если его разложение не представляется неизбежным, и то же, видимо, относится к конституционно-плюралистическим режимам.
Сегодня я буду рассматривать французский режим. Я не претендую на то, чтобы учить вас, как надо мыслить или действовать, чтобы улучшить наш режим, предсказать, каким он станет. Моя цель в том, чтобы, не выходя за пределы социологического анализа, подвергнуть проверке понятия, изложенные в предыдущих лекциях.
В последней главе я говорил, что французский режим – разложившийся. Вы вправе возразить мне: откуда это известно?
Отвечу. Во-первых, режим можно назвать разложившимся уже потому, что все говорят об этом. В стране, где газеты ежедневно твердят, что режим дошел до крайней точки распада, несомненно, царит кризис. В подобных случаях мнение – это фактическое состояние дел. В какой-то мере мнение – составная часть действительности. Представления граждан о режиме – составная часть и его достоинств, и недостатков. Режим, о котором плохо отзываются все граждане, можно отнести к разложившимся уже потому, что он не может заручиться поддержкой управляемых.
Во-вторых, отказ граждан поддерживать режим выражается в значительном количестве голосов, отдаваемых партиям, которые заявляют о своей враждебности режиму. На выборах 1951 года таких голосов было 46 %, включая голоса голлистов, которых можно тоже считать крайней оппозицией. Если бы на выборах в 1951 году применили систему голосования 1946 года. Коммунистическая партия и Объединение французского народа (РПФ)[24] получили бы более чем абсолютное большинство мест в парламенте. На последних выборах, в 1956 году, доля голосов, которые я обозначаю здесь специальным термином «революционные» (имея в виду действительно враждебных режиму), был чуть ниже, но все же около 40 %. Режим, против которого на каждых выборах голосует 40–50 % избирателей, отмечен типичным признаком разложения: граждане утратили веру в своих правителей.
Третья, очевидная для всех специфическая черта разложения – неустойчивость правительств. Как известно, французским правительствам не удается продержаться в среднем и года. Все французы согласны, что недолговечность правительств – одна из коренных причин терзающих нас кризисов.
Эти три признака разложения, как мне кажется, – факт действительности, а не просто субъективная оценка.
Сразу же встает еще один вопрос: насколько серьезно разложение политического режима?
Ответ совсем не очевиден. Если ограничиться и опытом, напомню, что с демократической, экономической и социальной точек зрения 1945–1958 годы представляют собой в истории Франции период быстрого подъема. Смертность, особенно детская, сократилась, что говорит о распространении гигиены, промышленное производство росло быстрыми темпами: в течение последних четырех лет ежегодный прирост составлял около 10 %. Такой показатель и во Франции, и за ее пределами встречается редко. Весьма консервативное ранее сельское хозяйство ныне обновляется: за десять лет, прошедших после второй мировой войны, урожайность зерновых выросла на столько же, как и за предыдущие полвека. Во многих отношениях период между 1945 и 1958 годами, чуть ли не единодушно характеризуемый как пора упадка, стал периодом экономического и социального прогресса. Это не противоречит тезису о разложении политического режима: разложение само по себе еще не может считаться фактором, который определяет все прочие. И при неустойчивых правительствах нации бывают сильными. А упадок нации вполне возможен и при устойчивом правительстве.
Каковы же последствия разложения политического режима?
Судя по высказываниям самих французов, результаты разложения в основном следующие.
1. Руководство экономикой во многих отношениях было неудовлетворительным и вызвало инфляцию (между 1945 и 1949 годами), а затем и кризисные явления в зарубежных финансовых операциях: дважды, в конце 1951 и в конце 1957 годов, валютные запасы практически истощались, что вынуждало Францию обращаться за иностранной помощью.
2. Из-за слабости государственной власти группам давления удается вырывать у государственного аппарата и политических деятелей привилегии, несовместимые с общим благом. Есть фирмы, которые сохраняют устаревшие производства и предприятия за счет получаемых от органов власти субсидий.
3. Разложение нашего режима привело к так называемому распаду Французской Империи, или Французского Союза, к «утрате» Индокитая, Туниса и Марокко.
Против первых двух упреков не приходится (правда, с определенными оговорками) возражать: французской экономикой можно бы управлять и получше. Есть связь между слабостью власти и инфляцией 1947 и 1948 годов, кризисом зарубежных финансовых операций 1951 или 1957 годов. Как именно соотносится разложение нашего режима с финансовыми кризисами? Это можно обсудить. Периоды, когда государственными финансами управляли плохо, более многочисленны, чем благополучные времена в этой области; инфляция, девальвация не придуманы республикой и демократией. Многие французские короли умели извлекать выгоду из операций с национальной денежной единицей. В прошлом такие операции были сложнее, но результаты почти всегда сходны.
Что касается уязвимости государства перед группами давления, то этот упрек справедлив. Но неужели ситуация во Франции хуже, чем в любой иной стране с аналогичным конституционно-плюралистическим режимом? Известно, что при любом таком режиме граждане имеют право и возможность выражать и защищать свои частные интересы. Отсюда – опасность, что защитники частно-общественных интересов сумеют добиться от органов власти не всегда правомерных преимуществ. Намного ли сильнее группы давления во Франции, чем за ее пределами? Проводить сравнение – задача трудная, поскольку здесь требуется кропотливое исследование. Достоверно известно, что во Франции о давлении куда больше разговоров, что некоторые случаи получают широкую огласку. Например, в части алкогольных напитков – по традиции во Франции их производство чрезмерно. Однако подобные явления присущи всем западным странам. Эти промахи в сфере управления не помешали развитию и обновлению французской экономики после второй мировой войны.
Остается последний упрек. Французская печать громче всего кричит об утрате Французского Союза, или Французской Империи.
Но и здесь напрашивается замечание: со времени второй мировой войны все европейские страны так или иначе утратили часть того, что они считали своей империей. Великобритании, предположим, удалось уйти более элегантно, чем Франции. Но если независимость колонии – потеря для метрополии, выходит, что и те страны, где режим единодушно признается хорошим, тоже сталкиваются с подобными злоключениями. Допустив, что наши государственные институты повинны в этих прискорбных событиях, добавим: грешны не одни они.
Наши замечания не противоречат очевидному: во Франции слишком много несогласия и неустойчивости. Перейдем ко второй части анализа.
Вначале отметим, что есть связь между избытком несогласных, настроенных на революционный лад, и неустойчивостью правительств. В теперешней палате, где чуть менее 600 депутатов, около 200 «не соблюдают правил игры». Опять-таки это специальный термин, под которым я разумею безразличие к тому, как функционирует режим, неизменную враждебность к курсу, который он проводит. По-английски я бы сказал: in-game deputy и out-game deputy[25]. 400 депутатов из 600 могут образовать правительственное большинство. Надежно большинство, численность которого существенно превышает половину. Поэтому в теперешней палате единственно возможная коалиция должна охватывать крайне левое и крайне правое крыло депутатов, которые соблюдают правила игры. Вместе должны действовать и социалисты и независимые. Так складывается правительственное большинство. Но кабинет, в котором сосуществуют представители несогласных между собой партий, изначально расколот, а значит – слаб и неэффективен.
У этого принципа есть и другое следствие: группы крайнего меньшинства в правительственной коалиции занимают непропорционально большое место. Если для большинства требуются почти все депутаты из тех, кто «соблюдает правила игры», то нужны и 70 крайне революционных депутатов, причем безразлично, левые они или же правые. Однако дань, уплачиваемая «яростным», неблагоприятно сказывается на эффективности и устойчивости правительства.
Такое объяснение теперешней неустойчивости неоспоримо, но оно не приносит удовлетворения. Во времена, когда численность не входивших в коалицию депутатов была невелика, французские правительства все же не достигали устойчивости. Схема анализа, которую я только что набросал, применима и к нынешнему Национальному собранию, но для изучения всего феномена в историческом плане она не годится. Неустойчивость правительств проявлялась еще до того, как стало возрастать число голосов, отдаваемых коммунистам, пужадистам[26] и экстремистам. Возникает ощущение, что неустойчивость правительств – один из признаков любого французского парламентского режима.
Отсюда—два вопроса: 1) с чем связана постоянная неустойчивость правительств при всех известных нам парламентских режимах? 2) с чем связана численность революционно настроенных противников правительства в нынешней Франции?
Что касается структурных причин неустойчивости правительств, то, на мой взгляд, они объясняются так: это – совокупность черт, присущих французской партийной системе.
1. В самом деле, во Франции всегда было много партий.
2. Французские партии не похожи одна на другую. Для одних – коммунистической и социалистической—обязательна дисциплина голосования. Прочие – например, радикальная или партия независимых – кичатся своей недисциплинированностью. Довольно легко добиться эффективности от системы партий, где каждая подчиняется дисциплине, можно обеспечить и функционирование системы партий, где ни одна этого не делает. Сочетание же дисциплинированных и недисциплинированных становится еще одним фактором неустойчивости, ибо для создания правительства нужна изначальная договоренность между партиями, а затем – согласие каждого из депутатов.
3. Причина возникновения партий и их опора – традиционные идеи. Когда появляется какая-либо жизненно важная проблема, в партии нередко наступает разброд. Социалисты обычно подчиняются дисциплине, но, когда речь заходит о Европейском оборонительном сообществе (ЕОС)[27], внутрипартийные фракции начинают нападать друг на друга и единство парламентской группы трещит по всем швам.
4. К межпартийным и внутрипартийным столкновениям надо добавить ряд конфликтов, доставшихся в наследство от прошлого. В палате депутатов, например, это антагонизм левых и правых (причем смысл обоих терминов не вполне ясен) плюс противоречия внутри тех и других.
Все это – характерные черты французского парламентского механизма. В момент выдвижения кандидата на пост президента республики механизм этот напоминает американский внутрипартийный механизм. Палата депутатов делится на группы – и небольшие, дисциплинированные, и недисциплинированные. В каждой из них обозначаются новые конфликты, личное соперничество сочетается с соперничеством идей, коалиции непременно временные и при первом же случае распадаются.
Эти структуры можно наблюдать в США каждые четыре года при выдвижении кандидата на пост президента. Тогда и разыгрывается сцена, которая сравнима с постоянными событиями во французском парламенте. Изучая действия американской партии при выдвижении кандидата, французские обозреватели находят их не слишком благовидными. Сама структура подобных действий предполагает методы, не всегда отвечающие правилам fair play[28]. Однако после выдвижения кандидата вокруг него объединяются все, чтобы добиться его избрания. Потом единство может быть вновь нарушено. Во французской системе этот механизм действует и после образования совета министров, что лишь способствует неустойчивости кабинета.
До сих пор мы ограничивались простым описанием. Если мы намерены пойти дальше, зададимся вопросом: откуда такая структура? Тут мы сталкиваемся с многочисленными объяснениями, ни одно из которых, несмотря на его справедливость, нельзя счесть удовлетворительным.
Все они справедливы, поскольку призваны показать, что мы, французы, занимаемся политикой именно таким образом в силу нашей природы. Все они неудовлетворительны, так как в объяснении нам хочется найти способ преобразования мира. Каждое объяснение основано на таком множестве явлений современности и прошлого, что может в определенной мере вызвать ощущение безнадежности. Вся французская действительность получает свое выражение в режиме.
Объяснения бывают трех видов: с опорой на экономическую и социальную структуру, или на исторические традиции, или, наконец, на национальную психологию, вплоть до психологии галлов в описании Юлия Цезаря.
1. Многочисленность и пестрота партий объясняются неоднородностью самой Франции. Почти вся промышленность сосредоточена в нескольких регионах; на западе ее почти нет, и там сохраняются традиционные формы общественной жизни. Влияние партий по провинциям весьма неравномерно. Даже если одна из них представлена во всех провинциях, то электорат ее по регионам не одинаков, и единство каждой партии весьма непрочно. Социалист из северного промышленного региона не похож на своего единомышленника с юга, где развито виноградарство, или на социалиста с запада Франции, где на политическую борьбу по-прежнему влияют религиозные мотивы. Социальная неоднородность Франции, таким образом, выдвигается в качестве одной из причин многопартийности и недисциплинированности партий. МРП—Народное республиканское движение – вновь стало региональной партией, большинство приверженцев которой сосредоточено на западе, на северо-востоке и на севере. А ведь в 1945–1946 годах оно добивалось сенсационных успехов.
Необходимое условие для существования в стране ограниченного числа крупных, сплоченных партий – достаточная социально-экономическая однородность самой страны. Чрезмерное разнообразие непременно скажется на партиях.
2. И правые, и левые помнят о бурных перипетиях политической истории Франции за последние полтора столетия. Каким бы ни был французский режим после 1789 года, он неизменно вызывал споры и никогда не получал единодушной поддержки всей страны. Стоит разразиться кризису (независимо от его причин), как существование режима оказывается под вопросом. По-прежнему могут разгореться страсти в некоторых регионах, где полемика, например, о светском характере образования уходит корнями далеко в прошлое. Французы по-прежнему враждуют из-за революции[29], дела Дрейфуса, перемирия и Освобождения[30], и кроме того, не утихают страсти вокруг экономической деятельности и политики в заморских территориях, а еще идут ожесточенные спорил о последствиях возможных политических курсов.
3. Почему так происходит? Перейдем от традиции к психологии. Французы всегда были склонны превращать экономические, социальные и технические дискуссии в идеологические конфликты. Экономика – предмет скучный. Помимо трех десятков специалистов, никого и никогда не волновал теоретический вопрос о контроле над инфляцией, зато дискуссия в светском характере образования или такой отвлеченной проблеме, как возможность во имя государственных интересов осудить невиновного, способна вызвать бурные волнения. И подобные споры могут длиться бесконечно. Согласие невозможно в принципе, ибо у каждой стороны есть веские доводы, а отвлеченный характер дискуссии позволяет вести ее вечно. Де Мадарьяга написал книгу «Французы, англичане, испанцы». Он полагает, что французы склонны руководствоваться доводами разума, и анализирует их политические обычаи. Он отмечает, что французы проявляют заметное пристрастие к теоретическим проблемам. Причем более резко сталкиваются мнения как раз по тем проблемам, материальные последствия которых весьма ограниченны. В качестве символического примера де Мадарьяга приводит дело Дрейфуса.
Эти три группы объяснений приводят порознь или в сочетаниях. А вывод всегда один: коль скоро Франция такова, нечего удивляться, что такова ее политика.
Я довольно сжато изложил объяснения. Каждое из них может быть развернуто. Приемы мышления, характер действий, исторические традиции, социально-экономическая структура получают свое выражение в том или ином политическом курсе. При сочетании всех подходов удалось бы, вероятно, прийти к пониманию – что, однако, ни в коей мере не помогает ответить на вопрос, что же необходимо делать.
Откуда же столько несогласных?
Все три группы объяснений в точности воспроизводят схему, применяемую для анализа неустойчивости правительств: ссылки делаются на социально-экономическую структуру, традиции, психологию.
1. Французский рабочий класс никогда по-настоящему не был составной частью режима. Из-за медлительного экономического развития в прошлом веке он так и не получил выгод, которые связаны с развитием экономики. Результатами развития экономики рабочие лишь начинают пользоваться. Однако в силу общей ситуации, связанной с инфляцией, рабочий класс этого еще не осознал. Наконец, он по традиции сохраняет враждебное отношение к государству, готовность к бунту против капиталистической системы.
Что касается еще одной части избирателей – правой оппозиции, – то социально-экономическое объяснение их противодействия государству выглядит примерно так.
Численность пужадистов на последних выборах объясняется в основном быстрыми темпами экономического развития за последние десятилетия. Любое ускоренное расширение хозяйственной деятельности ставит в трудное положение те группы населения, которым не удается к нему приспособиться. Быстрые темпы означают неравномерность развития. Одним регионам или группам достаются большие выгоды, другим – меньшие. В стране, где царит застой, многие мирятся с привычным ходом дел. Но при подъеме экономики группы, не получающие своей доли, восстают против всего происходящего. Разумеется, недовольные винят не экономическое развитие, а налоговую систему, которая всегда вызывает недовольство.
Социально-экономическое объяснение двух форм экстремизма в нынешней Франции сводится, таким образом, примерно к следующему: не став в прошлом полноценной частью государства, французский рабочий класс в своем большинстве сохраняет враждебность режиму, но оппозиция есть и на другом краю политического спектра, так как расширение хозяйственной деятельности прямо или косвенно ударяет по группам, плетущимся в хвосте этого движения.
2. Историческое объяснение. Вот уже более полутора веков французы не перестают обвинять свой режим. Они будут делать это и дальше, так как их мышление политизировано. Режим становится бесспорно приемлемым лишь со временем. Устойчив он только после того, как его перестают оспаривать. В Великобритании и в США режим устойчив, потому что отождествляется с национальными ценностями. Численность революционно настроенных противников определена исторически обусловленными взглядами, и потому французы тщетно ищут конституцию, которая обеспечит более успешное ведение государственных дел и приведет к национальному единству.
3. В такой же мере уместно и третье объяснение неустойчивости правительства и критики политического режима – ссылка на характер народа. Можно ли найти что-нибудь более возбуждающее ум, чем споры, к тому же идеологические, о режиме, о достоинствах и недостатках любой конституции?
Теперь перейдем к совсем другим вопросам – к реформам.
Объяснения, которые мы набросали, не приводят к выработке плана конституционной реформы. Более того, они могут вообще отбить охоту к проведению реформ. Чем настойчивее говорится о численности факторов, определяющих функционирование режима, тем сильнее искушение заявить: для частичных перемен необходимы перемены радикальные.
В недавней статье экономиста Пьера Юри я нашел весьма любопытную фразу, которая могла бы послужить примером типичных ошибок, совершаемых без злого умысла самыми выдающимися умами и без нарушений логики.
«Как можно забывать, – пишет Юри, – что вся разница между Веймарской и Боннской республиками, между дробностью партий и их укрупнением, между повторяющимися правительственными кризисами и долговечностью кабинетов основывается на двух небольших условиях: конструктивном вотуме недоверия и внесении корректив в пропорциональное представительство – партии, которым в масштабе всей страны досталось менее 5 % голосов, уже не получают ни одного места в парламенте?»
При буквальном истолковании этой формулировки вся разница между Веймарской и Боннской республиками основывается на двух статьях конституции. Согласно одной из них, правительство нельзя свергать, не договорившись о том, кто же возглавит следующий совет министров, а согласно другой, партии, которым досталось менее 5 % голосов, не могут быть представлены в парламенте.
Возможно, оба условия полезны, но судить об этом на примере Боннской республики трудно.
Там сложилось такое положение, что оба условия не имели серьезного значения. Христианско-демократическая партия постоянно была столь значительно представлена в парламенте, что она неизменно контролировала события. Личность канцлера вызывала глубокое уважение коллег. Даже если бы и не существовало правило пяти процентов, – характерной для Веймарской республики раздробленности партий теперь не было бы.
Главное различие между обеими республиками заключается в том, что при боннском режиме революционно настроенные избиратели немногочисленны, крупные партии едины и сплоченны, а психология нации полностью изменилась. Я мог бы назвать и другие изменения.
Следовательно, ошибочно утверждать, будто главное различие между обеими республиками сводится к двум статьям конституции. Может быть, они когда-нибудь и сыграют какую-то роль. Но представьте, что многие революционно настроенные депутаты во французском парламенте преисполнены решимости сбросить правительство. Они проголосуют без колебаний за того, кто сменит нынешнего председателя совета министров, даже если новый кандидат вызывает у них неприязнь. Что может помешать коммунистам и пужадистам объединиться хотя бы в ходе одного голосования? Обойти конституционные правила всегда возможно.
Какие же реформы в состоянии изменить действие французской Конституции? Вероятно, замена парламентской формы президентской либо изменение закона о выборах и правила, по которому можно в рамках нынешнего режима распустить парламент.
Против президентского правления выдвигают два довода: если бы такое правление оказалось выходом из положения, то депутатам, согласным голосовать за него, пришлось бы создавать парламентское большинство. Такое большинство возможно лишь в исключительных обстоятельствах. Получается заколдованный круг. Надо, чтобы парламентарии сумели решиться на такую реформу или не протестовали против нее.
Улучшит ли президентская система действие государственных институтов? Может быть. Но с окончательным выводом лучше не торопиться. Само по себе президентское правление еще не придает особой действенности исполнительной власти, которая стабильна, но не эффективна. Президенту США обеспечено четырехлетнее пребывание у власти (что не всегда отрадно), однако он также нуждается в одобрении и поддержке со стороны членов палаты представителей и сенаторов, которые избираются по иному принципу. В США, да и в любой президентской системе, большинство в парламентских структурах не всегда то же самое, что привело к избранию президента республики. Требуется взаимодействие между исполнительной властью одной политической ориентации и властью законодательной, ориентация которой может быть другой. В США такое взаимодействие каким-то образом устанавливается: в политической жизни американцы прагматичны, экстремизм им не свойствен, к идеологиям их особенно не тянет, и партии там не подчинены строгой дисциплине. Любой депутат или сенатор голосует без особой оглядки на распоряжения своей партии. Но возможны ли точно такие же условия в парламенте французского типа? Партийная недисциплинированность – главное условие существования американской системы, но это не относится, например, к системе британской. Что произошло бы у нас, когда в одних партиях – строгая дисциплина, а в других – никакой? Исполнительная власть, вероятно, была бы устойчивой, а вот президент, на которого пал выбор партий, поскольку он не задевал ничьих интересов, непременно оказался бы слабым, как это уже случалось со множеством наших глав правительств. Энергичный президент республики, вступивший в столкновение с законодательным собранием, вызвал бы конституционный кризис: это нередко бывает в странах с президентской системой.
Возможные в рамках нынешнего режима реформы, о которых бесконечно спорят в печати и парламенте, не могут иметь большого значения. Можно представить себе реформу избирательной системы, направленную на уменьшение численности революционно настроенных депутатов. Во Франции это не обязательно те депутаты, которые хотят революции. Они лишь не могут сосуществовать с системой в ее нынешнем виде. Избирательная реформа легко могла бы уменьшить численность революционно настроенных депутатов вдвое, не меняя при этом численности голосующих за них избирателей. Представить себе подобные хитрости не трудно. Во имя организации более дисциплинированных или менее сектантски настроенных партий можно лелеять и более честолюбивые мечты – о сочетании частично мажоритарной системы голосования с частично пропорциональной, как это принято в Германии.
Второй вид предполагаемых реформ затронул бы принцип вотума доверия и правила роспуска парламента.
Кое-кто предлагает автоматический роспуск парламента в случае правительственного кризиса. Другие возражают, что автоматический роспуск парламента способен принести больше зла, чем добра. Подобная мера имеет смысл в английской системе, где выборы приводят к четким и ясным результатам, но не в режиме, при котором соотношение сил между партиями не слишком меняется от выборов к выборам. Встречное возражение: положение об автоматическом роспуске парламента позволит избежать правительственных кризисов, правительства станут более долговечными. Но одной долговечности мало. Правительства должны иметь возможность действовать. Положение об автоматическом или полуавтоматическом роспуске парламента обеспечивает шанс на большую долговечность – но не на большую эффективность правительства.
Остается еще один вопрос, вызывающий страстные споры: как, не предлагая смены правительства или аналогичных мер, добиться, чтобы революционно настроенные противники власти не могли блокироваться против правительственных решений? Было предложено множество проектов такой системы. Однако трудности остаются: нужно, чтобы правительство имело право ставить вопрос о доверии, когда иного выхода при проведении через парламент определенного законопроекта нет. Но если вопрос о доверии ставится слишком назойливо, возникает опасность, что правительство будет сброшено при обсуждении малозначащих проблем. По сути, ни одна такая реформа в обозримом времени не сможет коренным образом преобразовать действие французского режима.
Но тут никак не обойтись без последнего вопроса: действительно ли конституционная реформа – первый из жизненно важных вопросов для Франции? Страна переживает политический кризис, причина которого известна: алжирская война. Навязчивое стремление провести конституционную реформу приведет либо к забвению этого, либо к поискам иного по своей сути правительства, которое сможет проблему решить.








