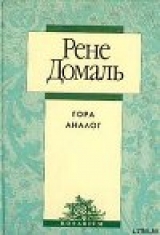
Текст книги "Гора Аналог"
Автор книги: Рене Домаль
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕСНЬ ГОРЕ-АЛЬПИНИСТОВ
Чай пахнет алюминием, и на троих – один тюфяк, так, правда, было потеплее, но на рассвете воздух злее и режет бритвой, не жалея, а ониушли впотьмах.
Мои часы. остановились, твои как-то заблудились, все мы липкие от меда, над нами небо все в комках, мы вышли, раз уж день настал, камнями горы плакали и лед уже желтел; в руке холодной – тяжесть, во фляге – керосин, а канат замерз, ну чисто ерш колючий трубочиста.
Хижина была – блоховник, храп стоял безжалостный, ухи мои отморожеты, на турпан похожа ты; мне карманов не хватило, в косточке чернослива компас ты мой все ж нашла; ножик свой позабыл я, но зато у тебя щетка есть, и какая! – зубная она у тебя.
Двадцать пять тысяч часов восходим, а все еще будто внизу, шоколад гололедом мы заедаем, пробуя на зуб; пробуксовываем мы в сыре, что-то едкое есть в эфире, и в двух шагах ничего не видать.
Постой чуть-чуть, себя побереги, смотри, как мой рюкзак резвится, мне сердце болью надрывая, он прыгает, стремится вниз; провалы, что-то булькает, и воздух черно-сиз; там – железные дороги, на моренах – рюкзаки, десять тысяч, – ломать ноги приходите, дураки; правда, нет, не рюкзаки, это пропасти повсюду, да еще торчат оттуда гнусные подножки. Вот какой во мне хавос, дай мне на спину свой воз, будем очень осторожны с косточками черных слив.
Трещина ледника от смеха лопнет, провалимся мы до подбородка, вот и пространство в серых тонах; улуаром мы кошиблись, зубы свои о колени расшибли, жандармы к себе нас не подпускают; в памяти моей – блок, консоль – в желудке, жажда мучает целые сутки, а два пальца у меня синие, как незабудки.
И какая там вершина – только баночка сардинок, наши отзывы заклинило – развязывали вечность. А потом влетели в стадо коров. «Ну как прогулка, ничего?» – «Чудесно, мсье, но трудно».
Кроме того, я получил письмо от Эмиля Горжа, журналиста. Он обещал одному своему приятелю приехать к нему в августе в Уазанс, чтобы одолеть спуск с центрального пика Мейже по южному скату – известно, что камень, там брошенный, долетает до скалы за 5–6 секунд, – после чего Горж должен был написать репортаж о Тироле, но не хотел, чтобы наше отправление откладывалось из-за него, к тому же, оставаясь в Париже, он был готов печатать в газетах все рассказы о путешествии, которые мы ему пришлем.
Соголь в свой черед получил очень длинное и взволнованное, проникновенное и патетическое послание от Жюли Бонасс, она разрывалась между желанием последовать за нами и жаждой беззаветно служить своему Искусству; это была самая большая жертва, которую ревнивый бог Театра когда-либо требовал от нее… быть может, она бы и взбунтовалась, уступила бы своей эгоистической склонности, но что сталось бы с ее милыми молодыми друзьями, души которых она взялась опекать?
– Ну как? – сказал Соголь, прочитав мне это письмо. – Слезами не обливаетесь? Вы так огрубели, что ваше сердце не тает, как восковая свеча? Что до меня, так мысль, что Жюли Бонасс еще, быть может, в сомнениях, взволновала меня настолько, что я тут же написал ей, чтобы она не колеблясь оставалась со своими душами и возвышенностями.
Ну и Бенито Чикориа тоже написал Соголю. Внимательное изучение его письма, в котором было двенадцать страниц, привело нас к выводу, что он тоже решил не отправляться в поход. Его резоны были представлены серией «диалектических триад» поистине архитектурного порядка. Бесполезно излагать их вкратце; надо было бы воспроизвести всю его конструкцию, а это занятие опасное. Процитирую первую попавшуюся фразу: «Хотя триада возможное-невозможное-авантюра может рассматриваться как легко феноменологизируемая, а стало быть, феноменологизирующая по отношению к первой онтологической триаде, она является таковой лишь при условии – честно говоря, эпистемологическом – диалектического reversus'а, предискурсивная сущность которого есть не что иное, как принятие исторической позиции, имплицирующее практическую реверсивность процесса, ориентированного онтологически, – это имплицированность, подтвердить которую могут только факты». Разумеется, разумеется.
В общем, четыре бздуна, как в народе говорят. Нас осталось восемь. Соголь мне признался, что был готов к некоторой подлости. Именно поэтому он притворился во время нашего общего собрания, что не закончил расчеты, хотя они у него были сделаны. Он не хотел, чтобы точное местонахождение Горы Аналог было известно кому-нибудь кроме участников экспедиции. Позже мы убедимся, что предосторожности эти были в высшей степени разумны, и даже были недостаточными; если бы все в точности соответствовало выводам Соголя, если бы один момент не ускользнул от его внимания, эта недостаточная предосторожность могла привести к чудовищным катастрофам.
Глава третья, ОНА ЖЕ ГЛАВА, РАССКАЗЫВАЮЩАЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
Импровизированные матросы. – Сами взялись за дело. – Исторические и психологические подробности. – Измерение мощности человеческо ймысли. – Что веемы умеем считать не больше чем до четырех. – Эксперименты в подтверждение этого факта. – Наши припасы. – Портативный огород. – Искусственный симбиоз. – Обогревающие устройства. – Западные врата иморской бриз. – Прощупывания. – Легенда о людях-пустышках и Горькой розе. – Вопрос валюты.
ДЕСЯТОГО октября мы погрузились на «Невозможную». Как вы помните, нас было восемь: Артур Бивер, владелец яхты; Пьер Соголь, глава экспедиции; Иван Лапе, лингвист; братья Ганс и Карл; Джудит Панкейк, живописец высокогорий; моя жена и я. Меж собой мы договорились, что никому из наших близких о подлинной цели экспедиции ничего не скажем: ведь либо все решат, что мы сумасшедшие, либо, что более вероятно, подумают, что мы рассказываем байки, чтобы скрыть настоящую цель нашего похода, насчет которой будут строить самые разные предположения. Мы объявили, что собираемся исследовать некоторые острова Океании, горы Борнео и австралийские Альпы. Каждый из нас сделал все распоряжения на случай длительного пребывания вне Европы.
Артур Бивер счел своим долгом предупредить экипаж яхты о том, что экспедиция будет очень продолжительной и, возможно, рискованной. Он уволил, выплатив им приличное содержание, тех из своих людей, у кого были жены и дети, и оставил только трех, самых отчаянных, не считая капитана, ирландца, великолепного навигатора, для которого «Невозможная» стала его вторым телом. Мы, все восемь человек, решили сами заменить недостающих в команде матросов, что, впрочем, было лучшим способом интересно провести время в долгой экспедиции.
Мы вовсе не были созданы для того, чтобы стать моряками. Некоторые страдали морской болезнью. Те же, кто, только свесившись всем телом над ледниковой пропастью, полностью обретал себя, с большим трудом выносили длительное скольжение маленького кораблика по текучим склонам. На пути к самому высшему и желанному часто приходится преодолевать самое нежелательное.
Всякий раз, когда ветер благоприятствовал нам, яхта, у которой было две мачты, шла под парусом. Ганс и Карл в конце концов научились чувствовать воздух, ветер и парусину всем своим телом так же хорошо, как они ощущали скалу и веревку. Обе наши женщины совершали всевозможные чудеса, готовя еду, а отец Соголь при случае подменял «капитана», определял наше местоположение, делил обязанности, помогал нам ориентироваться на яхте и успевал за всем приглядывать. Артур Бивер драил палубу и следил за нашим здоровьем. Иван Лапе приобщился к механике, а я стал сносным помощником кочегара. Необходимость всем вместе напряженно работать связала нас друг с другом так тесно, словно мы были одной семьей, да еще такой, которая попадается не часто. В то же время мы представляли собой сборище самых разношерстных характеров и личностей, и, сказать по правде, Иван Лапе порой находил, что мисс Панкейк непоправимо бесчувственна к слову; Ганс исподлобья смотрел на меня всякий раз, когда я пытался высказываться по поводу наук, называемых «точными», и считал, что я отношусь к ним без должного уважения; Карл с трудом выносил необходимость работать рядом с отцом Соголем, от которого, по его выражению, «пахло негром», когда тот потел; довольная физиономия доктора Бивера всякий раз, когда он ел селедку, вызывала у меня раздражение; но именно этот милый Бивер, и как врач, и как хозяин яхты, следил за тем, чтобы никакая зараза не разъела ни плоть, ни душу экспедиции. С какой-нибудь незлобивой шуткой он подоспевал всегда вовремя и как раз в тот момент, когда двое из нас приходили к убеждению, что другой не так ходит, не так говорит, не так дышит или ест.
Если бы я рассказывал эту историю, как обычно принято рассказывать истории или как каждый сам себе рассказывает свою историю, то есть говорит только о самых славных моментах и, опираясь на них, строит непрерывную воображаемую сюжетную линию, – я бы оставил в тени эти незначительные подробности и написал бы, что все восемь барабанов наших сердец с утра до вечера и с вечера до утра звучали в унисон под палочками одного желания, – или сочинил бы еще какое-нибудь вранье в том же роде. Но огонь, подогревающий желание и воспламеняющий мысль, никогда не горел больше нескольких секунд; все остальное время мы старались помнить о нем.
По счастью, трудности наших повседневных забот, когда у каждого был свой строгий круг обязанностей, напоминали нам о том, что все мы здесь – по своей доброй воле, что все мы друг другу необходимы и находимся на яхте, иными словами, что обиталище наше – временное, предназначенное для того, чтобы доставить нас куда-то; и если кто-то об этом забывал, другой тотчас напоминал ему.
По сему случаю отец Соголь рассказал нам, что некогда он провел опыт по измерению возможностей человеческой мысли. Я воспроизведу только то, что запомнил из его рассказа. В ту пору я сомневался, стоит ли все это воспринимать буквально, и, верный своему любимому занятию, восхищался в Соголе его умением изобретать «абстрактные символы»: вопреки обычно принятому пониманию, нечто абстрактное символизировало вполне конкретную вещь. Но позже я пришел к выводу, что эти представления об абстрактном и конкретном большого значения не имели, и, как я понял, читая Ксенофана Элейского или даже Шекспира, либо это нечто существует, либо его нет вообще. А Соголь, стало быть, решил «измерить мысль»; не в том смысле, в каком это понимают психотехники и те, кто манипулирует тестами: они ограничиваются сравнением способа, которым пользуется индивидуум в том или ином роде своей деятельности (впрочем, зачастую не имеющей никакого отношения к мысли), с тем способом, каким средний индивидуум того же возраста осуществляет тот же род деятельности. В нашем случае речь шла о возможности измерить мысль в ее абсолютном значении.
– Эта возможность, – говорил Соголь, – чисто арифметическая. В самом деле, всякая мысль – это способность разделить целое и осознать его частности; ведь числа – не что иное, кик разделенные части единства, то есть деления чего-то непременно целого. Наблюдая за собой и за другими, я заметил, сколько именно частностей человек может и в самом деле удержать в мыслях, не разлагая и не искажая их; сколько последовательных следствий из одного положения он может осознавать одновременно; сколько однородных включений, сколько звеньев от причины до следствия, от цели до способа; и никогда это число не было больше четырех. И даже больше того, цифра 4 соответствовала невероятным усилиям, на которые я не часто бывал способен. Если хотите, я проведу с вами несколько подобных опытов. Следите внимательно за тем, что я буду говорить.
Чтобы понять нижесказанное, необходимо самым добросовестным образом проделать предложенный эксперимент. Это потребует определенного внимания, терпения и спокойствия.
И Соголь продолжал:
– 1) Я одеваюсь, чтобы выйти; 2) я выхожу, чтобы ехать на поезде; 3) я еду на поезде, чтобы добраться до своей работы; 4) я работаю, чтобы зарабатывать деньги на жизнь; попробуйте добавить пятое звено, и я уверен, что по крайней мере одно из первых трех ускользнет от вас.
Мы проделали этот опыт: так оно и оказалось – и даже нас еще переоценили.
– Возьмите для примера другой тип последовательности: 1) бульдог – собака; 2) собаки – млекопитающие; 3) млекопитающие – позвоночные; 4) позвоночные – животные; я иду еще дальше: животные – живые существа… но вот я уже забыл про бульдога; если я напомню себе о «бульдоге», забуду о «позвоночных»… Во всех видах последовательностей или логических делений вы будете констатировать тот же феномен. Вот почему мы постоянно принимаем случайность за сущность, следствие за причину, способ за цель, наше судно за постоянное место жительства, наше тело и наш разум за самих себя, а самих себя – за нечто вечное.
Трюмы маленького кораблика были наполнены провизией и самыми разными инструментами. Бивер подошел к проблеме запасов не только методично, но и изобретательно. Пяти тонн самых разных продуктов должно было хватить нам восьмерым и четырем членам команды для полноценного питания в течение двух лет, учитывая, что никакого пополнения во время пути не будет. Искусство пропитания – очень важная составная часть альпинистской науки, и доктор поднял ее на недосягаемую высоту. Бивер изобрел «портативный огород», весивший не больше полукилограмма; это был ящик из слюды, наполненный синтетической землей, где высеивались отборные семена с поразительно быстрым произрастанием; в среднем через день каждое из этих устройств обеспечивало пищевой рацион зелени для одного человека – и еще там выращивалось несколько изумительных грибочков. Он также предпринял попытку воспользоваться современными методами тканевого культивирования (вместо того чтобы выращивать быков, можно заняться непосредственным культивированием бифштексов) – но ему удалось создать лишь громоздкие и очень ненадежные установки, способные производить только нечто тошнотворное, и он от своих попыток отказался. Проще было вообще обойтись без мяса.
Зато, взяв себе в помощники Карла, Бивер значительно усовершенствовал дыхательные и обогревающие устройства, которыми он пользовался в Гималаях. Придумано все было очень изобретательно. Маска из эластичной ткани плотно подгонялась к лицу. Выдыхаемый воздух по трубочке шел к «портативному огороду», где хлорофилл молодых побегов, стимулированный жестким ультрафиолетом, выделял углерод из углекислого газа и восполнял необходимый человеку дополнительный кислород. Деятельность легких и эластичность лицевой маски поддерживали легкий поддув, и устройство было отрегулировано таким образом, чтобы обеспечивать оптимальный процент углекислого газа во вдыхаемом воздухе. Растительность ктомуже поглощала выдыхаемый водяной пар, и тепло дыхания усиливало ее рост. Так осуществлялся, для каждого индивидуально, растительно-животный биологический цикл, что позволяло значительно экономить продукты. Коротко говоря, реализовывался искусственный симбиоз животного и растительного. Остальные продукты были: мука, растительные жиры, сахар, сухие сыр и молоко.
Для высокогорий мы запаслись бутылками с кислородом и усовершенствованными аппаратами для дыхания. О ссорах, возникших по поводу этих устройств, и о том, какой они приняли оборот, я расскажу в свое время.
Доктор Бивер когда-то придумал одежду, обогреваемую внутри каталитическим сгоранием, но в результате проведенных опытов пришел к выводу, что хорошей одежды на пуху с надувной подкладкой, сохраняющей тепло тела, вполне достаточно, чтобы передвигаться даже в самые большие холода. Обогревающие устройства были действительно необходимы нам только во время стоянок, да и тогда мы пользовались только теми же самыми, которые служили для приготовления пищи; эти плитки работают на нафталине, их легко переносить, на самой малой мощности они дают много тепла, хотя в специальной плите обеспечивается полное сгорание (а стало быть, и полное отсутствие запахов). И тем не менее, поскольку было совершенно неизвестно, на какие высоты поднимется наша научная экспедиция, мы на всякий случай прихватили с собой обогревающую одежду с двойной подкладкой из платинированного асбеста, в которую поддувался воздух вместе с парами спирта.
Ну и, конечно, мы взяли с собой все обычное снаряжение альпинистов: ботинки, подбитые железом, всевозможные крюки, веревки, кошки, молотки, карабины, ледорубы, крючья, снегоступы, лыжи и все, что с этим связано, не говоря о приборах для наблюдения, компасах, ватерпасах, альтиметрах, барометрах, термометрах, дальномерах, алидадах, фото– и других аппаратах. Ну и оружие: винтовки, карабины, револьверы, тесаки; взяли и динамит; в общем, все, чтобы быть готовым к встрече с любыми возможными препятствиями.
Соголь сам вел бортовой журнал. Я в морском деле человек слишком посторонний, чтобы рассказывать об инцидентах, случившихся во время навигации, да их, впрочем, было очень немного, и особого интереса они не представляют. Отправившись из Ла-Роше-ли, мы сделали стоянку на Азорских островах, потом на Гваделупе, в Колоне и, пройдя Панамский канал, на первой неделе ноября оказались в южных водах Тихого океана.
Именно в один из этих дней Соголь объяснил нам, почему мы должны подойти к невидимому континенту на закате и с запада, а не с востока, на рассвете: дело в том, что в это время, как в эксперименте Франклина с теплой комнатой, поток холодного воздуха с моря должен устремиться в нижние слои, перегретые атмосферой Горы Аналог. Таким образом, нас должно было втянуть вовнутрь, тогда как на рассвете, с востока, нас бы сильно оттолкнуло. Впрочем, подобный эффект мы могли только символически предвидеть. Цивилизации в своем естественном движении к вырождению продвигаются с востока на запад. Чтобы вернуться к истокам, надо идти в обратном направлении.
Теперь, попав в район, который предположительно находился к западу от Горы Аналог, надо было действовать наугад, прощупывать обстановку. Мы шли на малой скорости и к моменту, когда солнечный диск вот-вот должен был коснуться горизонта, взяли курс на восток и ждали, едва дыша, в полном напряжении тараща глаза, пока солнце не исчезло совсем. Море было прекрасно. Но ожидание – страшно трудным. Один день сменялся другим, и каждый вечер мы переживали эти несколько минут надежды и неизвестности. Порой казалось, что на борту «Невозможной» уже завелся червячок сомнения, и терпение наше иссякало. К счастью, Соголь предупредил, что эти наши «прощупывания» могут затянуться на месяц, а то и на два.
Держались мы неплохо. Часто, чтобы чем-то занять трудные часы после наступления сумерек, мы рассказывали друг другу всякие истории.
Помнится, однажды вечером мы заговорили о легендах, вдохновленных горами. Я сказал, что, на мой взгляд, фантастических легенд, связанных с высокогорьями, гораздо меньше, чем легенд о морях или лесах. Карл объяснил это на свой лад:
– Для фантастического, – говорил он, – на высокогорьях просто нет места, настолько сама действительность там волшебнее всего, что способен вообразить себе человек. Ну можно ли мечтать о гномах и великанах, о гидрах или длинношеих подземных монстрах, которые могли бы соперничать с ледником, даже самым малюсеньким ледничком? Ведь ледники – живые организмы: их состав периодически обновляется, а форма остается почти такой же, как была. Ледник – существо, сформированное очень органично: у него есть голова (это фирновый лед, с его помощью ледник пощипывает снег и проглатывает обломки скалы); голова эта отделена от корпуса ледниковой трещиной; потом у ледника есть огромный живот, где заканчивается превращение снега в лед, живот, изборожденный глубокими трещинами и канавками-каналами, выводящими избыток воды; а из нижней своей части он выбрасывает отходы пищи в форме морены. Жизнь его организована в ритмах времен года. Зимой он спит, а весной просыпается – со скрипом и взрывами. Некоторые ледники сами воспроизводят себя, и процесс этот вовсе не такой примитивный, как у одноклеточных существ; происходит это либо при совмещении и плавлении, либо при отколе, порождающем то, что называют регенерирующими ледниками.
– Я подозреваю, – заговорил Ганс, – что жизнь эта определяется скорее метафизически, чем научно. Питание живых существ происходит благодаря процессам химическим, тогда как ледниковая масса сохраняется физически и механически: замерзание и плавление, сжатие и растяжение.
– Отлично, – отвечал ему Карл, – но вы, ученые, наблюдающие вирусы, способные кристаллизовываться, вы ведь действительно заняты изучением перехода физического состояния в химическое, а из химического – в биологическое. И вы должны были бы многое почерпнуть, наблюдая за ледниками. Быть может, именно здесь природа сделала первую попытку создать живое существо исключительно физическим способом.
– «Быть может», – сказал Ганс, – «быть может» – это для меня ровно ничего не значит. А вот абсолютно точно только то, что в состав ледниковой субстанции углерод не входит, и, следовательно, это субстанция неорганическая.
Иван Лапе, любивший показать, как хорошо он знает все литературы на свете, перебил его:
– В любом случае Карл прав. Виктор Гюго-а даже в его время этот массив считался не очень высоким, – вернувшись из Ригии, заметил, что, когда созерцаешь высокие вершины, вид этот сильно противоречит всему, к чему привык наш глаз, и противоречит настолько, что все естественное принимает там вид сверхъестественного. Он даже считал, что средний человеческий разум не способен вынести такого беспорядка в своем восприятии, и именно всем этим объяснял изобилие дебилов в альпийских районах.
– Верно, верно, хотя последнее предположение – чистейшая глупость, – вступил в разговор Артур Бивер, – вот и мисс Панкейк вчера вечером показала мне пару набросков к пейзажам высокогорий, которые подтверждают то, о чем вы говорите… Мисс Панкейк пролила чай из своей чашки и сделала еще какой-то неловкий жест, а Бивер тем временем продолжал:
– Но вы ошибаетесь, утверждая, что с высокогорьями связано мало легенд. Мне доводилось слышать их, и попадались даже престранные. Правда, это было не в Европе.
– Мы слушаем вас, – тут же сказал Соголь.
– Ну-ну, не так скоро, – ответил Бивер. – Я охотно расскажу вам одну из этих историй; поведавшие ее мне потребовали, чтобы я дал обещание не говорить, где родилась их легенда, да это, впрочем, и не важно. Но я хотел бы как можно точнее воспроизвести ее, и для этого мне нужно восстановить легенду в своей памяти на том языке, на котором я ее слышал, и еще мне потребуется помощь нашего друга Ивана Лапса, чтобы перевести ее для вас. Завтра к вечеру, если хотите, я вам эту легенду расскажу.
Назавтра после обеда, когда яхта легла в дрейф – море было все так же спокойно, – мы собрались послушать его историю. Обычно мы говорили между собой по-английски, иногда – по-французски, все мы достаточно хорошо знали оба языка. Иван Лапе предпочел перевести легенду на французский и сам прочитал ее нам.
Легенда О ЛЮДЯХ-ПУСТЫШКАХ и горькой РОЗЕ
Люди-пустышки в камне живут, там и передвигаются, каверны-путешественницы. Во льду они гуляют, пузыри будто люди, но на воздух выйти не отваживаются – ветер их унесет.
В камне у них дома, стены – из дырок сделаны и из щелей во льду, а лед сам – из пузырей. Днем они в камне сидят, по ночам же во льду гуляют – танцуют там в полнолуние. Но солнца они не видят, иначе бы лопнули сразу.
Едят пустоту, и только, едят они формы трупов, напиваются они в стельку, упиваясь пустыми словами, всеми теми пустыми словами, которые мы произносим.
Кто говорит, что они были всегда, всегда и пребудут вовеки, а кто-то считает их мертвецами. Иные же думают, что в горах у каждого живого есть двойник, подобно тому как ножны есть у меча, а у ступни – отпечаток, след, и, умирая, каждый с двойником своим соединяется.
В деревне Сто-домов жил старый священник-волшебник Какзнат со своей женой Гули-Гули. И было у них два сына-близнеца, как две капли воды похожих друг на друга, которых звали Го и Мо. Сама мать путала их. Чтобы различать близнецов, в день, когда им давали имена, на шею Мо надели ожерелье с маленьким крестиком, а на шею Го – ожерелье с маленьким колечком.
Старый Какзнат был страшно опечален, но никому не говорил об этом. По обычаю его наследником должен был стать старший сын. Но который из двух старший? И был ли у него старший сын?
К шестнадцати годам Мо и Го стали великолепными скалолазами. Их даже звали «Братья – нет преград». Однажды отец сказал им:
«Тому из вас, кто принесет Горькую розу, я передам великое знание».
Горькая роза растет на вершинах самых высоких пиков. У того, кто съел ее, как только он вознамерится сказать неправду, громко ли, тихо ли, сразу начинает жечь язык. Он еще способен солгать, но уже предупрежден. Несколько человек видели Горькую розу: судя по тому, что они рассказывают, она похожа на какой-то огромный многоцветный лишайник или на рой бабочек. Но никому не удавалось сорвать ее, потому что малейший страх, который всегда испытывает возле нее человек, вспугивает ее и она тут же прячется в скалу. А ведь даже если очень хочется заполучить Горькую розу, обладать ею всегда немножко боязно, и она сразу же исчезает.
Заводя речь о чем-то совершенно невозможном или о какой-нибудь нелепой затее, мы говорим: «Искать ночь среди бела дня» либо: «Осветить солнце, чтобы лучше его видеть» или еще: «Пытаться сорвать Горькую розу».
Мо взял веревки, молоток, топорик и железные крючья. Солнце застало его у склона пика Продырявь-облака. То ящерицей, то пауком поднимается он по высоким рыжим откосам меж белизны снегов и синей черноты неба. Быстрые облачка время от времени окутывают его, потом вдруг выпускают на свет. И вот, немного повыше, над собой, он видит Горькую розу, сверкающую цветами не из наших семи цветов. Он без конца повторяет волшебные слова, которым научил его отец и которые защищают от страха. Ему бы здесь пригодился штычок с веревочным стременем, чтобы вскочить на этого строптивого каменного коня. Он бьет молотком, и рука его проваливается в дыру. Под камнем – пустота. Он проламывает верхний слой камня и видит, что эта пустота имеет форму человека: торс, ноги, руки и полости в форме пальцев, растопыренных, будто в ужасе, а молотком он ударил по голове.
На скалу налетает ледяной ветер. Мо убил человека-пустышку. Он задрожал, и Горькая роза вернулась в свой камень.
Он спускается в деревню, он сейчас скажет отцу: «Я убил человека-пустышку. Но я видел Горькую розу и завтра пойду за ней».
Старый Какзнат мрачнеет. Он предвидит всю череду несчастий, которые обрушатся теперь на них. Он говорит: «Берегись людей-пустышек. Они захотят отомстить за своего мертвеца. В наш мир они войти не могут. Но на любой поверхности показаться способны. Остерегайся всего, что на поверхности».
Наутро, едва рассвело, Гули-Гули, мать близнецов, испустила страшный крик и побежала к горе. У подножия высокой рыжей стены лежали одежды Мо, его веревки, его молоток и его медальон с крестиком. А тела его больше не было.
– Го, сын мой, – закричала она, прибежав домой, – сын мой, они убили твоего брата!
Го выпрямляется, зубы его стиснуты, голову словно обручем сковало. Он берет топорик и уже готов идти. Отец останавливает его:
– Сначала выслушай меня. Вот что надобно сделать. Люди-пустышки забрали твоего брата. Они заменили им своего человека-пустышку. Он захочет сбежать от них. И пойдет искать свет к ледопаду у Хрустального ледника. Надень себе на шею и его медальон. Подойди к нему и ударь по голове. Войди в форму его тела. И Мо будет жить среди нас. Не бойся убить мертвеца.
Изо всех сил вглядывается Го в голубой лед Хрустального ледника. То ли это игра света, то ли у него плохо со зрением, то ли он действительно видит то, что видит. А видит он серебряные фигуры, будто пловцы маслянистые плывут в воде, и руки у них, и ноги есть. Вот и его брат Мо, его полая форма пытается сбежать отсюда, а тысяча людей-пустышек преследуют его, но они боятся света. Форма Мо стремится к свету, она поднимается в огромном голубом ледопаде и вертится туда-сюда, будто ищет дверь.
Го бросается вперед, хотя кровь его стынет в жилах, а сердце разрывается на части, – он говорит и своей крови, и своему сердцу: «Не бойся убить мертвеца» – и бьет по голове, ломая лед. Форма Мо застывает в неподвижности, Го разбивает лед и входит в форму своего брата, как шпага входит в свои ножны, а ступня – в свой след. Он шевелит локтями, расправляя плечи, вытаскивает ноги из ледяной формы. И слышит, что произносит слова на языке, на котором никогда не говорил. Он чувствует, что он – Го и что он – Мо одновременно. Все, что помнил Мо, теперь вошло в его память: и дорога к пику Продырявь-облака, и обиталище Горькой розы.
С колечком и крестиком на шее он приходит к Гули-Гули:
– Мама, тебе больше не будет трудно различить нас – Мо и Го теперь в одном теле, я – твой единственный сын Мого.
Старый Какзнат проронил две слезинки, бы разрешить. Он говорит Мого:
– Ты мой единственный сын, ни Го, ни Мо больше не нуждаются в том, чтобы отличиться.
Но Мого твердо сказал отцу:
– Теперь я могу добраться до Горькой розы и сорвать ее. Мо знает дорогу, а Го знает, что нужно сделать. Победив страх, я овладею цветком здравомыслия.
Он сорвал цветок, ему было передано сокровенное знание, и старый Какзнат мог теперь покинуть этот мир.
Настал вечер, и солнце опять село, не открыв нам врата в другой мир.
Все эти долгие дни ожидания нас очень занимал еще один вопрос. В чужую страну не едут с пустыми руками, если хотят там что-то приобрести. Путешественники обычно берут для обмена с «дикарями» или «туземцами», которые могут встретиться им, всякого рода барахло и хлам, ножички, зеркальца, парижские штучки, отбросы с конкурса курьезных изобретений, подтяжки и прищепки для носков, побрякушки, ткани для драпировки, кусочки мыла, водку, старые ружья, безобидные боеприпасы, сахарин, кепки, расчески, табак, трубки, медальончики и веревки, я уж не говорю о всяческих крестиках и иконках. Поскольку во время путешествия, да и на самом континенте, нам могли встретиться нации, относящиеся к обычному человеческому роду, мы запаслись подобными товарами, которые могли бы стать нашей «валютой». Но что могло бы стать этой валютой при общении с высшими существами Горы Аналог? Что было у нас такого, что действительно могло быть ценным и для них? Чем могли бы мы заплатить за новое знание, которое мечтали обрести там? Придется ли нам его выпрашивать? А может, мы должны будем получить его в счет будущей расплаты?








