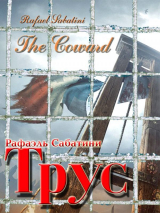
Текст книги "Трус (ЛП)"
Автор книги: Рафаэль Сабатини
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Рафаэль Сабатини
Трус
Под самым отвратительным прозванием, которое один человек может дать другому, был известен он своим товарищам по несчастью – десяткам обречённых аристократов, которые пребывали в заключении в Люксембургском дворце, в благородном убожестве ожидая услышать свои имена, оглашённые в списке приговорённых.
И всё же так было не всегда. Когда его впервые втолкнули к ним, они приветствовали его одобрительными возгласами, – ибо молва о его отчаянной защите Бога и короля предшествовала его заключению в тюрьму, – и ото всех звучали слова восхваления за доблестное выступление, которое он предпринял в Рошдюре, что в Вандее.
Но его слава была недолговечной. На следующий день привезли новых заключенных, и из-за нового интереса, который они вызвали, доблесть Армана де Бретёйля была забыта.
Равным образом об этом снова и не вспомнили, даже когда болезненная бледность его мальчишеского лица ещё раз привлекла к себе внимание.
Сначала интересовались, не болен ли он, и с сильной озабоченностью разглядывали его стройную, хрупкую фигуру – как будто здоровье того, кто завтра мог ступить на доски эшафота, имело большое значение. Но немного спустя, – когда заметили, как его болезненность становилась заметнее каждый вечер, когда зачитывался список на гильотину, и как, когда чтение было завершено, а его имя не названо, он, казалось, дышал свободнее и страдал меньше, – быстро было дано имя его хвори.
Его прозвали слабаком и не пожалели для него насмешек.
Мужчины оскорбляли его на каждом шагу; женщины презирали молча, сверкая глазами и кривя губы.
Он чувствовал острую боль от этого и – что ещё хуже – считал такое обращение заслуженным. Снаружи, на открытом пространстве, под небом Божьим, он взял шпагу в руки, чтобы, не дрогнув, принять смерть, его кровь пылала жаждой сражения; но здесь, в мрачной тюрьме Люксембургского дворца, в ежедневном ожидании призыва всепожирающей гильотины его нервы были истерзаны, а дух сломлен.
Он трясся каждый вечер, когда его сотоварищи бросались к решётке, чтобы выслушать роковой перечень, и отходил в свой угол, бледный и дрожащий, со вспотевшим от ужаса лбом, – признавая себя трусом, презренным существом.
Он был молод – ему было всего двадцать лет – однако молодость, как он знал, не оправдывала его слабости. Разве он ежедневно не видел мужчин моложе себя, да и женщин тоже, бодро шагнувших вперёд, когда их вызвали, и простившихся с теми, чья очередь ещё не пришла, кто с насмешками, а кто со слезами, но все отважно и смело, как приличествует именам, которые они носили?
Стоическое безразличие, с которым они принимали свой приговор, ужасало его, тогда как сама манера их приготовлений одновременно вселяла изумление и отвращение.
Смерть была для них объектом насмешек, явлением, которым они, казалось, упивались. Каждый день они как бы открывали пародийный трибунал, а кто-то измазывал своё лицо и, исполняя роль Фукье-Тенвиля, выносил приговор сотоварищам-заключенным, представшим перед его судом. Затем следовал допрос, преисполненный изощрённых острот и презрительных насмешек, направленных против санкюлотов. А когда это действо завершалось, далее они приносили два стула, представляющих гильотину, и с многочисленными шутками и искренним смехом осуждённые клали головы в импровизированный люнет и таким образом весело репетировали жестокую трагедию, которую вскоре разыграют кровавым образом всерьёз.
Однажды его схватили и приволокли к маркизу де Трезону, который в тот день взял на себя роль генерального прокурора. Лишившийся дара речи и обозлённый, стоял он там, куда его привели, неспособный присоединиться к их страшному веселью и не отвечая ни слова на едкие издёвки, которыми его осыпали.
Они приговорили его к смерти за трусость, и язвительный Трезон выразил надежду, что приговор сможет донестись до слуха санкюлотского трибунала, поскольку он даст революционерам предлог, о котором они ещё не помышляли, для отправки людей на смерть, когда всех остальных предлогов не хватило.
Но когда они притащили Армана к своей пародийной гильотине, вмешался шепелявый тупица виконт де Лафосс.
– Отпустите его, месье, – завопил он визгливым бабьим голосом, – или, клянусь душой, он потеряет сознание, и нам придётся его воскрешать.
Слабый румянец тронул щёки Армана, и его стройная фигура вдруг распрямилась.
– И вы, Лафосс, смеете насмехаться надо мной, – запальчиво откликнулся он, – вы, который был найден национальной гвардией трясущимся в бельевой корзине?! Хорошо бы вам это вспомнить, когда вы разговариваете с тем, кто встретил чернь со шпагой в руке и был взят живым только потому, что им недостало милосердия убить его.
Лафосс вздрогнул от резкого и неожиданного упрёка.
– Если когда-нибудь наступит день, когда мы с вами снова сможем стать свободными, – начал он, но Арман перебил его:
– Этого никогда не будет, месье, так что не питайте никаких надежд на смерть от моей шпаги.
– Смелый ответ, – воскликнул кто-то. – Mon Dieu (Боже мой – франц.), виконт, вас надо только поздравить с тем, что вы пробудили в нём мужчину.
– Это больше, чем он смог бы когда-нибудь сделать для вас, – прокомментировал, уходя прочь, Арман, провожаемый взрывом смеха.
Но этот настрой не удержался. Тем же самым вечером он снова сидел в стороне с побелевшим лицом, в то время как толпа красных каблуков прихлынула к решётке.
И когда он сидел в одиночестве, стройная, изящная девушка, чью красоту не могло скрыть даже убожество её положения, прошла вплотную рядом с ним, но даже не удостоила тем, чтобы посмотреть в его сторону.
Он поднял глаза и проводил её страстным, жаждущим взглядом, который никто, кто это видел, не мог истолковать неверно. Затем он встал и, увидев, что всеобщее внимание сосредоточено на оракуле за решёткой, последовал за ней.
– Элен, – пробормотал он, когда нагнал её.
Она повернулась к нему с удивлённым и холодным видом.
– Вы хотите поговорить со мной, месье?
– Месье! – эхом повторил он. – А когда-то я был для тебя Арманом. Но, увы, понятно, что ты тоже меня презираешь, потому что я боюсь умереть.
– Для вас может мало что значить, месье, что я думаю, – ответила она.
– Ты же знаешь, что это не так, Элен, – быстро ответил он, забыв обо всём остальном, даже об ужасной решётке и о том обстоятельстве, что в любой момент могло быть названо его имя. – Ты же знаешь, что твоё мнение для меня это всё.
– В положении, к которому пришли дела, месье, – сказала она с лёгким вздохом, – мнения, всё равно чьи, мало что значат.
Он собирался запротестовать, когда вдруг возник Лафосс и предложил девушке руку.
– Ваше пророчество было верным, месье де Бретёйль, – сказал он, поворачиваясь к Арману и говоря с особенной учтивостью, – мы никогда не будем иметь удовольствия скрестить клинки в этом мире.
Арман отпрянул на шаг и схватился рукой за сердце. Действительность, забытая на мгновение, снова безжалостно встала перед ним. Он побледнел, и его рука дрожала.
– Mon Dieu (Боже мой – франц.), – воскликнул он, – меня вызвали?!
Лафосс расхохотался.
– Нет, месье, – ответил он. – Всего лишь меня!
Затем он повернулся к девушке.
– Прощайте, мадемуазель д'Эно, – прошепелявил он, – меня страшит не смерть, а лишь расставание с вами.
Он нагнулся, чтобы поцеловать ей руку, чтобы отдать ей последний поклон; затем, весело махая рукой своим многочисленным друзьям, он, которого захватили дрожащим в бельевой корзине, беззаботно пустился в своё последнее путешествие. Так много сделала для него сила примера.
Арман стоял ошеломлённый и посрамлённый контрастом меж выдержкой Лафосса и его собственной. Он, ещё не слыша своего имени, дрожал и хворал; Лафосс услышал своё – и засмеялся.
Когда Арман наконец поднял голову, Элен уже больше не было рядом с ним. Он поискал глазами среди толпы и вскоре увидел её беседующей с его кузеном Станисласом де Бретёйлем. Их головы сблизились, и взгляд Армана, побуждаемый ревностью, обнаружил в глазах кузена выражение, которое не вызывало сомнений.
Любовь! Ревность! Поистине странные заботы для людей, которые ждали своей очереди, чтобы заглянуть через маленькое оконце гильотины в другой мир.
И бедный Арман, хотя и был полон страха перед смертью, нашёл той ночью время, лёжа на своей подстилке из несвежей соломы, чтобы постонать, потому что его не любила женщина.
Элен д'Эно и он знали друг друга с детства. Она была кумиром его мальчишеского сердца с тех счастливых дней, когда они вместе играли в прятки в лесах Фонтенбло. Но рядом всегда был его кузен. Старше на два года, крепче телом, миловиднее лицом и бойчее языком, Станислас де Бретёйль всечасно мешал ему и лёгкой рукой срывал лавры, ради которых тщетно старался Арман.
Случай забросил Армана и Элен в тюрьму Люксембургского дворца, и всё же даже туда случай – или вернее, мы бы сказали, рок – также забросил и Станисласа.
Он растерянно задался вопросом, любит ли она Станисласа. По крайней мере, сказал он себе с горечью, она не презирает его как труса. Во всём этом бесшабашном, презирающем смерть скопище не было спокойнее и отважнее стоика, чем Станислас де Бретёйль. И однако Арман всё-таки ещё задавался вопросом, любила ли она его или это просто старая дружба так тесно связывала их.
Но на следующий день, когда он сидел размышляя в своём тёмном углу, в то время как его товарищи по заключению были заняты своей отчаянной потехой, сомнения внезапно рассеялись.
Станислас и Элен медленно прошли через величественный зал и встали у зарешёченного окна, рядом с Арманом, однако не замечая его.
– Здесь лучше, Станислас, – тихо сказала она, опираясь рукой на подоконник. – Mon Dieu (Боже мой – франц.), как это близко.
Станислас беспечно рассмеялся.
– Cмелее, ma mie (моя дорогая – франц.), это ненадолго! На том свете нам предоставят воздух почище.
Она вздохнула и прислонилась своей светловолосой головой к решётке. Несколько мгновений они молчали.
– Станислас, – немного погодя прошептала она, – у тебя совсем нет надежды?
– Надежды? – повторил он печально. – Какая может быть надежда?
– Разве тебе никогда не приходило в голову, что Небеса вмешаются? Что террор и кровопролитие будут остановлены и что эта несчастная страна очнётся от своего безумия и взмолится о справедливости и правосудии?
Станислас де Бретёйль устало провёл рукой по лбу.
– Это произойдёт когда-нибудь, без сомнения, – ответил он. – Когда-нибудь, когда их затошнит от бойни, но, я боюсь, недостаточно скоро для нас.
– Кто может сказать? – воскликнула она, обращая к нему свои прекрасные глаза, полные любви. – Кто может сказать, когда это может произойти? Возможно, завтра или через день.
Он грустно улыбнулся.
– Завтра или через день я могу умереть, любовь моя, – ответил он.
Но смерть оказалась не так близка, как он ожидал. Проходили дни и слагались в недели. Прибывали новые заключённые, а старые отправлялись прокатиться на позорной повозке, сопутствуемые глумлением и улюлюканьем пьяной от крови черни. Однако Станислас де Бретёйль и Элен д'Эно задержались в тюрьме Люксембургского дворца, как и бедный Арман, который становился с каждым днём все бледнее и тоньше.
Конвент, казалось, позабыл об этих трёх.
Июль подходил к концу, а узники всё ещё коротали томительные часы за своими мрачными комедиями и устраивали свои шутейные гильотинирования, пока наконец не наступил день, когда даже самым смелым еле-еле хватало мужества для шуток.
До них дошли странные слухи о новых проявлениях безумия в безумном Париже. Слышались странные крики. Постоянная маршировка и рокот барабанов удивляли их, и в души всех и каждого закралось ужасное воспоминание о сентябре. Было ли это такой же резнёй заключённых? Те, кто лишь вчера издевался над смертью, сегодня трепетали перед неизвестностью.
Позднее в тот же день распространился ещё один слух, который заставил сердца некоторых забиться сильнее от надежды. Слух, что чернь обратилась против своего главаря, что Робеспьер приговорён.
Среди надеющихся был Арман де Бретёйль. Он уже видел тюремные ворота распахнутыми, а страшное ярмо неволи, изнуряющего ужаса снятым со своих плеч.
Тем вечером он прижался к прутьям того самого окна, у которого месяц назад, как он слышал, Элен говорила со Станисласом о надежде, и прислушивался к звукам волнений, задаваясь вопросом, что затевает Париж с его восемью сотнями тысяч душ. Он предавался грёзам о том, что будет делать, когда освободится, и – впервые за время в неволе – не обращал внимания на суету у решётки, вообразив, что она больше не имеет никакого отношения к позорным повозкам, когда вдруг кто-то произнёс его имя:
– Месье де Бретёйль.
Его сердце остановилось от тошнотворного страха, когда он медленно обернулся.
У решётки была толпа. За ней он увидел своего кузена и Элен, стоявших бок о бок. Девушка была очень бледна и с отчаянием цеплялась за руку Станисласа.
Тогда его кузен заговорил.
– Нас двое, – сказал он храбрым голосом, полужалостливо-полупрезрительно глянув на дрожащего Арманда. – Кто там в списке?
Возникла минутная пауза, затем последовал ответ:
– Это бывший шевалье Станислас де Бретёйль.
Элен издала слабый стон и обратила безумные глаза к лицу возлюбленного. На мгновение он остался прям и дерзок. Затем, без лишнего звука, он – который до сих пор являл такую отчаянную храбрость и безразличие – качнулся назад и, как бревно, упал без сознания на землю.
Он тоже дал своим надеждам высоко вознестись в тот день, и теперь этот внезапный поворот разрушил его мужество.
Без слёз и с таким выражением холодного страдания на лице, которое часто предвещает приближение безумия, Элен д'Эно опустилась на колени рядом с ним.
Арман видел каждый жест. Ни одна деталь не ускользнула от него. На мгновение, после того как он услышал, что его кузен, а не он сам, вызван под нож, он снова задышал свободно. Но только на одно мгновение.
Вид страдания на прелестном лице Элен, ужасное выражение её глаз пробудили внезапную решимость в душе труса.
Станислас его нисколько не заботил. Ему не доставалось ничего, кроме насмешек, из уст кузена, с тех пор как он попал в Люксембургский дворец. Но Элен… ah, Dieu (о Боже! – франц.)… он не мог быть свидетелем её мучений.
Быстро шагнув к ней, он наклонился и поспешно прошептал ей на ухо:
– Элен, я люблю вас. Если то, что говорит молва, правда, вам всё-таки можно надеяться. Ещё день – и, может быть, казней больше не будет. Adieu! (Прощайте! – франц.)
Мгновением позже он стоял у решётки, и его голос если слегка и дрожал, но был громким и чистым.
– Я де Бретёйль.
Окружающие недоверчиво смотрели на его белое лицо и трепещущие губы и задавались вопросом, не повредился ли трус от ужаса в рассудке.
Но, мало обращая на них внимания, он сумел выйти до того, как вернулся в сознание его кузен.
Для Фукье-Тенвиля крестильное имя было маловажным обстоятельством. У него не было столько времени, чтобы тратить его на такие мелкие различия. И поэтому Арман де Бретёйль, бледный и с тоской в сердце, но со сжатыми губами и решительным выражением мальчишеского лица, принял смерть на следующий день.
Но тот день был 10 термидора 2 года, и для Армана было утешением узнать перед тем, как он умер, что его жертва не стала напрасной. Ибо в тот же день Робеспьер со своими последними друзьями составил ему компанию в его путешествии и взошёл вместе с ним на эшафот.
С царством террора было покончено. Франция пришла в себя.
Последние слова Армана де Бретёйля к Элен были едва замечены – на самом деле они были еле-еле слышны и, конечно, не поняты, когда произносились. Но позже их вспомнили. И с печальной нежностью она и Станислас вызывали в памяти прощальные слова того, кого они прозвали трусом и чьей благородной жертве были обязаны жизнью одного и счастьем обоих.
Примечания
Люксембургский дворец – дворец, построенный для Марии Медичи в 1615-1631 годах в парижском Люксембургском саду, на месте усадьбы представителя рода Люксембургов (отсюда и название). Во время Великой французской революции дворец был признан национальным достоянием и сначала был превращен в тюрьму, а в 1795 году тут начали заседать члены Директории, и с того времени он стал местом размещения госучреждений. В настоящее время здесь заседает Сенат Франции. Часть помещений передана для проведения выставок.
Вандея – департамент на западе Франции на территории бывшей провинции Пуату. Название происходит от реки Вандея. В 1793 году здесь возник мощный очаг контрреволюции. В истории события того времени известны как вандейский мятеж.
Фукье-Тенвиль – деятель Великой французской революции, общественный обвинитель Революционного трибунала. Его впоследствии гильотинировали на Гревской площади, обвинив в том, что он погубил под видом суда бесчисленную массу французов…
Санкюлот (sans-culotte) – участник Великой французской революции, бунтарь. Название произошло от насмешливого прозвища городской бедноты, ходившей «без кюлотов», то есть коротких штанов из дорогой ткани, как было принято у дворян.
Люнет – арочный проём.
Обувь с красными каблуками была признаком принадлежности её обладателя к аристократии (мода была введена Людовиком XIV). Во Франции в XVII-XVIII веках модников называли часто «господин красный каблук».
Лес Фонтенбло – обширный лесной массив, окружающий замок и городок Фонтенбло во Франции в 60 км к юго-востоку от Парижа. Популярное место пеших и верховых прогулок.
Национальный Конвент (франц. Convention nationale) – высший законодательный и исполнительный орган Первой французской республики во время Великой французской революции, действовавший с 21 сентября 1792 года по 26 октября 1795-го.
Сентябрьские расправы – трагический эпизод Великой французской революции, массовые убийства заключённых в Париже, Лионе, Версале и других городах, произведённые революционной толпой в начале сентября 1792 года. К Парижу всё ближе подходила прусская армия. При этом распространялись слухи, что интервентам в столице помогут тайные роялисты и что готовится заговор, а арестованным аристократам в тюрьмы доставили оружие и они ждут сигнала к выступлению. Поэтому среди санкюлотов возобладала идея превентивной расправы с заключёнными.
Максимилиан Робеспьер – один из наиболее известных и влиятельных политических деятелей Великой Французской революции. Казнён без суда и следствия 10 термидора 2 года (28 июля 1794 года) с двадцатью одним из его сторонников
Термидор (от греческих слов «тепло, жар» и «дар») – 11-й месяц (19/20 июля – 17/18 августа) французского республиканского календаря, действовавшего с октября 1793-го по 1 января 1806 года. Термидорианский переворот произошёл 27 июля 1794 года (9 термидора 2 года). Положил конец эпохе революционного террора, а заодно и революционных преобразований.








