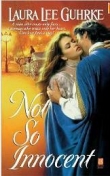Текст книги "Вечера с историком"
Автор книги: Рафаэль Сабатини
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Он написал ей три строчки, торжественно заявляя о своей вечной любви и решении жениться на ней завтра, и на следующий день явился собственной персоной, чтобы выполнить свое решение.
Она приняла его в лучшей комнате дома, обставленной с такой роскошью, какой не мог бы похвастаться ни один другой дом Севильи. Она нарядилась к этой встрече с очаровательной экстравагантностью, подчеркивающей ее природную красоту. Ее высоко приталенное платье с глубоким вырезом и тесно облегающим лифом было сшито из парчи, юбка, манжеты и ворот были оторочены белым горностаевым мехом. Белоснежную грудь украшало бесценное колье из прозрачных бриллиантов, а в тяжелые косы цвета бронзы была вплетена нитка блестящих жемчужин.
Никогда еще дон Родриго не находил ее такой желанной, никогда еще не чувствовал себя таким спокойным и счастливым от обладания ею. Кровь прилила к его оливкового цвета лицу, он заключил ее в объятья, целовал ее щеки, губы, шею.
– Моя жемчужина, моя прелесть, моя жена! – восторженно шептал он. Затем добавил нетерпеливо: – Священник! Где священник, что соединит нас?
Глубокие непроницаемые глаза встретили его горящий взор. Она только прижалась к его груди, и ее губы сложились в улыбку, которая сводила его с ума.
– Ты любишь меня, Родриго, несмотря на все?
– Люблю тебя! – Это был трепещущий, приглушенный, почти нечленораздельный возглас. – Больше жизни, больше, чем вечное блаженство.
Она вздохнула, глубоко удовлетворенная, и сильнее прильнула к нему.
– О, я счастлива, так счастлива, что твоя любовь ко мне действительно сильна. Однако хочу подвергнуть ее проверке.
Он крепко обнимал ее.
– Какой проверке, любимая?
– Я хочу, чтобы эти брачные узы были настолько крепкими, чтобы ничто на свете, кроме смерти, не могло разорвать их.
– Но я хочу того же, – промолвил он, хорошо сознавая выгодность для себя этого брака.
– Хотя я и исповедую христианство, в моих жилах течет еврейская кровь, поэтому я желала бы бракосочетаться так, чтобы это устроило и моего отца, когда он снова выйдет на свободу. Я верю, что он вернется, потому что он не погрешил против святой веры.
Она умолкла, а он почувствовал беспокойство, несколько охладившее его пыл.
– Что ты имеешь в виду? – напряженно спросил он ее.
– Я хочу сказать… ты не будешь на меня сердиться? Я хочу, чтобы наш брак был заключен не только христианским священником, но сначала раввином в соответствии с иудейским обрядом.
Она почувствовала, что его руки словно обессилели, и он ослабил свои объятья, поэтому она прижалась к нему еще крепче.
– Родриго! Родриго! Если ты действительно любишь меня, если действительно желаешь меня, ты не откажешь мне в этой просьбе; я клянусь тебе, что как только мы поженимся, ты больше никогда не услышишь ничего, что напомнило бы тебе о моем происхождении.
Он ужасно побледнел, губы его задрожали и капли пота выступили на лбу.
– Боже мой! – простонал он. – Что ты просишь? Я… я не могу. Это же святотатство, оскорбление веры.
Она с гневом оттолкнула его.
– Ах вот как! Ты клянешься мне в любви и, когда я готова пожертвовать всем ради тебя, ты не желаешь принести мне эту маленькую жертву и даже оскорбляешь моих предков, словно они не были моими. Я лучше думала о тебе, иначе не просила бы сегодня прийти сюда. Я думаю, тебе лучше оставить меня.
Дрожащий, в полном смятении, охваченный бурей противоречивых чувств, он пытался защититься, оправдаться, переубедить ее. Его возбужденная речь лилась непрерывно, но впустую. Девушка оставалась холодной и равнодушной настолько, насколько раньше была нежной и страстной. Он доказал, чего стоит его любовь. Он может идти своей дорогой.
Для него принять ее предложение действительно означало бы осквернить веру. Однако от мечты стать обладателем десяти миллионов мараведи и ни с кем не сравнимой по красоте женщины было не так-то легко отказаться. Он был достаточно алчен от природы и к тому же сильно нуждался в деньгах, потому готов был уже смириться с участием в отвратительном ему ритуале венчания, лишь бы осуществить эту свою мечту. Но, хотя сомнения христианина почти исчезли, оставался страх.
– Ты ничего не понимаешь, – воскликнул он. – Если бы стало известно, что я могу допустить возможность такой процедуры, Святая Палата сочла бы это несомненным доказательством вероотступничества и послала бы меня на костер.
– Ну, если это единственное препятствие, то оно легко преодолимо, – холодно сказала она. – Кому на тебя доносить? Раввину, что ждет наверху, донос будет стоить собственной жизни, а кто еще будет об этом знать?
– Ты уверена в этом?
Он был побежден. Но теперь уже она решила поиграть им немного, заставляя его преодолевать неприязнь, возникшую в ней из-за его недавней нерешительности. Эта игра продолжалась до тех пор, пока он сам не начал настойчиво умолять ее о быстрейшем совершении еврейского обряда бракосочетания, вызвавшего в нем такое отвращение.
Наконец она сдалась и провела его в свою комнату, где когда-то встречались заговорщики.
– Где же раввин? – спросил он нетерпеливо, оглядывая пустую комнату.
– Я позову его, если ты действительно уверен, что этого хочешь.
– Уверен? Разве я недостаточно ясно подтвердил это? Ты до сих пор сомневаешься во мне?
– Нет, – сказала девушка. Она стояла поодаль, искусно управляя им.
– Но я не хочу, чтобы люди думали, будто тебя к этому принудили.
Это были очень странные слова, но он не обратил внимания на их необычность. Он вообще не отличался сметливостью.
– Я настаиваю, чтобы ты подтвердил, что сам желаешь, чтобы наш брак был заключен в соответствии с еврейскими традициями и по закону Моисея.
И он, подогреваемый нетерпением, желая быстрее покончить с этим делом, поспешно ответил:
– Конечно же, я заявляю, что я хочу, чтобы наш брак был заключен по еврейскому обычаю и в соответствии с законом Моисея. Ну, а теперь, где же раввин? – он услышал звук и заметил дрожание гобелена, маскировавшего дверь алькова.
– А! Он, наверное, здесь…
Он неожиданно замолк и отпрянул, как от удара, судорожно вскинув руки. Гобелен откинулся, и оттуда вышел не раввин, которого он ожидал увидеть, а высокий худой человек, слегка ссутулившийся в плечах, одетый в белую рясу и черный плащ ордена святого Доминика. Лицо его было спрятано под сенью черного капюшона. Позади него стояли два мирских брата этого ордена, два вооруженных служителя Святой Палаты с белыми крестами на черных камзолах.
В ужасе от этого видения, вызванного, казалось, только что произнесенными им святотатственными словами, дон Родриго несколько мгновений стоял неподвижно в тупом изумлении, даже не пытаясь осознать смысл происшедшего.
Монах откинул капюшон, глазам Родриго открылось ласковое, проникнутое сочувствием, бесконечно грустное лицо Томаза де Торквемады. Грустью и состраданием был также проникнут голос этого глубоко искреннего и святого человека.
– Сын мой, мне сказали, что ты вероотступник. Однако, чтобы поверить в такую невероятную для человека твоего происхождения вещь, я должен был лично убедиться в этом. О, мой бедный сын, по чьему злому умыслу ты так далеко отошел от пути истинного?
В чистых грустных глазах инквизитора блестели слезы. Его мягкий голос дрожал от сострадания.
И тут ужас дона Родриго сменился гневом. Полным страстного упрека жестом он указал на Изабеллу.
– Вот эта женщина заколдовала, одурачила и совратила меня! Она устроила ловушку, в которую заманила меня, чтобы погубить.
– Верно, ловушку. Она получила мое согласие на это, чтобы испытать твою веру, которая, как мне говорили, не тверда. Будь твое сердце свободно от ереси, ты никогда бы не попал в эту ловушку. Если бы у тебя была крепкая вера, сын мой, ничто не могло бы отвратить тебя от верности нашему Спасителю.
– Господи! Молю тебя, услышь меня, Господи! – Родриго упал на колени, подняв к небу сложенные в умоляющем жесте руки.
– Ты будешь услышан, сын мой. Святая Палата никого не осуждает, не выслушав. Но на что ты можешь надеяться, взывая к Господу? Мне говорили, что ты ведешь беспорядочную и тщеславную жизнь, и я страшился за тебя, узнав, как широко ты открыл врата своей души злу. Но понимая, что годы и разум часто исправляют и искупают грехи молодости, я надеялся и молился за тебя. Но что ты станешь вероотступником, что твое супружество может быть закреплено нечистыми узами иудаизма… О! – грустный голос прервался рыданием, и Торквемада закрыл свое бледное лицо длинными, истощенными, почти прозрачными руками.
– Молись теперь, дитя мое, о милости и силе, – призвал он. – Претерпи небольшое предстоящее тебе мирское страдание во искупление своей ошибки, и когда твое сердце будет полно раскаяния, ты получишь спасение от Божественного милосердия, которое не имеет границ. Я буду молиться за тебя. Больше я ничего не могу для тебя сделать. Уведите его.
6 февраля того же, 1481 года, Севилья стала свидетелем первого аутодафе. Наказанию подверглись Диего де Сусан, другие заговорщики и дон Родриго де Кордова. Торжественная церемония проводилась относительно скромно, не с такой мрачной пышностью, как впоследствии. Но все основные элементы уже присутствовали.
Впереди процессии шел монах – доминиканец, несущий зеленый крест инквизиции, закутанный в траурное покрывало. За ним шли попарно члены братства Святого Павла – мученика, монастырские служки Святой Палаты. Далее босиком, со свечами в руках, шли осужденные, одетые в рубище кающихся грешников, позорного желтого цвета.
Окруженные стражами с алебардами, они прошли по улице до кафедрального собора, где мрачный Оеда отслужил мессу и прочитал проповедь. После этого они были уведены за город на Табладские луга, где их уже ждали столбы и хворост.
Таким образом, лжесвидетель был казнен той же смертью, что и его жертвы. Так Изабелла де Сусан, известная как «Прекрасная Дама», вероломно отомстила своему недостойному возлюбленному за его собственное вероломство, ставшее причиной гибели ее отца…
Когда все было кончено, она нашла убежище в Монастыре. Но вскоре покинула его, не приняв пострига. Прошлое не давало ей покоя, и она вернулась в свет, пытаясь в его волнениях найти забвение, которое не дал ей монастырь и которое могла дать только смерть. В своем завещании она выразила желание, чтобы ее череп был повешен над входом в ее дом в Каппе де Атаун как символ посмертного искупления ее грехов. И этот голый оскаленный череп когда-то прекрасной головы висел там почти четыре сотни лет. Его видели еще легионы Бонапарта, разрушившие Святую Палату инквизиции.
4. КОНДИТЕР ИЗ МАДРИГАЛА. Рассказ о Лжесебастьяне Португальском
Во всей скорбной и трагикомической летописи человеческих слабостей, именуемой Историей, нет повести печальнее, чем повесть о принцессе Анне, внебрачной дочери сиятельного Иоганна Австрийского, побочного сына императора Карла V и, следовательно, сводного брата бессердечного Филиппа II, короля Испании. И не было среди женщин голубых кровей ни одной такой, чья судьба столь трагически зависела бы от обстоятельств ее рождения.
Внебрачные сыновья королей еще могли чего-то добиться в жизни, и примером тому – ослепительная карьера родного отца Анны, но для внебрачных дочерей, особенно таких, которые, подобно ей, несли двойное бремя, ибо принадлежали к младшей ветви родового древа, надежды на счастье почти не было. Голубая кровь, разумеется, возвышает их, но обстоятельства рождения сводят на нет преимущества высокого положение. Царственное происхождение предписывает им выходить замуж только за принцев, а все те же обстоятельства рождения ставят им препоны на этом пути. Ну, а коли уж для них не находится подобающего места в миру, целесообразнее всего, наверное, оградить их от него, пока этих женщин не завлекла светская суета. Оградить, заточив в монастырь, где они могли бы вести достойную, благочестивую, выхолощенную жизнь.
Это и произошло с Анной. Шестилетней девочкой ее поместили в монастырь святого Бенедикта в Бургосе; по достижении отрочества перевезли в обитель Санта-Мария-ла-Реаль в Мадригале, где ей надлежало вскоре принять пострижение. Но Анна не хотела такой жизни. Она была молода, в душе ее кипела жгучая жажда жизни, которую не могли притупить даже убогие условия существования. От нее скрывали, что она красива, но и это не помогло. Подходя к вратам обители, она бурно протестовала, призывая сопровождавшего ее епископа засвидетельствовать ее нежелание вступать в монастырь.
Но ее желание или нежелание были не в счет. Помимо Божьей, в Испании существовала лишь воля короля Филиппа. И все же, скорее дабы подсластить пилюлю, чем по долгу родства, Его Католическое Величество даровал принцессе определенные привилегии, которых обычно не имеют члены религиозных сообществ: он приставил к ней двух фрейлин и двух слуг, а также позволил и после короткого годичного послушничества сохранить за собой титул «высочества». Анна знала себе цену и с ужасом понимала, что жизнь ее будет потрачена впустую. Впрочем, это относилось только к ее бренной оболочке: она механически исполняла послушания, из коих состояла монотонная монастырская жизнь с ее однообразными днями, полными одинаковых часов, с утратившей смысл сменой времен года, с отсутствием всяких временных вех, кроме сна и бодрствования, еды и работы, молитв и размышлений. И так – до тех пор, пока жизнь не утратит смысл и не выхолостится вконец, превратившись в подготовку к смерти.
Хотя бренной оболочкой Анны могли помыкать как угодно, дух ее не был сломлен. Возможно, вскоре ею овладела бы глухая апатия, возможно, мало-помалу эта серая жизнь затянула бы ее. Но пока этого не произошло. Пока она тешила свою плененную изголодавшуюся душу воспоминаниями о немногочисленных пестрых картинках вольной жизни, виденных ею когда-то за стенами обители. А если этих воспоминаний оказывалось мало, Анне помогал добрый друг, развлекавший ее рассказами о захватывающих приключениях, любовных похождениях и рыцарских подвигах, которые лишь распаляли ее воображение.
Друг этот, отец Мигель де Соуза, португальский монах из ордена святого Августина, был образован и вежлив в обращении, немало поездил по свету и судил обо всем со знанием дела, как и подобает очевидцу событий. А больше всего он любил рассказывать о своем закадычном приятеле, последнем короле Португалии, романтике Себастьяне – умном, галантном, неустрашимом белокуром юноше, который в двадцать четыре года от роду возглавил гибельный заморский поход против неверных и был разгромлен в битве при Алькасер-ель-Кебире лет пятнадцать назад.
Он любил живописать ослепительное рыцарское шествие, которое видел на набережных Лиссабона, когда участники похода, исполненные крестоносческого рвения, грузились на корабль; шеренги португальских рыцарей и оруженосцев; отряды немецких и итальянских наемников; молодого короля в блистающих латах и с непокрытой головой – живое воплощение святого Михаила. Все это воинство торжественно всходило на борт корабля, отправлявшегося в Африку, а вокруг них бушевало море цветов и приветственных возгласов.
Анна слушала монаха, широко раскрыв глаза, боясь пропустить хоть одно слово этой поэмы. Уста ее раскрывались, стройное тело чуть наклонялось вперед, и Анна жадно ловила слова монаха, а когда он начинал рассказывать о том страшном дне при Алькасер-ель-Кебире, темные горящие глаза девушки наполнялись слезами.
А монах был не дурак приврать. Послушать его, так выходило, что португальскую кавалерию погубила не полководческая бездарность короля и не его безудержное тщеславие, из-за которого он не пожелал внять подсказкам советников. Нет, причиной поражения войска и падения самой Португалии, если верить рассказчику, были несметные полчища неверных. В качестве эффектной концовки монах приводил сцену отказа Себастьяна последовать рекомендации советников и спастись бегством, когда все было потеряно. Он рассказывал, как молодой король, только что бившийся с храбростью льва, а теперь сраженный горем, не пожелал пережить черный день поражения и в одиночку поскакал прямо в гущу сарацинских полчищ, чтобы принять свой последний бой и встретить смерть, как подобает рыцарю. С тех пор Себастьяна никто больше не видел.
Анна была готова вновь и вновь внимать этому повествованию, и с каждым разом оно все сильнее задевало струны ее души. Она забрасывала монаха вопросами о Себастьяне, бывшем ее двоюродным братом; о том, как он жил, каким был в детстве, какие издавал указы, став королем Португалии. И все, что рассказывал ей Мигель де Соуза, служило лишь одной цели: как можно глубже запечатлеть в девичьем сознании восхитительный образ царственного рыцаря. Если прежде эта пылкая девушка каждый день думала о нем, то теперь и ночи ее были полны видений: облаченная в латы фигура являлась к ней во сне – столь живая и реальная, что во время бодрствования девушка не могла отличить воспоминаний о своих сновидениях от воспоминаний о встрече с кем-то, виденным наяву. Она благоговейно повторяла слова, которые Себастьян произносил в ее снах, слова, так разительно совпадающие с чаяниями ее опустошенного изголодавшегося сердца, слова, которые никак не могли умиротворять и успокоить душу монахини. Анна была влюблена – горячо, страстно, по уши влюблена в миф, в мысленный образ мужчины, плоть которого пятнадцать лет назад обратилась в прах. Она оплакивала его, как любящая вдова, денно и нощно молилась за упокой его души, она в почти восторженном нетерпении ждала смерти, которая соединит ее с возлюбленным. Черпая радость в мысли о том, что она придет к нему девственницей, Анна наконец перестала сожалеть о своей участи, обрекшей ее на вечное целомудрие.
И вот, в один прекрасный день ей в голову пришла дикая мысль, наполнившая ее странным возбуждением.
– А верно ли, что он погиб? – спросила Анна монаха. – Что ни говори, а ведь никто не видел его смерти. По вашим словам, отец, тело, выданное нам Мулаи-Ахмедом-бен-Мохаммедом, было обезображено до полной неузнаваемости. Не мог ли Себастьян все-таки остаться в живых?
На смуглом костистом лице отца Мигеля появилось задумчивое выражение. Девушка в тревоге ждала, что он тотчас же отвергнет ее предположение. Но монах этого не сделал.
– Народ Португалии, – медленно произнес он, – свято верит в то, что Себастьян жив и когда-нибудь вернется домой как избавитель, которому суждено освободить страну от испанского ига.
– Но тогда… тогда…
Монах задумчиво улыбнулся.
– Народ всегда верит в то, во что хочет верить.
– А вы? – спросила его девушка. – Вы сами в это верите?
Он не сразу ответил ей. Выражение его сурового лица стало еще сумрачнее, еще задумчивее. Монах отвернулся от девушки (во время этого разговора они стояли под украшенными резьбой и орнаментом сводами обители), и его сосредоточенный взор устремился на широкий квадрат монастырского двора, служившего одновременно и садом, и кладбищем. Там, как ни странно, кипела невидимая жизнь, жужжали букашки; три монахини, молодые и сильные, засучив рукава, подвязав веревками полы своих черных одеяний и обнажив обутые в войлочные туфли ноги, деловито орудовали в солнечных лучах лопатами и заступами. Они копали свои будущие могилы. «Помни о смерти»… Под сенью сводов на почтительном расстоянии от Анны и монаха стояли смиренные высокородные монахини, донна Мария де Градо и донна Луиза Ньето, приставленные королем Филиппом к племяннице для исполнения обязанностей, которые с поправкой на монастырский быт можно было назвать обязанностями фрейлин.
Наконец отец Мигель, кажется, принял решение.
– Что ж, дочь моя, почему бы мне не ответить, если ты спрашиваешь? Когда я ехал в Лиссабон, чтобы произнести надгробную речь в соборе, как и пристало духовнику дона Себастьяна, одно высокопоставленное лицо предупредило меня, что я должен быть осторожен в высказываниях о доне Себастьяне, ибо он не только жив, но и намерен тайно присутствовать на отпевании.
Он заметил удивленный взгляд Анны, дрожание ее приоткрытых губ.
– Но это было пятнадцать лет назад, – добавил он. – И с тех пор – ни слуху ни духу. Поначалу я думал, что такое возможно… Ходили вполне правдоподобные слухи… Но пятнадцать лет! – Монах со вздохом покачал головой.
– Какие… какие слухи? – спросила Анна. Ее трясло с головы до ног.
– Говорят, что на другой день после битвы, вечером, трое всадников подъехали к воротам укрепленного прибрежного города Арцилла. Когда перепуганная стража отказалась впустить их, один из всадников объявил, что он – король Себастьян и таким образом добился, чтобы им открыли ворота. Один из этих троих был закутан в плащ, скрывавший лицо, а двое других обращались с ним почтительно, будто с августейшей особой.
– Тогда почему… – начала было Анна.
– Но позднее, – прервал ее отец Мигель, – когда этот слух уже взбудоражил всю Португалию, последовало его опровержение: короля Себастьяна не было среди тех трех всадников, а затем выяснилось, что они попросту прибегли к уловке, чтобы получить приют в городе.
Анна вновь и вновь расспрашивала монаха в надежде добиться признания, что опровержение слуха было притворным, что скрывающийся правитель просто хотел сохранить свое присутствие в тайне.
– Да, это возможно, – признал, наконец, он, – и многие полагают, что так оно и есть. Дон Себастьян был не только силен духом, но и очень щепетилен. Вероятно, позор поражения так угнетал его, что он предпочел скрыться, пожертвовав троном, которого, как он полагал, был более недостоин. Половина португальцев считает, что это так, и продолжает ждать и надеяться.
Уходя в тот день от Анны, отец Мигель уносил с собой убеждение, что нет во всей Португалии ни одного человека, который надеялся бы на то, что дон Себастьян жив, так, как надеялась она, и который так же охотно, как Анна, признал бы короля, стоило тому вдруг объявиться в стране. Ему было о чем подумать: ведь Португалия жаждала своего Себастьяна, как раб жаждет свободы.
Мать Себастьяна была сестрой короля Филиппа, что и позволило последнему заявить о своих правах на престолонаследие и добиться португальского трона. Португалия изнемогала под пятой этого чужеземного правителя, и отец Мигель де Соуза, патриот своей родины, был едва ли не первым среди тех, кто мечтал освободить страну. Когда дон Антонио, сводный двоюродный брат Себастьяна, бывший некогда настоятелем монастыря Крату, поднял мятежный стяг, отец Мигель стал одним из самых ревностных сторонников этого честолюбивого и предприимчивого храбреца. В те дни отец Мигель был архиепископом, человеком, пользовавшимся репутацией высокоученого дельца и дипломата. Он занимал пост проповедника дона Себастьяна и духовника дона Антонио и обладал огромным влиянием в Португалии. Влияние свое он неустанно употреблял на пользу претенденту, которому был глубоко предан. После того, как сухопутное войско дона Антонио потерпело поражение от герцога Альба, а его флот был разгромлен у Азорских островов маркизом Санта-Круз в 1582 году, отец Мигель оказался в большой опасности и опале как один из наиболее рьяных мятежников. Его схватили и надолго бросили в испанское узилище. В конце концов, поскольку он, видимо, раскаялся в своих грехах, Филипп II, прекрасно знавший цену одаренному канонику и желавший приручить его, в расчете на благодарность велел освободить отца Мигеля и сделал его викарием в Санта-Мария-ла-Реаль, где он теперь и исполнял обязанности исповедника, советника и доверенного лица принцессы Анны Австрийской.
Однако благодарности отца Мигеля не хватило, чтобы изменить его сущность и натуру; он по-прежнему был предан претенденту, дону Антонио, который в своем неуемном честолюбии продолжал плести интриги в чужеземном изгнании. Не хватило ее и на то, чтобы притушить пламенный патриотизм монаха. Мечтой его жизни было видеть Португалию независимой и управляемой сыном ее народа. И вот, благодаря пылкой надежде Анны (надежде, которая с каждым днем крепла, превращаясь в убежденность), что Себастьян жив и когда-нибудь вернется, чтобы потребовать обратно венец, два этих человека продолжали все ближе сходиться друг с другом в тихой обители Мадригала, вокруг которой бурно кипела жизнь.
Но шли годы, молитвы Анны оставались без ответа, освободитель не появлялся, и ее надежды начали угасать. Мало-помалу она вновь начала подумывать о том, что сможет соединиться со своим неведомым возлюбленным лишь в лучшем из миров.
Как-то раз весенним вечером 1594 года – спустя четыре года после того, как Анна впервые услышала от священника имя Себастьяна – отец Мигель шагал по главной улице Мадригала, городка, в котором он знал всех и каждого. И вдруг, к своему удивлению, каноник встретил незнакомца. Любой незнакомец наверняка привлек бы внимание отца Мигеля, а этот – и подавно: обликом своим он смутно напомнил священнику о каких-то давних событиях, напрочь стершихся из памяти. Потрепанное черное одеяние незнакомца выдавало в нем обыкновенного горожанина, но его осанка, взгляд, военная выправка и гордо вскинутая голова никак не вязались с простотой платья. От этого человека веяло отвагой и уверенностью в себе.
Мужчины остановились, изумленно глядя друг на друга; на устах незнакомца заиграла тусклая улыбка. Сейчас, в сумерках, возраст его определить было невозможно: ему могло быть и тридцать, и пятьдесят. Отец Мигель растерянно нахмурился, и тогда незнакомец смахнул с головы широкополую шляпу.
– Храни тебя Бог, отче, – произнес он.
– И тебя, сын мой, – отвечал священник, все еще ломая голову над вопросом, кто перед ним. – Кажется, я тебя знаю. Так ли это?
Незнакомец рассмеялся.
– Весь мир может забыть меня, только не ты, отче.
И тут отец Мигель охнул.
– Господи! – вскричал он и возложил длань свою на плечо молодого человека, вглядываясь в его смелые серые глаза. – Какими судьбами ты здесь?
– Я здешний кондитер.
– Кондитер? Ты?
– Надо же как-то жить, а поприще кондитера – честное поприще. Я был в Вальядолиде, когда услышал, что ты служишь викарием в здешнем монастыре. И вот, в память о старых добрых счастливых временах решил навестить тебя, отче, и попросить о поддержке, – ответил незнакомец с непринужденной самоуверенностью и легкой насмешкой в голосе.
– Разумеется… – начал было священник, но осекся. – Где твоя лавка? – спросил он.
– Дальше по улице. Ты удостоишь меня своим посещением, отче?
Отец Мигель поклонился, и оба пошли своей дорогой.
В последующие три дня священник приходил в монастырь, только чтобы отслужить мессу. Но утром четвертого дня он отправился из ризницы прямо в людскую и, несмотря на ранний час, потребовал аудиенции у ее высочества.
– Госпожа, – сказал он ей, – у меня для тебя важная весть, которая преисполнит радостью сердце твое.
Анна взглянула на него и увидела лихорадочный блеск в его глубоко посаженных глазах, увидела румянец на острых скулах священника.
– Дон Себастьян жив, – продолжал тот. – Я видел его.
Несколько мгновений девушка смотрела на него, ничего не понимая, потом побледнела. Чело ее стало белым, как плат монахини. Анна со стоном перевела дух, застыла и покачнулась. Чтобы не упасть, она ухватилась за спинку кресла. Отец Мигель понял, что действовал слишком резко и огорошил ее. Он не понимал, насколько глубоко ее чувство к таинственному принцу, и теперь испугался, как бы она не упала в обморок, потрясенная известием, которое он так безрассудно выложил ей.
– Что ты сказал? О, повтори, что ты сказал! – простонала Анна, полуприкрыв веки.
Он повторил сказанное в более взвешенных и осторожных выражениях, пустив в ход весь магнетизм своей личности, чтобы успокоить смятенный разум Анны. Мало-помалу буря чувств в ее душе улеглась.
– Ты говоришь, что видел его? – спросила девушка. – О!
Румянец вновь залил ее щеки, глаза вспыхнули, лицо засияло.
– Где же он? – нетерпеливо спросила принцесса.
– Здесь. Здесь, в Мадригале.
– В Мадригале? – принцесса была само изумление. – Но почему в Мадригале?
– Он жил в Вальядолиде и там услышал, что я, его бывший духовник и советник, служу викарием в Санта-Мария-ла-Реаль. Себастьян приехал искать меня, приехал под чужим именем. Он называет себя Габриелем де Эспиноза и ведет кондитерское дело. Так будет, пока не кончится срок его епитимьи, тогда он сможет объявиться открыто и предстать перед своим народом, который с нетерпением ждет его.
Эта весть повергла Анну в растерянность, наполнила ее разум смятением, а душу превратила в поле битвы, на котором вели борьбу безумная надежда и благоговейный страх. Принц, о котором она мечтала, который четыре года жил в ее мыслях, которого она обожала всей своей возвышенной, пылкой, поэтической изголодавшейся душой, вдруг обрел плоть и кровь. Он рядом, и она наконец-то сможет воочию увидеть его, живого, настоящего. Эта мысль приводила ее в панический ужас, и Анна не осмеливалась просить отца Мигеля привести к ней дона Себастьяна. Но зато она засыпала священника вопросами и вытянула из него довольно складную историю.
После своего поражения и побега Себастьян дал обет над гробом Гоподним, поклявшись отказаться от королевских почестей, ибо считал себя недостойным их. В знак покаяния (полагая, что именно грех гордыни, в который он впал, стал причиной его неудач) он обязался скитаться по миру в облике смиренного простолюдина, зарабатывая хлеб насущный собственными руками, трудясь до седьмого пота, как и положено обыкновенному человеку, до тех пор, пока не искупит свою вину и не станет вновь достоин того положения, которое составляло его истинное предназначение по праву рождения. Этот рассказ наполнил Анну таким состраданием и сочувствием, что она расплакалась. Ее кумир вознесся еще выше, чем в прежних полных любви мечтах, особенно после того, как спустя несколько дней история его скитаний обросла подробностями. Она узнала о том, какие лишения терпел таинственный принц, какие тяготы и страдания выпали на долю странника. Наконец, через несколько недель после того, как Анне впервые сообщили потрясающую весть о его возвращении, в начале августа 1594 года, отец Мигель предложил ей то, чего она более всего жаждала, но о чем не смела просить.
– Я рассказал Его Величеству, как ты привержена его памяти, как предана была ему все эти годы, когда мы считали его умершим. Он глубоко тронут. Он умоляет тебя позволить ему прийти и пасть к твоим ногам.
Лицо Анны зарделось, потом его вновь покрыла бледность; грудь девушки тяжело вздымалась и опадала. Раздираемая страхом и желанием, принцесса едва слышно выговорила:
– Я согласна…
На другой день отец Мигель привел гостя в скромную монастырскую гостиную, где их ждала принцесса вместе со своими фрейлинами, оставшимися в укрытии. Ее жадному испуганному взору предстал человек среднего роста, с лицом, исполненным достоинства, облаченный в гораздо менее потрепанное платье, чем то, в котором его впервые увидел сам отец Мигель.