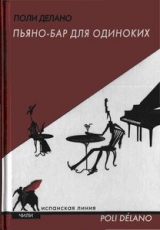
Текст книги "Пьяно-бар для одиноких"
Автор книги: Поли Делано
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– Может, у тебя есть что-то интересное? – гнет свое Маркос.
– Да, – говорю, – кое-что есть. (И почему в душе такая пустота?)
– Ну да, ну да.
Прямо напротив меня сидит безнадежно увядшая Рут, она уже приняла три или четыре стакана «Куба либре». Жалкое зрелище! Надо же! Все еще считает себя молоденькой – открытая блузка с глубоким вырезом, а кожа-то дряблая, сморщенная... Улыбаясь, она чуть заметно двигает вставной челюстью. А руки мелко дрожат, когда подносит стакан к губам.
– Интересно, куда это исчезает наш Хавьер в перерыве? Ну хитрец! – говорит она с улыбочкой.
– Может, с вашего позволения, какает? – говорит Маркос.
– Целых полчаса?
– А что? Может, у него запор.
– Столько времени никто не просиживает, – заявляет старуха. – Полчаса – это слишком. Может, ходит подколоться, для кайфа, как теперь выражаются?
– Да, он всегда возвращается чересчур оживленный, – говорю я, будто бы соглашаясь. – А вы давно сюда захаживаете? – спрашиваю эту раскрашенную мадам, стараясь быть любезным.
– Я? Я здесь с того времени, как это случилось с его братом.
– С братом?
– Ну с родным братом Хавьера! – она проводит пальцем по шее. – Он повесился...
У меня чуть с языка не сорвалось: «Выходит, у него тоже был брат, который...» Но все-таки чувство меры взяло верх. Остальные теряют интерес к нашему разговору. Видимо, все уже давно знают, о чем речь.
– Это страшно подействовало на Хавьера, – говорит Рут и снова проводит пальцем по шее. – Страшно. Это случилось здесь, в туалете, где Хавьер всегда вешает свой пиджак.
Я думаю о том, что было со мной, когда я узнал о своем брате, какое это было потрясение... Но там была пуля, а не веревка. Маркос опять пристает ко мне с расспросами насчет культуры при Альенде. Он спрашивает, а я разглядываю потолок, делая вид, что слушаю. Он говорит о своем будущем сценарии, я одобрительно киваю, он смеется, курит, а потом обращается с вопросом к молодому пианисту, не знает ли тот случайно «My funny Valentine», и напевает мелодию. Парень начинает играть, Маркос поет, а старуха кокетливо поводит плечом, как в свои лучшие времена. «Карай» [32]32
Восклицание, сходное с «карамба», – выражает удивление, восхищение и т. д. (исп.).
[Закрыть], – ахаю я на мексиканский манер. В Чили в таких случаях восклицают: «Чупайя» Старики тоже были молодыми!
И снова за пианино Хавьер. У него горят глаза. Пиво ударило мне в голову, но впервые в жизни я испытываю от этого удовольствие и заказываю еще кружку. И прошу Хавьера еще раз сыграть «Семь ножевых ударов» – семь кинжалов. Один уже в моем сердце, а я выпью все семь кружек, честное слово! Хавьер улыбается и берет первые аккорды болеро.
– Конечно, Гонсалито, – говорит он и начинает петь, а я снова уплываю в далекие времена, «раз-два-три-четыре-пять, я иду искать». Где же самое начало? Как это все получилось?
«И, значит, ты меня не любишь больше? И не женишься на мне?» – спрашивает меня Анита на первой переменке и улыбается беззубой улыбкой. – «Наверное, нет», – говорю я, с ужасом глядя на дырку во рту. Девочка резко наклоняется, развязывает шнурок на моем ботинке, смотрит на меня со злостью и печалью. И убегает.
Как это все получилось? Почему я не кинулся на корму с балериной в ту ночь, когда мы ели пуль-май? Ведь она мне так понравилась и взглядом говорила: «Да, да!» Почему, когда муж этой сучки Валерии вышел из туалета, я не вскипел от ярости, не бросился на него, а потерял дар речи и ушел, как побитый пес? А они, мерзавцы, хохотали мне вслед, и я, вконец опозоренный, слышал их хохот даже на улице. Ведь если я трус по натуре, то почему, когда меня схватили солдаты, я бешено сопротивлялся, бил их ногами, кулаками, крыл почем зря самыми оскорбительными словами, совсем не думая, что понесу за это еще более тяжкое наказание, и почему позже выдержал, как положено мужчине, такие пытки, не выдал своих товарищей даже под угрозой смерти? Почему тогда я был на высоте, а теперь мне даже страшно подумать о возвращении, у меня все внутри холодеет при мысли, что снова будет эта бедность, эта вечная тревога на улице, когда ты идешь и вдруг тебя нет, исчез самым непостижимым образом, и снова это подполье, когда одно неверное слово – и твоя судьба решена?.. Почему я, в прошлом фанатик, для которого дело партии было превыше всего, теперь хочу быть подальше от всего этого? Может, и я из тех жалких буржуа, к которым всегда испытывал презрение? Или мне ударило в голову пиво? Человеку, чтобы жить, нужно помимо всего прочего чувствовать какую-то уверенность в себе, чье-то уважение, иметь вес, сознавать свою правоту, не попадать в зависимость, идти и спокойно жевать жвачку, не испытывать унижения, знать свой путь, звякать в кармане монетками, быть рядом с кем-то, слышать «доброе утро», говорить кому-то «спасибо». Это и есть самое основное, главное. Это снимает напряжение. Чего разглядывать себя в зеркале? Анита без двух зубов плачет в глубине школьного двора, а балерина смотрит на меня горящими глазами на палубе пароходика. И хохочущая Валерия... «И вспомни, как внезапно ты ушла и не сказала мне „прощай"... Ну вот, я опять вижу Хавьера, он дошел до самого печального места в болеро, да, пиво действительно стукнуло в голову, но мне не весело, наоборот, становится все грустнее, лица, картины, «Семь ножевых ударов», семь окаянных кинжалов в моем сердце. Почему я уже не один месяц хожу сюда по вечерам и пытаюсь забыться в песнях, в музыке, в кружках пива, в этом полумраке?
– Слушай, – обращается ко мне Маркос в ту минуту, когда Хавьер берет последние ноты моего болеро, – а ты не собираешься вернуться в Чили?
Я прошу счет, расплачиваюсь и ухожу.
Второй чилиец чаще улыбался, в нем было больше жизни, а может, и безрассудства. То приходил с повязкой на глазу, потому что его жена (он говорил «моя компаньера» [33]33
Companera (исп.) – товарищ, подруга, (так принято называть женщину и мужчину, которые находятся в близких отношениях друг с другом, не зарегистрированных официально).
[Закрыть]) злилась, когда он напивался, и лупила его почем зря. А однажды явился в гипсе и на костылях, вот-де поскользнулся на каком-то молу, и, сами видите, перелом ноги. У него тоже были свои проблемы, а главное, ему не терпелось вернуться в страну, где судьба вовсе его не баловала, где все вдруг сломалось и уже не было ни того, что позади, ни того, что впереди, только это «сегодня», будто отправная точка, откуда надо сделать шаг, и к тому же без какой бы то ни было ясной перспективы. Но он нутром чувствовал, что должен скорее вернуться к своим улицам, к своим деревьям, к своему делу, и я уверен, что причиной тому – не только ностальгия по берегам у Картахены, как обычно думают просто дураки и дураки круглые... Порой он приходил веселый, порой – печальный, как и положено человеку, у которого в венах бьется пульс жизни. Призраки былого...
И вслед за поражением рождается слово-слово жалобы, отчаяния, безумства. А может, жалоба, безумство и смерть принимают облик слова? Я постараюсь разобраться в этом, старина Эрнест, я смастерю твой «детектор дерьма», и если после одной-другой попытки моя душа не сумеет вобрать в себя весь смысл праведного и неправедного, то я последую твоему совету и займусь варкой варенья из ежевики» Но ведь я-то отталкиваюсь от поражения, и мое слово должно стать победой. Неужто так будут заметны швы, которыми я соединяю все свои размышления, за которыми, само собой, неотступно стоит образ Ванессы? Она же всегда рядом!
ПОРАЖЕНИЕ
И тогда, после того видения, где крокодилы свисают вниз головами с трапеции и танцует брачный танец парочка гиппопотамов, а лилипут Никодемо делает тройное сальто-мортале... После этой игры, туч, бросающих тень, которая вполне может предвещать конец света, Судный день, окончательную расплату за каждый долг, даже самый малый, дон Хавьер, решив попытать счастья в последний раз, сделал глубокий выдох и швырнул окурок в тихую воду, где, готовясь к постели, к любовным утехам, купалась очень нагая и очень белая Ванесса, и пошел, как слепец, к пустырю, к футбольному полю, ничуть не сомневаясь, что вот так, не глядя, не прикидывая – сколько всего метров, не задумываясь о весе мяча, вот так вслепую, совсем вслепую, он это сумеет, и тогда победа у него в руках, главное – знать, уверовать, главное – точный удар, пробиться сквозь паутину, которой опутан весь мир, сквозь шорох крыльев летучих мышей, черных, как смерть, сквозь назойливое жужжание тысяч и тысяч насекомых-убийц, разорвать все это и почувствовать, что ты и впрямь совсем один в безмерном звездном пространстве перед высокой сеткой, в которую вот сейчас угодит мяч, главное – точный удар, и едва он послал его туда, в ворота, в последний раз пытаясь выиграть это безумное пари, на которое посмел согласиться в своих снах-мечтаниях, именно в этот миг надмирного времени, когда мяч ударился о штангу, он явственно услышал – промазал, промазал, и уже громко, в полный голос, – вот видишь, Хавьер, не каждый удар попадает в цель, в мишень славы, ты проиграл, ты – дерьмо, и тебе лучше умереть.
Призраки былого, они кружат вокруг него, они приходят и уходят, но всегда возвращаются.
ГЛАВА VI
– Это неплохое место, правда? – интересуется рыжий со шрамом на щеке, который сидит рядом, на соседнем табурете. С другой стороны одиноко пьет женщина весьма солидных лет.
– Вы здесь бываете?
– Да, – отстраненно отвечает мужчина, как бы не зная, стоит ли продолжать разговор. – Захожу, время от времени. Мне нравится, как играет Хавьер. – Он кивает на пианиста, чья сверкающая лысина мотается из стороны в сторону, в такт крутой джазовой музыке.
– Да, он действительно играет прекрасно. Но я лично здесь впервые. Нет, мне нравятся бары, но в один и тот же бар я не хожу, зачем? Надо ходить в разные. Конечно, я предпочитаю пиано-бары, особенно если пианист душевно играет старые вещи. У меня, знаете, настоящая ностальгия по былым, временам, а у вас? Разве в вашей памяти ничего не пробуждают болеро Агустино Лары [34]34
Агустино Лара (1900-1970) – выдающийся мексиканский композитор, автор песен в стиле болеро, многие из которых стали народными.
[Закрыть], или танго Гарделя, или, скажем, песни Синатры? Вы женаты?
– Нет, – говорит его сосед. – Но меня наконец охомутали, я долго держался, а теперь все, теперь – женюсь. – «Одной шлюхой больше твоим дружкам» – резануло в памяти, но Усач, слава Богу, еще не приходил и, скорее всего, уже не придет. – Так оно лучше, правда?
– Тогда выпьем. Поздравляю!
Они чокаются и выпивают залпом.
– Я из тех, кто любит повторять слова поэта: «Милее сердцу любые времена, ушедшие в былое» [35]35
Цитата из «Строф на смерть отца» крупнейшего испанского поэта Хорхе Манрике (1440-1478).
[Закрыть]. А какой год вам особенно дорог?
– Год.
– Ну да, я, например, считаю, что у всех людей должен быть какой-то год, который особенно им памятен. Ну когда, скажем, произошло какое-то событие и вы его навсегда запомнили... Подумайте немного... Сколько вам лет?
– Будет сорок три.
– Значит, мы почти ровесники. Мне исполнилось сорок пять. И знаете какой у меня самый любимый год? Сказать? Ну-ка угадайте.
– Я... как-то не знаю.
– Ну догадайтесь, догадайтесь!
Они заказывают еще по одной.
– 1960-й.
– Холодно, холодно, как зимой в реке! Разве я вам не сказал, что прошлое чем оно дальше от нас, тем лучше?
– 1950-й.
– Вот теперь близко, это 1949-й. Хотя можно сказать, что отчасти и 1950-й. Да, были времена, а? Помните?
– Я пытаюсь... Ну да, Перес Прадо [36]36
Перес Прадо, Дамасо (1916-1989) – кубинский джазовый пианист, дирижер, король мамбо.
[Закрыть], это уже немало!
– Раз, два, три, четыре...
– Семь, восемь, ма-ам-бо-о!
– А то! Вот видите... Слушайте, а как вы относитесь к прекрасному?
– Как я?..
– К прекрасному, то есть к живописи, к искусству, к серьезной музыке, например... Вы должны вспомнить о «Showboat».
– А-а, это когда они плывут по Миссисипи на колесном пароходике?
– Точно! Вот видите... Это же музыкальная комедия с Авой Гарднер.
– А мне она очень нравится в фильме «Прощай, оружие!» [37]37
«Прощай, оружие!» (1932) – фильм американского режиссера Фрэнка Борзеджа (1893-1962) по одноименному роману Э.Хемингуэя.
[Закрыть], потому что она очень похожа на мою бывшую невесту. Хотя там сплошная война и госпиталь, по-моему...
– А когда?
– Что когда?
– Когда у вас была невеста?
– Ну, в те самые годы, или нет, пожалуй, попозже.
– И что произошло?
– С девушкой? Да ничего такого... Обычное дело, тебе еще рано жениться, ты еще мальчишка, ну и появляется другой, постарше, и она выходит за него. Вот так.
– Так что было? Это какие-то общие слова...
– Я же сказал: она вышла замуж за другого.
– А с вами что? Страдали, убивались, да?
– Переживал, конечно, хотя теперь я вижу...
– «Хотя теперь я вижу»... Теперь нечего смотреть, главное – тогда, а не теперь, потому что все это на вас очень повлияло, вы тогда чуть умом не тронулись, не знали, куда себя деть, за что схватиться... А что вы видите теперь, это тьфу!
Они заказали еще по одной.
– Вот и расскажите, что с вами было, ну переживали, а еще что?
– Да ходил как потерянный, будто без компаса...
– Как обрывок газеты, правда? Подхватит ветром и унесет. А фильмы тех лет вы помните? Вам вообще-то нравится кино?
– Так мы же говорили про «Showboat»...
– Да, но в тот год почему-то вышло много таких фильмов, какие не забудешь никогда. Они у меня все в памяти – и с Джоном Гарфилдом, и с Джеймсом Кегни, и с Эстер Уильяме... Послушайте, а вам нравится все прошлое?
– Знаете, уважаемый...
– Не говорите мне «уважаемый», меня зовут Альваро, и давайте перейдем на «ты», идет? Мы же одного помета! Ты видел «Город, который надо завоевать» [38]38
«Город, который надо завоевать» – американский вестерн, в котором Джеймс Кегни сыграл главную роль.
[Закрыть], где Кегни ослеп?
– Конечно. Он там боксер и после одной встречи на ринге совсем ослеп.
– Но его же отделали против всех правил. Вот видишь, сколько у нас общего! А тебя как зовут?
– Хименес.
Они заказывают еще по одной.
Пианист взял микрофон и обвел глазами всех, кто сидел вокруг приставки к пианино. А затем, протянув микрофон старой даме, спросил, не хочет ли она спеть какую-нибудь итальянскую песенку. Она стала отнекиваться, мол, не в голосе, охрипла, но уже через минуту согласилась: ладно, попробую, пожалуй, спеть «Catari».
– Спорю, что ты не помнишь, что было в конце с Кегни! – говорит рыжий со шрамом.
– Он стал продавцом в газетном киоске.
– Верно! И тогда встретил наконец любимую девушку. Да, тогда – да! Тогда были настоящие невесты... Ну а с твоей-то что?
– Я же сказал, она вышла замуж, и я потерял ее из виду. Наверно, ей повезло в браке. Меня все это больше не волнует.
– Должно волновать, потому что одно дело жениться тогда, а другое – теперь. Теперь ты, небось, уже слабак...
– Слабак? Ты что, приятель? Я в большом порядке! В мои сорок три я – будь здоров!
– Да не заводись. Посуди сам: «Три мушкетера» – это тебе не «Двадцать лет спустя», понял? А ты любишь духовное?
– Как это духовное?
– Ну всякие там серьезные мысли, йогу, медитацию – словом, всякое такое.
– Нет, меня, в общем-то, к этому не тянет. Я больше интересуюсь простыми вещами. Люблю хорошее мясо, перец в ореховом соусе, белое вино...
– Это никуда не годится. Так ты проиграешь.
– В чем? Выпьем, браток. Мы же братья, так или нет?
– До самой смерти. Давай обнимемся. За твое здоровье... Только ничего путного не выйдет из твоей женитьбы. Уже староват, небось, выдохся...
– Сколько лет твоей невесте?
– Года тридцать два, но говорит – двадцать девять.
– Тридцать два – ух ты! Я бы тебе посоветовал заняться умственными упражнениями... Помогает, знаешь!
– Помогает? В чем?
– В этом самом, не прикидывайся. И зачем тебе...
– А ты-то женат?
– Второй раз... В первый раз женился в двадцать четыре на бабе, которой было тридцать восемь. А второй – когда мне было тридцать восемь, женился на...
– Двадцатичетырехлетней.
– Откуда ты знаешь? Смотри какой догадливый!
Они заказывают еще по одной. Старая дама кончила петь и, поблагодарив за аплодисменты, вернула микрофон пианисту.
– Конечно, братья! Еще бы! Нам бы и познакомиться тогда, в 49-м.
– «Мамбо, вот это танец, мамбо-о...»
– «Мамбо-о, да-да-да-да!»
– А ты помнишь Кида Ацтеку? [39]39
Кид Ацтека – настоящее имя Луис Вильянуэва (1913-2002) – легендарный мексиканский боксер.
[Закрыть]Вот боксер! Лучший из лучших.
– А когда Манолете [40]40
Ласковое прозвище знаменитого испанского тореро Мануэля Родригеса Санчеса.
[Закрыть]убил быка в честь...
– Какой год, ё-ё моё!
– Слушай, ну почему все остальные годы не были такими? Она меня любила до смерти, с ума сходила, только бы видеть меня, трогать и чтобы я целовал ее все время. Мы с ней все хорошие фильмы пересмотрели. А сколько песен спели вместе, бывало, сядем на скамейку и поем. Мне было лет шестнадцать. Но годы уходят...
– А ты думал! Конечно, уходят эти чертовы годы. Помнишь, двенадцать ножевых ран у миллионерши?
– Двенадцать. Ее племянники постарались.
– А на Севере великая засуха.
– With a song in my heart [41]41
«С песней в сердце» (англ.) – название популярной песенки из одноименного американского фильма.
[Закрыть].
Они заказывают еще по одной.
– Если бы можно было вернуться в какой-нибудь год, какой бы ты выбрал? – спрашивает рыжий.
– 1949-й. А ты?
– Нет, этот выбрал бы я, и, заметь, по праву, так что ты выбирай другой
– А почему не может быть одинаковый?
– Потому! Это мой год, понял? Мой и ничей больше. Тем более не твой.
– Как это не мой? 49-й и не мой! Да ты что!
– Я сказал, не твой, и умолкни!
Рюмка опрокидывается от удара. Кто-то с тревогой смотрит на обоих.
– Подумаешь, он сказал! Тоже мне, нашелся умник! Думает, от его вонючих слов все зависит! Выходит, сказал, что твой, значит, все, присвоил?
Содержимое рюмки стекает со стола. Еще кто-то смотрит на них обеспокоенно.
– Я, к твоему сведению, ничего не присваиваю, тем более годы...
– Ах ты засранец! Его, видите ли, год! Ты мне мой 49-й не трогай, задница поганая!
– Слушай, Альваро, заткнись. Ничего я не украл. Просто 49-й – это мой год, и никто его у меня не отнимет. Тем более такая гнида, как ты, понял?
Рыжий поднимается, берет Хименеса за борт пиджака и влепляет ему звонкую пощечину. Химе-нес падает.
– Ах ты падла, ворюга окаянный!
Теперь встает Хименес, хватает рыжего за лацканы и тоже вмазывает ему пощечину. Альваро падает.
Я-то думал, что не упустил в жизни ни одной женщины, и особенно мне нравилось нравиться молоденьким, хотя, по совести, в большинстве случаев у меня ничего с ними не было. Усач Маркос говорил: «Знаешь, Хавьер, в твои годы женщины ждут от тебя не удовольствия, а денег». Но явилась Ванесса и сломала все мои построения, все схемы – откуда у нее это идиотское непреклонное решение сделаться шлюхой?
– Я не беру денег, дурачок, – сказала она однажды вечером американцу Ральфу, по-моему, это было вскоре после того, как убили карлицу Хулиету. – Я это делаю ради удовольствия, ну понимаешь, ради... блуда. – И ушла с ним. Она всегда с кем-нибудь уходила и, уходя, всегда мне подмигивала. Я продолжал играть, хотя душа рвалась, да, я играл, передавая клавишам всю мою боль, мои стоны, меня обдавало жаром оттого, что перед глазами вставала она, такая белая, такая гладкая, как тогда, в домике на Арболеде, где единственный раз мы занимались с ней любовью.
– Ты мне не понравился, Хавьер, – сказала она. – Такой же, как все: животное – ничего больше.
Она убила меня своими словами: услышать такое – хуже, чем пулю в висок.
В наш маленький бар приходил не только Хемингуэй.
Здесь побывало много разных писателей, и каждый по-своему причастен к тому решению, которое я принял окончательно и бесповоротно. Ну конечно, прежде всего это Хемингуэй. Другие писатели были, разумеется, не такого масштаба, да и помоложе и, как бы это сказать поточнее, еще не определились в своем отношении к писательству Сюда наведывался Лако Сепеда [42]42
Сепеда Рамос, Лако Эраклио (р.1937) – мексиканский прозаик, поэт, актер.
[Закрыть]со своими фантастическими рассказами о китах, о ночных налетах, о генералах... Он утверждал, что Слово важнее Пера. Приходил и Рамирес Эредиа [43]43
Рамирес Эредиа, Рафаэль (р.1942) – мексиканский прозаики драматург.
[Закрыть], то с какими-то стариканами, то с девочками, чтобы выпить свой любимый «негрони». Приходил и Поли Делано, однажды он подарил мне свою книгу, и теперь, когда я уже чувствую свои годы, мне вспоминается, как он говорил о старости, сравнивая ее с подъемом в гору: чем выше поднимаешься, тем тяжелее и чаще дыхание, но зато перед тобой все более широкая панорама. Теперь я в этом убедился, а тогда лишь чутьем понял, что он прав. Словом, я начинаю писать, да-да, маленький и великий Хавьер начинает писать, хотя ему хорошо известно – он тоже натура творческая, – что дело вовсе не в том, чтобы сесть за машинку и стучать по клавишам, да, не только в том, чтобы открыть чистую тетрадь и взять перо. И опять же не в том, чтобы беспрестанно думать о Ванессе и написать о своем «Поражении»... Это, видимо, приходит из других миров, из таинственных сфер. И приходит властно, так, что внутри все щемит.» Нет, я не последую примеру Эрнеста, который стал великим романистом, но как музыкант – он сам признавался – хуже некуда. Я не последую его примеру. Я сумею писать хорошо, да и музыкантом я был – высокого класса.
ГЛАВА VII
Чего, собственно, говорить, если это факт: стоит мне попасть в новую обстановку, ну скажем, туда, где большинство людей меня не знают, я сразу привлекаю внимание, сразу ловлю на себе взгляды – недобрые, брезгливые, подозрительные. Вот и сейчас именно таким взглядом следит за мной этот тип с большими усами – его зовут Маркос, так бы и припечатал меня хлестким словцом, чтобы все загоготали, а то нажмет вдруг на спусковой крючок и продырявит насквозь. Ничего не поделаешь, нам как минимум не хватает двух столетий, чтобы стать людьми цивилизованными, культурными. Но меня, если честно, ничего уже не трогает. В свои двадцать восемь лет (и пусть никто не думает, что я убавил себе хотя бы полгода) я совершенно излечился от страха, от чувства неловкости, тем более когда знаешь этос юных лет, как в моем случае. В шестнадцать я уже четко понимал про себя все что надо, а потому начал решительно противиться идиотским и категоричным наставлениям отца... И в семнадцать ушел из дому. На какие-то гроши, которые получал за рисунки к двум журналам мод, я снял комнатушку под самой крышей и начал свободную и, каюсь, распутную жизнь. И был счастлив, не испытывал никаких сомнений насчет себя, хотя и понимал, как страдает из-за всего этого моя мать. Что поделаешь – другого выхода не было. А мать, она всегда сражалась с моим отцом и самоотверженно поддерживала меня в любой ситуации. Теперь, когда прошло почти десять лет, я, подводя итоги, могу с уверенностью сказать, что в общем и целом я был действительно счастлив, несмотря на все мои страшные переживания сегодня, несмотря на эту тоску, которая не отступает ни на час. Моя жизнь после принятого тогда решения была по сути дорогой к самосовершенствованию через любовь (а я прошел через все, буквально через все), и эта любовь обрела наконец реальную форму, когда после стольких душевных метаний, потерянных иллюзий, всяческих безрассудств и поисков я, слава богу, встретил Хенаро. Наши отношения складывались постепенно, из мелочей, из самых, казалось бы, незначительных жестов, поступков – улыбка, всегда в кармане плитка шоколада, да мало ли, все это детали, которые сливаются в единое целое, кристаллизуются в нечто прозрачное, гармоничное, как хрустальный шарик, сквозь который смотрит гадалка, предсказывая будущее. С каждым месяцем мы все больше становились настоящей парой, мы как бы срастались друг с другом, обретая полную уверенность в том, что нас – двое, не он и я, а мы – двое. И были готовы соединиться навсегда, жить одним домом. Но вдруг, кто его знает, по какой тайной прихоти случая, будто в дурном сне или в фильме ужасов, в нашу жизнь вторглись проклятые лилипутки.
– Спел бы и ты что-нибудь, Маракаибо, – говорит мне усатый. У меня другое имя, и я не понимаю, почему этот чилиец с ногой в гипсе окрестил меня так с того первого вечера, когда я совершенно случайно забрел в пиано-бар, куда хожу теперь почти ежедневно, чтобы хоть как-то убить мучительные часы между вечером и рассветом, такие холодные, пустые... Хожу, чтобы не терзать себя воспоминаниями о Хенаро, о наших походах в кино, в чайный салон, к друзьям, к родственникам, в роскошную Зону Росу [44]44
Зона Роса – аристократический квартал в Мехико.
[Закрыть]на выставки; потом-то мы, как правило, оказывались в моей квартирке или в загородном домике, который нам предоставляли Алекс с Билли, это в самой глуби соснового леса, и всегда нас ждал любимый ликер, две-три рюмочки... Музыка настоящего счастья и ласки, Господи, какие ласки! И откуда, ну откуда, о Господи, взялась эта напасть? Откуда явились эти окаянные карлицы?
– Да не ломайся, Маракаибо, давай хоть одну, – наседает тип, которого зовут Маркос.
– Так я ж не умею петь! – отвечаю, старательно улыбаясь.
– А что ты умеешь, ангелочек? – спрашивает накрашенная старуха, сидящая напротив.
– Много чего, детка, но петь – нет. Вот слушать, пожалуй – да!
– Только это! Даже не знаешь такую песенку, как «Король»?
Пианист – его зовут Хавьер, вполне приятный тип, он точно сросся с роялем, прямо кентавр, – протягивает микрофон, точно предлагает его на аукционе.
– Ну-ка, ну-ка! – улыбается, стараясь поднять настроение своих клиентов в эти вечерние часы, когда на душе тоскливо и муторно. Гонсало отталкивает от себя микрофон, но успевает напомнит пианисту о «Семи ножевых ударах», которые он готов слушать день и ночь. Маркос уверяет, что у него сел голос и ему лучше не петь. Наконец соглашается Рауль, молодой человек с трагическим лицом. Он как-то плотоядно притягивает к губам микрофон и два раза дует в него – пф, пф, – проверяет, в порядке ли.
– Ну ладно, Хавьерчик, – говорит, – споем для Маракаибо. – И начинает песню, очень модную в начале семидесятых, когда я был с Рикардо Луисом. Эту, где поется: «И я готов бежать по следу твоему, как волк обезумевший...» Ах, как она мне нравится, какие воспоминания вызывает о тех безумных днях в Пуэрто-Вальярте [45]45
Пуэрто-Вальярта – мексиканский торговый и туристический порт в штате Халиско.
[Закрыть], да и парень поет очень здорово. От этой мелодии у меня перед глазами встает все связанное с моим Рикардо Луисом, накатывает, вырисовывается все четче – «с дверью, открытой нараспашку...» – и уже прокручивается в памяти то, что было дальше, что неизбежно приводит к Хенаро, к нашим отношениям, которые так жестоко и необъяснимо оборвались из-за этих лилипуток, будь они прокляты. О Господи, как хрупко все в этом мире!
Сеньор Ласло, главный продюсер, позвал меня однажды вечером и спросил, не соглашусь ли я ввести в телесериал, который мы скоро начнем снимать, еще одно действующее лицо – лилипутку. У него вечно возникали самые неожиданные идеи, когда более, когда менее гениальные. В прошлый раз он навязал мне героя, который после пятнадцатилетнего брака бросил жену и стал жить с... уточкой.
– Великолепно, сеньор Ласло! – сказал я. – Они такие пластичные, правда? И такие странные!
– И как ты это представляешь? Какой она будет на экране?
Я задумался и, помедлив, сказал:
– Ну, наверное, как в цирке: котелок, балетное трико... Что-нибудь в этом роде. И пухленькая.
– Но как ты ее вставишь в сценарий?
Я подумал еще немного – у меня никогда не было быстрой реакции – и сказал:
– Она влюбит в себя нашего полковника, завладеет его душой, порушит его семейную жизнь – словом, растопчет все и вся.
Сеньор Ласло глянул на меня с довольной улыбкой и поручил отыскать карлиц для пробы.
– Надо выбрать красивую, но главное, чтобы в ее глазах, в улыбке было что-то порочное.
Сказал все это с такой горячностью, что я не мог не подумать: «Видимо, давно мечтает затащить в постель лилипуточку». И невольно возник перед глазами образ похотливого карлика с могучими причиндалами.
Словом, я незамедлительно начал действовать, и через два дня мне позвонила моя приятельница:
– Луис? Я нашла фантастическую карлицу... Где и когда мы встречаемся?
В пять двадцать я, почему-то волнуясь, открыл дверь моего офиса, и вошла Марикрус с крошечной женщиной – ну что-то потрясающее! Она была чуть меньше метра ростом и одета так, точно собралась на карнавал в Рио-де-Жанейро. Ее нежная и наивная улыбка сразу тронула меня, нет, правда, она показалась мне очень деликатной и нежной.
– Как тебя зовут, дорогая? – спросил я.
– Марибель. Я лилипутка Марибель. – В ее голосе чувствовалась настороженная сдержанность.
– Садитесь, садитесь, пожалуйста, – сказал я, пропуская их в комнату. Пока пили чай, я беседовал с ней, как беседую со всеми в подобной ситуации.
– Плохо, что у тебя нет никакого опыта в кино.
– Но мне так хочется попробовать!
У нее и впрямь было очень красивое личико, без типичных для карликов черт – ни выдающихся скул, ни приплюснутого носа, ни деформированных ушей. Я мысленно приставил это лицо к телу нормальной женщины – ну просто чудо!
– У тебя есть жених... друг сердца?
Ресницы ее дрогнули, она глянула на меня и, осмелившись быть смелой, сказала:
– Это разве должно входить в мой curriculum?
Я не знал, что ей ответить, поскольку задал этот вопрос в надежде, что вдруг в уголках губ появится хоть какой-то намек на порочность, о которой возмечтал сеньор Ласло. И снова мысленно увидел карлика со всем его хозяйством. Мы условились встретиться на другой день в студии.
Все это вполне может походить на рассказ, достойный пера знаменитого Риплея [46]46
Джордж Риплей (1893-1949) – американский журналист, вел во многих газетах мира популярную колонку «Хотите верьте, хотите нет!».
[Закрыть], что-то потустороннее, ибо Марибель была не единственной карлицей, с которой я сумел познакомиться в течение дня. И, к слову сказать, не самой интересной. Второе маленькое чудовище предстало передо мной, когда я вошел в дом на проспекте Реформы, где мы с Хенаро собирались снять прелестную квартирку, под окнами которой мягко покачивались верхушки деревьев, точно волны безбрежной зелени. Я постучал привратнику, чтобы попросить ключи, и мне явилось одно из самых дьявольских и неприкаянных существ, какие я когда-либо встречал. Спину пронизал холод, и я чуть не закричал от ужаса, но сдержался, крик застрял комом в горле, что стоило мне огромных усилий. Смуглая и совсем молоденькая лилипутка – лет семнадцати, не больше – с чувственными, точно набухшими, губами, напоминающими моллюска. «Карлица-шлюха», – ахнул я и совершенно растерялся, в голове вертятся мысли о сеньоре Ласло, о телесериале, а я, не зная, что сказать, стою и смотрю, не отрывая глаз, словно в этом крохотном создании – она казалась еще меньше из-за горба почти совершенной овальной формы, который странно острился по всей спине, – заключалась какая-то особая магнетическая сила.
Взяв ключ, она поднялась со мной в квартиру. Мое замешательство росло и стопорило разговор, который мог быть на пользу и телесериалу, и странным образом прихотям продюсера.
– Тебе нравится телевидение? – спросил я, кое-как овладевая собой.
– Меня называют Нелли, – сказала она.
И чуть погодя, пока я мерил шагами расстояние от стены до стены, от двери до окна, определяя метраж гостиной, карлица повторила:
– Меня называют Нелли. – И посмотрела мне прямо в глаза, а затем, спустя минуты две, как бы напомнив, что она здесь, в комнате, мол, где ей еще быть, сказала:
– Меня называют Нелли.
Когда мы спускались вниз, она, вжавшись в угол лифта, глянула на меня пристально, то ли с укором, то ли с досадой, и вот тут – да, тут я увидел эту бесстыдную, вызывающую порочность без всякого притворства, и не столько в уголках рта, сколько в откровенно зовущем блеске глаз, словом, увидел то, что так упорно искал сеньор Ласло.
– Меня называют Нелли, – все твердила она.
До чего все это любопытно, скорее, не так любопытно, как загадочно! Почему вдруг сошлись воедино обстоятельства, которые толкнули мою жизнь именно в эту сторону? Что тут за тайна? За последние двадцать лет я всего лишь раз видел карлицу, и притом отвратительную – полураздетую, в каких-то лохмотьях, в красных и желтых чирьях, это было на ярмарке в Акапулько, куда мы с Рикардо Луисом попали совершенно случайно. Так почему же теперь, в один день, они напали на меня со всех сторон, точно гадюки?! Ведь день еще не закончился, когда появилась третья, самая грешная из трех лилипуток, – Хулиета. Я уже клялся тысячу раз, что затопчу, уничтожу эту гадину, где бы она мне ни встретилась! Да пусть их, этих извращенок, пусть делают что хотят, мне без разницы! Но зачем было лезть в мою жизнь и рушить то, что стоило таких усилий, такого упорства, такой деликатности и мастерства? (Я, само собой, имею в виду любовь.)








