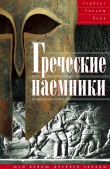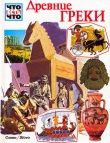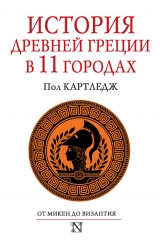
Текст книги "История Древней Греции в 11 городах"
Автор книги: Пол Картлидж (Картледж)
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Глава 5
Массалия
Из «Восточной Греции» мы переместимся на запад – «золотой запад», каким он виделся многим в Древней Греции. Он простирался от Сицилии через Мессинский пролив к югу Италии (Magna Graecia – «Великая Греция» по-латински), югу Франции и восточному побережью Испании. Земли вдоль этого маршрута, который одним известен как Midi [26]26
Досл. «юг» (фр.).
[Закрыть], другим – как побережье Прованса (от латинского provincia,поскольку это была провинция Римской империи Gallia Narbonensis, названная по имени своего главного города Narbo,нынешнего Нарбонна – Narbonne), казались греческим морякам, торговцам и потенциальным колонистам конца VII в. до н.э. девственным краем, созревшим для эксплуатации. Действительно, финикийцы из Ливана (прежде всего Тира и Сидона) прошли здесь несколькими столетиями ранее и оставили память о себе, в том числе, как мы вскоре увидим, и в топонимах. Другими посетителями здешних мест были этруски (с территории современной Тосканы). Но по какой-то причине ни те ни другие не остались здесь на постоянное жительство. Финикийцы же двинулись дальше, в Испанию и основали такие города, как Малага и Кадис. По мере своего продвижения они создали цепочку поселений на берегах Южного Средиземноморья, самыми крупными из которых стали Утика и Карфаген. Те поддерживали постоянные контакты с целой группой постоянно функционировавших форпостов – таких как Мотия и Панорм (позднее Палермо) на восточной оконечности острова Сицилия.
Тот факт, что ряд городов и поселений прибрежных районов Прованса был основан греками, выдают уже их названия: Антиб вначале назывался Антиполисом – «городом, лежащим напротив», а Ницца именовалась Никеей в честь греческой богини победы Ники. Но наибольший интерес представлял (и представляет) самый крупный из них – Марсель, первоначальное название которого, Массалия, не греческое, а финикийское, и означает всего-навсего «поселение». Около 600 г. до н.э. – как раз тогда, когда в Милете столь плодотворно работал Фалес, – группа греков из Фокеи (области в той самой Ионии, крупнейшим городом которой был Милет) решила обосноваться здесь навсегда. Это решение положило начало истории Марселя, и отчасти по «шовинистическим» причинам (ведь именно массалиот Пифей, один из полудюжины величайших исследователей земного шара, впервые – около 300 г. до н.э. – нанес на карту Британию), отчасти по веским историографическим основаниям я выбрал Массалию, чтобы представить читателю «западных греков». (Второй город, выбранный мной для этой цели, – Сиракузы.)
Значительно позже литературные источники зафиксировали красочный рассказ о смешанном браке между греками из Фокеи (современное поселение Фока в Западной Турции) и представителями местного кельтского племени лигуров. Главную роль здесь сыграл союз ойкиста (основателя) Протиса (или Эвксена) с лигурийской царевной по имени Гиптис (или Пета), дочерью царя Нанна. Это мифическое повествование – так же, как и, например, миф об основании Мегар Гиблейских на Сицилии, – использовалось, чтобы представить греческую колонизацию как нечто «солнечное» и счастливое, как историю добровольного и плодотворного сотрудничества между гостеприимным местным населением и пришельцами-греками, с уважением относящимися к нему. В противоположность ей можно упомянуть неприглядные события в Таренте (Таранто), где греческим переселенцам, прибывшим из Спарты примерно в 700 г. до н.э., пришлось сражаться за свой новый дом с местными жителями, япигами; бои продолжались снова и снова, и грекам довелось пролить немало крови и не раз пожалеть о случившемся. Но насколько легенда об основании Массалии соответствует действительности – имя ойкиста передано в разных источниках по-разному, а упоминание о романтических чувствах было, разумеется, привнесено в описание династического брака, заключенного с дипломатической целью, позднее, с целью приукрасить его, – это другой вопрос, на который невозможно ответить.
Однако археологические данные вкупе с некоторыми намеками в тексте Геродота подтверждают, что основатели Массалии действительно происходили из Фокеи Ионийской. Фокеяне, как сообщает Геродот, торговали на востоке. Плавали они не на «круглых» парусных купеческих судах: их суда представляли собой видоизмененную модель тогдашнего типового военного корабля. Эти «длинные» (военные) корабли были известны под названием пентеконтер (буквально «пятидесятивесельных»): на них находилось два параллельных ряда гребцов (при необходимости выступавших в качестве торговцев или воинов), по 20–25 человек в каждом. Такая большая численность команды оборачивалась практически полным отсутствием выгоды по завершении путешествия (им приходилось платить гораздо больше, чем команде парусника). Но все же корабли данного типа в общем и целом увеличивали выгоду фокеян, поскольку обеспечивали им защиту не только от пиратов, но и от агрессивных торговцев-конкурентов – финикийцев и этрусков (из Тосканы).
Основание Массалии представляло собой лишь один из элементов сложной общей картины. Начиная приблизительно с 800 г. до н. э. предприимчивые греки из Эгеиды стали плавать по Средиземному морю во всех направлениях. Преследовали они разные цели: торговали, в особенности металлом и рабами, разыскивали новые земли для поселений и новые источники предметов роскоши для импорта, нанимались на службу для участия в боях, путешествовали и просто так, для удовольствия или совмещая приятное с полезным. На восточных берегах Средиземного моря, по пути на Кипр, они повстречали финикийцев, жителей Ливана; именно у них – по прошествии веков отсутствия письменности после исчезновения «линейного письма Б» – греки вновь научились писать. Но, что характерно, греки не просто позаимствовали финикийские буквы – они создали совершенно оригинальный алфавит, основанный на фонетическом принципе. Один из самых ранних текстов, записаных с помощью алфавита, начертан на родосской вазе, опущенной приблизительно в 730 г. до н.э. в греческую могилу на острове Искья (античная Питекуса) в Неаполитанском заливе. Если говорить о северо-восточном направлении, то (как мы уже писали в главе о Милете) предприимчивые греки-эмигранты миновали Геллеспонт и Боспорский пролив и расселились по берегам Черного моря. На западе (о котором пойдет речь ниже в данной главе, а также в той, что посвящена Сиракузам) они добрались через Южную Италию и Сицилию до северо-востока Испании, а затем одни – до севера Африки, другие – до юга Франции.
Сотни постоянных поселений, основанных вокруг Средиземного и Черного морей начиная с 750 г. до н. э. и расположившихся на побережье, по изумительному выражению Платона, «словно лягушки вокруг пруда», ошибочно называют колониями. Но то были новые независимые греческие города; иногда, изначально основанные как торговые пункты – эмпории – или перевалочные пункты, они приобретали независимость позднее. Основанию каждого такого поселения сопутствовали разнообразные факторы, имевшие как общий, так и индивидуальный характер. Однако вне зависимости от места при этом неизменно преследовались две цели: во-первых, требовалось сырье, а во-вторых – земля, на которой можно было бы поселиться и которую можно было бы обрабатывать. И кроме того, практически во всех случаях поселенцам нужно было как-то наладить отношения с местным населением вне зависимости от того, где оно обитало – прямо на тех землях, где хотели обосноваться греки, поблизости на побережье или на территориях, лежащих далее в глубь страны.
Преимущества, связанные с географическим положением Массалии, находившейся возле устья крупной системы рек (Рона), имевшей удобные гавани и естественную защиту в виде холмов, были исключительно велики. Аборигены, даже если они не были столь дружественно настроены по отношению к переселенцам, как гласит традиция, тем не менее не представляли особенно серьезной угрозы существованию и благоденствию поселения. Нам мало известно о политической системе нового полиса в Массалии. Мы бы знали о ней гораздо больше, если бы до наших дней сохранилась Аристотелева «Конституция массалиотов» (она дошла до Страбона, жившего всего на 300 лет позже, цитата из сочинения которого приведена в эпиграфе); этот текст представлял собой один из 158, составленных им вместе с учениками в Ликее (см. седьмую главу). Но по-видимому, она управлялась (подобно тому как средневековые итальянские города-государства управлялись семьями аристократов и купцов) небольшим советом богатейших граждан, которые сами выдвигали свои кандидатуры и сами регулировали его деятельность. Во всяком случае, за удивительно короткий срок Массалия настолько укрепила свои позиции и настолько разрослась, что смогла основать собственные колонии, такие как Эмпорий (Ампуриас) на северо-востоке Испании. Опять-таки, как показали раскопки в Торрапаредонес близ Кордовы, греков прежде всего интересовали металлы – например, те, которые добывались в горах к северу от Кордовы. Однако путешествие Эвтимена в Восточную Африку ок. 550 г. до н.э. выявило существование чего-то совершенно иного, а именно крокодилов в устье реки, очевидно, Сенегала.
Многие виды товаров греческого производства проделали путь из греческой Эгеиды через Массалию в земли племен в глубине материка. Разумеется, куда большее впечатление, чем другие предметы, производит так называемый кратер из Викса, массивная (высота 1,64 м, вес – 208 кг, вместимость – 1100 л) бронзовая чаша для смешивания вина, изготовленная, вероятно, в Спарте приблизительно в 530 г. до н.э. Она была богато декорирована, в том числе фризом с рельефным изображением по краю сосуда шествия тяжеловооруженных греческих пехотинцев, крышка же сделана в виде закутанной женщины. Этот удивительный артефакт в конце концов оказался в погребении кельтской принцессы в давшем название находке Виксе, неподалеку от слияния Роны и Сены. Не исключено, что он символизировал собой вклад в экономические, политические и социальные отношения – вероятно, дар греков местному племенному вождю, в дипломатических целях, однако в то же время сосуд, имевший вполне практическое назначение, а именно смешивание вина с водой (или несмешивание оного; во всяком случае, греки считали типичным для «некультурных» варваров пить их вино неразбавленным) для употребления на кельтских пирах, где вино лилось рекой.
Откуда же, однако, оно бралось? Было ли произведено то, которое смешивалось (или не смешивалось) в кратере из Викса, на месте или нет – во всяком случае, могло быть сделано здесь, но только потому, что греки из Массалии привезли в провансальские края виноградную лозу двумя поколениями (или около того) ранее. К 600 г. до н.э. виноградарство уже полтора тысячелетия являлось важнейшей и неотъемлемой чертой земледелия внутренних греческих земель. Бо́льшая часть вина, производившегося там, наверняка не отличалась высокими вкусовыми качествами. Добавление воды, хотя и представлявшее собой необходимое требование культуры для цивилизованных греков, несомненно, имело также и вкусовую функцию. Однако в раннеисторический период некоторые винодельческие области Греции – в особенности острова Хиос и Фасос – производили вино самого высшего качества, которое вывозили на продажу в дальние края в глиняных амфорах, выполненных в характерном для места производства стиле. В свою очередь, Массалия, также активно торговавшая вином, производила и экспортировала амфоры для перевозки вина собственного образца, являвшиеся своего рода торговой маркой массалиотов и выполнявшие важную роль в деле функционирования города как крупного транзитного центра.
Некоторые ученые, склонные идти еще дальше, доказывают, что именно благодаря грекам из Массалии оливководство впервые проникло на юг Франции. Конечно, ионийцы, подобно фокейцам, продавали очищенное оливковое масло жителям греческих поселений, основанных на северном побережье Черного моря, поскольку там олива не могла вынести холодной зимы, и потому их соплеменники – колонисты с запада отлично наладили торговлю маслом. Однако даже если именно они впервые привезли в Массалию побеги, саженцы и корни оливы, то равным образом (и это даже более возможно) таковые могли быть выращены на юге Италии; еще вероятнее, что не греки, а финикийцы или этруски (засвидетельствовано кораблекрушение этрусского торгового судна, датируемое примерно 600 г. до н.э., которое «раскопали» у острова Джильо) буквально насадили оливководство на юге Франции, используя растения из родных Ливана или Тосканы. Хотя Массалия и не внесла большого вклада в сокровищницу литературы и изобразительного искусства греков (в отличие от других западногреческих городов – Кротона и Тарента на юге Италии, например), во многом именно благодаря ей в Западной Европе распространилось полезное достижение культуры, до сих пор приносящее радость многим народам.
Примерно в 545 г. до н.э. обретшая независимость и усилившаяся Персидская империя заявила о себе на эгейском побережье (см. предшествующую главу), и Геродот рассказывает колоритную историю о том, как персы осаждали метрополию Массалии Фокею и как жители покинули ее. Не желая смириться с персидским «рабством», оставшиеся фокейцы последовали примеру своих предков, в недавние времена начавших эллинизацию Запада. Они не в переносном, а в самом прямом смысле сожгли свои корабли, а именно бросили кусок железа в море и поклялись именем богов не возвращаться на родину до тех пор, пока железо не всплывет на поверхность воды, то есть, по сути, никогда. Во время добровольного изгнания сначала они жили на Корсике, а затем поселились в Регии (южная оконечность Италии, нынешний Реджо-ди-Калабриа). Однако, как гласит поговорка, никогда не говори «никогда»: настали более счастливые времена, две трети потомков эмигрантов вернулись после греко-персидских войн 480-х гг. до н.э. [27]27
В действительности тот этап греко-персидских войн, о котором здесь идет речь, относится скорее к 470-м гг., а именно 480–478 гг. до н.э. – Примеч. пер.
[Закрыть]и вступили в антиперсидский Афинский морской союз, ежегодно внося «дань» относительно небольшого размера – три таланта серебром (см. ниже седьмую главу).
Однако все это время – по крайней мере раз в несколько лет – они могли встретиться со своими сородичами из Массалии или в Олимпии или, что куда более вероятно, в Дельфах, где массалиоты тратили значительную часть накопленных богатств, устраивая себе блистательную саморекламу – они возвели великолепную мраморную сокровищницу, где хранили изящные посвятительные дары – бронзовые сосуды и статуэтки, ювелирные изделия из золота и другие подобные предметы, поднесенные гражданами Массалии (см. Приложение).
Глава 6
Спарта
Ночь была на исходе, когда я с неохотой оставил эти прославленные руины, тень Ликурга, воспоминания о Фермопилах и все образы мифов и истории.
Ф. де Шатобриан. Путешествие в Грецию, Палестину, Египет и варварские страны
Из всех тех, о ком я пишу в этой книге, спартанцы, вероятно, возрадовались бы, увидев, что им посвящено самое короткое предисловие. Они – святые покровители брахиологии, непревзойденные мастера кратких ответов. Именно в их честь мы до сих пор называем такие фразы лаконичными, поскольку в древности одним из названий спартанцев было «лаконяне», откуда происходит притяжательное прилагательное lakônikos. Примеров этому множество, причем приобретших широчайшую известность. Один из самых моих любимых приведен Геродотом в 46-й главе III книги, где рассказывается о событиях примерно 525 г. до н.э. Некие изгнанники с острова Самос призывали спартанцев помочь им вернуться на родину, произнеся «речь, длина которой была под стать трудности их положения». Однако спартанцы ответили, что речь слишком длинна и сложна и они забыли, что самосцы сказали в начале, а потому не понимают сказанного дальше. Самосцы приняли это к сведению и, вновь явившись просить о помощи, не стали произносить речь по всем правилам, но указали на пустую суму и прибегли к иносказанию: «Сума просит хлеба». Спартанцы заметили по поводу этого безмолвного представления, что даже слова «сума» было слишком много, однако просимую военную помощь предоставить согласились.
Для спартанцев имели значение не слова, а дела, и это отчасти объясняет, почему имеющиеся в нашем распоряжении письменные свидетельства по истории Спарты столь скудны – по крайней мере по сравнению с Афинами. Спартанцы были настолько отрицательно настроены к письму, что сознательно оставляли свои законы незаписанными, и существовавший запрет указывать имена на могильных камнях соблюдался. Было, однако, два исключения: для павших в сражении воинов и, согласно дошедшему до нас тексту Плутарха, для жриц, которые умерли, исполняя свою должность. (Ниже я еще вернусь к вопросу о положении спартанских женщин.) То, что исключение делалось для воинов-героев, говорит о многом. Единственные среди греков, спартанцы до конца V или даже начала IV в. до н.э. как следует упражнялись в воинском искусстве. Они, как мы увидим, подчинили весь свой распорядок жизни требованиям боевой подготовки. Единственной причиной для такого общественного устройства было их решение поработить целую греческую народность, а также то, чтобы эта народность не только оставалась порабощенной и в дальнейшем, но и обеспечивала функционирование спартанской экономической системы.
Подобный исход едва ли можно было предсказать в конце XI или в X в. до н.э. – во времена, когда на месте исторической Спарты впервые появляются признаки жизни после длительного запустения из-за неких катаклизмов в конце позднего бронзового века, где-то около 1200 г. до н.э. Лакония – название римского происхождения [28]28
Другое название Спарты и прилегавшей к ней области – Лакедемон, которое мы и будем иногда использовать во избежание бесконечных повторов, хотя автор его не употребляет. – Примеч. пер.
[Закрыть], которое условно применяется к области на юго-востоке Пелопоннеса, в центре которой находится плодородная долина Эврота и ограничивается горным хребтом Тайгет (наибольшая высота – 2404 м) и Парнасом (1937 м). В Лаконии не обнаружено ни одного дворца микенских времен, однако если там и существовал дворец, сопоставимый с тем, что существовал в мессенском Пилосе, поскольку, согласно гомеровской «Илиаде», здесь находился дворец Менелая, брата великого царя Агамемнона и супруга несказанно прекрасной Елены, то он должен был стоять где-то в долине Эврота: или на севере ее, примерно на месте исторической Спарты, или дальше к югу – волнующие перспективы открывают в этом отношении недавние находки табличек с «линейным письмом Б», сделанные А. Василиосом.
Первая из указанных локализаций больше нравилась самим спартанцам исторических времен. Где-то около 700 г. до н.э. они возвели святилище и храм в честь Менелая и Елены на обрыве над Эвротом, всего в нескольких километрах от центра города. Применительно к более позднему времени в Амиклах, в нескольких километрах к югу, засвидетельствован и культ Агамемнона, брата Менелая. Однако главной спартанской религиозной святыней был храм Афины Градодержицы [29]29
Из-за медной крыши его называли храмом Афины Меднодомной. – Примеч. пер.
[Закрыть], располагавшийся на том месте, которое могло сойти за акрополь (по сравнению с афинским выглядевший довольно убого). В культовом отношении куда более важным, чем Менелай, Елена или даже Агамемнон, являлось святилище местной богини растительности и плодородия Орфии (позднее отождествленной с Артемидой, богиней охоты, диких животных и переходного состояния от половой незрелости к зрелости), находившееся прямо на берегу Эврота, и храм Аполлона и Гиакинфа, который стоял к югу от Амикл, в политическом отношении неотъемлемой части города.
Я начну с религии, поскольку, хотя для всех эллинов религия и политика и шли рука об руку, лакедемоняне, похоже, были особенно благочестивы – или суеверны. Дважды Геродот говорит, что они считают дела божественные куда более важными, чем сугубо мирские, – так, впрочем, полагали все греки. Однако повидавший свет историк, очевидно, подразумевал, что спартанцы в рамках своих представлений о долге перед богами подходили к делу с точки зрения религии даже тогда, когда другие греки так не поступали. Знамения и чудеса они всегда воспринимали очень серьезно. Например, весь их свод законов и общественный порядок приписывались вещаниям оракула Аполлона в Дельфах. В этом отношении они отличались от многих других греческих полисов, которые обращались к Аполлону Дельфийскому в основном в тех случаях, когда речь шла об основании поселений на чужой земле. Имелись достаточно веские причины для основания спартанцами только одной заморской колонии (Тарент, нынешний Таранто в Южной Италии), чем они сильно отличаются, например, от Милета с его многими десятками рассеянных по дальним берегам колоний.

Рис. 3.Спарта
Согласно мифам, спартанцы приписывали основание своего города «потомкам Геракла» [30]30
Или Гераклидам. – Примеч. пер.
[Закрыть]и сочинили запутанную историю о том, как правнуки этого великого героя «возвратились» вместе с дорийцами на Пелопоннес из изгнания, чтобы вернуть себе принадлежавшее им по праву (см. об этом третью главу). В свете археологических данных заселение территории Спарты впервые прослеживается применительно к концу XI или началу X в. до н.э., и местные находки в отличие от Амикл свидетельствуют о резком культурном разрыве между материалом конца бронзового века и ранних «темных веков». Действительно, если не считать непритязательной расписной керамики и немногих расписных пряслиц, обнаруженных в святилище в Орфии, и несколько более многочисленных артефактов, включающих грубые бронзовые изделия из Амиклейона [31]31
Имеется в виду святилище Аполлона Амиклейского. – Примеч. пер.
[Закрыть], здесь можно найти что-то свидетельствующее разве что об обитании, но никак не о процветании, раньше VIII столетия до н.э., а конкретно – его второй половины.
Это было в то время, когда, согласно принятой в древности датировке, спартанцы приняли знаменитое и весьма важное решение расширить собственную территорию, завоевав и подвергнув постоянной оккупации землю своих соседей с гомеровских времен, известную как Мессения. В процессе оккупации они также подчинили основную часть мессенского населения, ту, которая обитала в плодородной долине Памиса (причем столь же обширной и еще более плодородной, чем долина Эврота), и низвели побежденных до рабского статуса, сделав их основными производителями. Они стали называться илотами (буквально «пленные»). Эти завоевание и оккупация, грубо говоря, разом решили любые возможные вопросы, связанные с нехваткой земли. Однако оставался еще сложный вопрос о том, как распределить захваченную землю между спартанцами. Но оккупация и подчинение имели также тот результат, что, как обнаружили спартанцы, поскольку мессенцы были греками-дорийцами, многие из них сумели сохранить своего рода самосознание свободных людей, которых несправедливо и почти неестественно лишили свободы, правом на которую греки обладают от рождения. Более того, когда представился случай, эти илоты тотчас же подняли восстание, чтобы возвратить себе это право. Впервые такой случай имел место в середине VII в. до н.э., всего через пару поколений после первого завоевания, и причиной его (или по крайней мере побудительным мотивом) стало крупное поражение спартанцев от аргивян при Гисиях в 669 г. до н.э. (см. конец третьей главы). Спартанцам потребовался не один год, прежде чем они справились с этим первым большим восстанием, и как только им это удалось, они решились на серьезные внутренние изменения или даже революцию, которые превратили Лакедемон в особый тип греческого полиса.
Реформы приписываются легендарному законодателю, который, как считается, носил имя Ликурга (дословно «волк-труженик»), однако скорее всего он не мог разом провести все те преобразования, творцом которых считается, и нет ничего невероятного в том, если он вообще не существовал как историческая личность. Во всяком случае, позднее его почитали скорее как своего рода божество, нежели как смертного героя. Суть «пакета» Ликурговых реформ составляли три ключевых аспекта – экономический, военно-политический и социальный.
Если говорить об экономике, то произошло известное перераспределение земли, прежде всего захваченной у мессенцев, так что все спартанцы получили доступ к некоему минимальному количеству земли, известному как klaros(клер), или «жребий», наряду с некоторым числом находившихся в общинной собственности порабощенных илотов, которые должны были работать на них. Почва Спарты, ландшафт, климат Лаконики и Мессении были (и остаются до сих пор – речь о снискавшей себе известность восхитительной мессенской каламате [32]32
Сорт фиолетовых оливок. – Примеч. пер.
[Закрыть]) чрезвычайно благоприятны для выращивания оливок, и обилие масла отчасти объясняет изобретение спартанцев, которое оказало такое влияние на мировую культуру: юноши и взрослые мужчины в обнаженном виде занимались атлетикой и другими физическими упражнениями (от греческого слова gymnos, «обнаженный», происходит gymnasion, наш «спортивный зал»), а затем, очистив тело бронзовыми скребками ( strigil), умащали его оливковым маслом. Был изобретен особый сосуд для хранения масла, который назывался арибаллом ( aryballos), и его бронзовые или расписные глиняные экземпляры могли приноситься в качестве посвятительных даров богам и богиням, например Афине и Артемиде в Спарте. Другие греки последовали примеру спартанцев, и в результате упражнения и мужские соревнования по атлетике в обнаженном виде сформировали особую маскулинную склонность к панэллинским играм – таким, как олимпийские, а несколько позднее вдохновили на создание чисто греческого типа статуй, известных под названием куросов – изображений юношей или молодых людей из камня или бронзы. Более того, они стали играть роль отличительного знака культурного превосходства над негреками-варварами, которые стыдились показаться обнаженными на людях.
В военном и политическом отношении все спартанцы становились равноправными участниками низового собрания воинов, однако они выражали свое мнение криком, а не правильной подачей голосов, к тому же выше этого собрания стоял аристократически настроенный сенат, называвшийся герусией [33]33
Совпадение названий, в сущности, полное, поскольку и греческий, и латинский термины происходят от слова «старец». – Примеч. пер.
[Закрыть], из тридцати государственных деятелей почтенного возраста, куда ex officioвходили и оба спартанских царя. Это было совместное наследственное правление, и избирались они только из двух аристократических родов [34]34
Речь идет о семействах Эврипонтидов и Агиадов. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Божественные близнецы Кастор и Поллукс были особым образом связаны со Спартой – их изображения выносили перед битвой как небесные символы земной диархии. Если не считать царей, остальные двадцать восемь членов сената, также избиравшихся криками на народном собрании, действительно являлись старейшими государственными деятелями, и поскольку, помимо знатного происхождения, они должны были достигнуть шестидесятилетнего возраста, назначали их пожизненно. Все полноправные спартанцы (взрослые мужчины соответствующего рода и воспитания) были экипированы для войны как гоплиты, по-видимому, в седьмом и шестом столетиях число их составляло 8000 или 9000 человек. Во всех других полисах только относительно небольшая часть, возможно, треть или что-то вроде того были гоплитами – так, если средний размер гражданского коллектива типичного греческого полиса имел численность от 500 до 2000 человек, то типичный греческий полис располагал менее чем 1000 гоплитами. Спарта же могла выставить в девять или десять раз больше.
Это был надежный базис, поскольку общественное устройство Спарты обусловливалось военными приоритетами. С семилетнего возраста спартанские мальчики «воспитывались» совместно, централизованно, под неусыпным контролем государства. Новые высшие исполнительные лица в государстве, избиравшиеся ежегодно и называвшиеся эфорами (буквально «надзиратели»), уделяли особое внимание мальчикам в возрасте от семи до восемнадцати лет, проходившим всестороннюю и интенсивную спартанскую выучку – или муштровку. Наиболее знаменитым из спартанцев, занимавших пост эфора, стал Хилон, который действовал в середине VI в. до н.э. и имел благодаря браку родственные связи с обоими царскими домами Спарты. По установленному в Спарте обычаю после кончины Хилон стал почитаться как герой – то есть человек, родившийся смертным, но по отхождении в мир иной, как предполагалось, поднявшийся выше состояния смертного и удостоившийся религиозного почитания. Точно такой же героический культ, естественно, полагался и всем спартанским царям, причем независимо от того, насколько успешно действовали они при жизни.
Спартанское гражданство доставалось нелегко. Не всякий, у кого отец и мать были лакедемонянами, обладал им. Первым «тестом» на его обретение являлось прохождение всех ступеней спартанской системы воспитания. Для представителей элиты существовал дополнительный уровень проверки: в возрасте между 18 и 20 годами, который предполагал, что почти взрослые люди «шли вразнос», переходя всяческие границы, в том числе и собственного разума, живя поодиночке, вне обычного сверхтщательного контроля со стороны общины, и в качестве доказательства своей мужественности убивали всякого илота, какой им только попадался, под покровом темноты, вооруженные только кинжалами, без прочих наступательных средств и какого-либо оборонительного снаряжения. Эти «криптии», или «тайные агенты», осложняли и без того напряженные отношения Спарты с илотами чем-то вроде государственного террора. И ничего удивительного, по-видимому, нет в том, что Аристотель уподобил илотов врагу, постоянно сидящему в засаде и ждущему случая, чтобы воспользоваться несчастьем своих господ.
Уже в конце VIII в. до н.э. Спарта начала отодвигать свои границы на северо-восток за счет земель Аргоса, что с неизбежностью привело ее к столкновению с последним. По большей части война в Древней Греции происходила в форме конфликта между соседями из-за какого-то куска территории. В первой половине VI в. до н.э., когда реформы Ликурга уже достаточно глубоко пустили корни, спартанцы почувствовали себя достаточно сильными, чтобы начать наступление из долины Эврота на север и вторгнуться в Аркадию. Здесь, однако, они неожиданно потерпели неудачу на равнине под Тегеей и решили удовольствоваться скорее символической гегемонией, чем полномасштабной оккупацией. Однако явным признаком их полной уверенности в том, что ни аргивяне, ни аркадяне, ни люди из какого-либо другого полиса не будут настолько сильны, чтобы нанести удар по Лакедемону, было то, что вплоть до II в. до н.э. они фактически не возводили городских стен (хотя к тому времени в город проникали враги – см. девятую главу). По сути, Спарта оставалась лишь квазиурбанизированной, и пять «деревень», которые образовывали город (четыре изначальных плюс Амиклы с середины VIII в. до н.э.), сохраняли определенную обособленность и особую идентичность. Например, четыре изначальных деревни создавали команды, чтобы соревноваться друг с другом во время спортивных состязаний, а жители Амикл совершали особые приношения своему местному божеству Аполлону и ежегодно справляли праздник Гиакинфии, чтобы противопоставить его ежегодному празднику Карнейи, также в честь Аполлона, но общий для всех дорийцев.