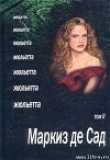Текст книги "Женское сердце"
Автор книги: Поль Бурже
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Я сдержал свое слово, милый друг, и написал г-ну де П… Письмо это, так дорого мне стоившее, докажет Вам, как я желаю сделать Вам приятное. Эта записка выразит Вам и всю мою благодарность. Не сожалеете ли Вы о том, что для меня сделали? Если, как я надеюсь, все устроится, я зайду к Вам завтра около двух часов и расскажу обо всем сам. Если бы я был уверен найти Вас такой, какой Вы были сегодня, я попросил бы Вас прийти ко мне выслушать все это и многое другое. Но я понимаю, что это было бы неосторожно. Не могу ли я надеяться, что Вы скоро вернетесь, если не ко мне, то в какой-нибудь более безопасный уголок, где бы я мог Вам подтвердить, насколько я весь Ваш.
Раймонд».
(Копия).
«Милостивый государь.
Накануне нашего поединка я решаюсь на шаг, который можно было бы странно истолковать, если бы я не доказал уже, как и Вы, впрочем, своей храбрости, и если бы не добавил, что Вы вольны не придавать никакого значения настоящему письму. В последнем случае считайте просто, что я ничего не писал Вам. Но я хочу облегчить этим мою совесть. Такие талантливые и достойные люди, как Вы, редки, и жизнь их слишком дорога стране, поэтому я, без всякого смущения, выражаю Вам сожаление по поводу того, что при нашем последнем свидании я не смог сдержать себя. Повторяю, милостивый государь, я пишу Вам, чтоб успокоить свою совесть, и если Вы не удовлетворитесь настоящими словами, я остаюсь в Вашем распоряжении, как было условлено. Но, что бы Вы ни решили, прошу Вас считать мое письмо доказательством моего особенного к Вам уважения.
Казаль».
– Генрих не может не принять извинений, сделанных в такой форме, – сказала молодая женщина, после того как несколько раз перечла оба письма Казаля, написанное на одном и том же листе бумаги; такое совмещение показалось ей несколько грубым, почти неделикатным, и в этом ей приходилось упрекнуть Казаля в первый раз за все их знакомство. Ей не хотелось бы, чтоб он одновременно и так свободно говорил и о своих чувствах, и о своем сопернике. Конечно, все дело сводилось лишь к тому, какой оттенок придал он своему отношению к ней; но для женщины, умеющей их отличать, этого было достаточно, чтобы она почувствовала боль, несмотря на тот страшный кризис, который она переживала. Точно так же было ей больно и от просьбы Раймонда о новых свиданиях, которые заключались в конце его письма. Под наружными выражениями уважения чувствовалось желание предъявить свои права на нее и на ее волю. Он обращался к ней как к любовнице, с которой еще не фамильярничают, но на любезность которой твердо рассчитывают. Неужели ей хотелось, чтобы Казаль, после того, как она отдалась ему, счел это случайным приключением, без всяких последствий. Ведь его записка доказывала, что он считает себя как бы связанным с нею! Но почему вместо того, чтобы увидеть в его словах доказательства его искренности, она почувствовала себя глубоко оскорбленной ими! А с другой стороны, не было ли у нее в руках доказательства, как он покорился ее желанию, написав де Пуаяну такое письмо, которое так трудно было ему написать. И ей стало досадно на себя, что она не чувствовала никакой благодарности за этот шаг, который непременно должен привести их к примирению. Она принялась взвешивать каждое слово в письме Казаля к де Пуаяну и должна была признать, что оно написано тонко и убедительно.
– Спасены! – сказала она себе, – они спасены! И теперь не жаль, что я погибла!
Но несмотря на эту надежду, ее беспокойство продолжалось, и около 10 часов она нашла какой-то предлог, чтоб послать к де Пуаяну. Ей необходимо было убедиться, что граф был дома. Когда она узнала, что, напротив, он вышел очень рано, – не сказав даже, когда вернется, – от надежды она перешла к тревоге, возраставшей с каждой минутой. Тщетно говорила она себе: «Как же я не подумала, что если дело уладилось, все же ему нужно повидать секундантов?» Но тревога ее не уменьшалась. Что делать? Разве послать и к Казалю? Она долго обдумывала, начинала несколько раз писать ему, но не решилась послать письма. В отчаянии она хотела послать к г-же де Кандаль, как вдруг отворилась дверь и вошла Габриелла. При виде ее расстроенного лица Жюльетта не могла уже более сомневаться:
– Они дерутся?… – воскликнула она.
– Наконец-то я тебя вижу, – сказала графиня, не отвечая прямо на вопрос Жюльетты, который она могла принять и за крик ужаса. – Я понимаю, ты все время после полудня пыталась убедить де Пуаяна… Но, узнав, в каком состоянии ты вернулась вчера, я тотчас догадалась, что тебе это не удалось. Да, они будут драться. Я теперь убеждена в этом. Вчера вечером я видела у мужа на столе запечатанный ящик с пистолетами, принесенный от Гастина… А сегодня утром, когда он уехал в восемь часов, ящика на столе уже не было… От швейцара я узнала, что он поехал к Казалю!..
Я все утро прождала его возвращения, чтоб узнать исход дуэли, какой бы он ни был. Прождав его до одиннадцати, я не могла оставаться долее в неизвестности. Но что ты сама знаешь, говори же, что ты знаешь?
– Я знаю, что Раймонд оскорбил Генриха, – ответила г-жа де Тильер, – больше ничего, и что в этом причина дуэли. Боже мой! Может быть, в эту самую минуту один из них умирает – и виновата в этом я! Поедем туда, Габриелла! Лишь бы не опоздать!.. Твой швейцар сказал тебе, куда поехал твой муж?.. А от швейцара Казаля или лорда Герберта можно узнать, куда они все наконец направились…
– Да ведь это же безрассудно, – возразила г-жа де Кандаль, во-первых, мы приедем слишком поздно, если бы нам и удалось их найти… А потом я не допущу тебя так скомпрометировать себя. Ты делу не поможешь, а только окончательно себя погубишь… Мы должны считаться с нашим положением… Ну, не будь же такой слабой, подумай о своей чести.
– Ах! До чести ли мне теперь! – дико вскричала г-жа де Тильер, – мне только бы спасти их жизнь, слышишь ли, только одного хочу, чтоб они остались живы…
– Замолчи, – сказала графиня, – кто-то идет. Действительно, вошел лакей. Его слова, в сущности такие обыкновенные, имели в настоящее время такое страшное значение для обеих, что они с ужасом взглянули друг на друга.
– Граф де Пуаян здесь и спрашивает, угодно ли вам его принять.
– Просите, – ответила, наконец, Жюльетта. – Пойди в мою спальню, – продолжала она, обращаясь к Габриелле… – Мне твое присутствие может понадобиться… Ах! как я дрожу!
И, действительно, она едва могла стоять на ногах. Если дуэль состоялась, то де Пуаян, значит, остался цел и невредим. А другой? А что дуэль состоялась, она отгадала это по первому взгляду на графа, стоявшего перед ней совсем бледным и в традиционном темном сюртуке, представляющем менее видную цель, чем всякий другой костюм. Она бросилась к графу, не думая уже о том, как он посмотрит на этот прием:
– Ну, что?.. – сказала она едва слышно.
– Поединок состоялся, – ответил он просто. – И вот я перед вами. Но, – прибавил он совсем тихо, – к несчастью…
Она посмотрела на него как безумная: Он ранен?.. – спросила она. – Он… – она побоялась договорить. Граф опустил голову, как бы собираясь сказать «да» на ее недоговоренный вопрос. Она вскрикнула, и губы ее несвязно договорили: «Убит! он убит!» Как подкошенная, она упала на стул, закрыв лицо руками, она судорожно рыдала. Казалось, душа ее отлетит сейчас – так непосильны были для ее слабой груди вырывавшиеся оттуда стоны. Де Пуаян несколько минут глядел, какую жестокую скорбь выражали ее рыдания. Лицо его омрачилось глубокой грустью. Он подошел к ней и прикоснулся рукой до ее плеча.
– Можете ли вы и теперь отрицать вашу любовь к нему? – сказал он с тем выражением безысходной душевной муки, от которого г-жа де Тильер всегда так страдала. Но теперь она едва ли сознавала, что граф перед ней. – Не плачьте, Жюльетта, и простите, что я вас подвергнул такому испытанию, но мне нужно было выяснить ваши настоящие чувства. Нет, он жив и только легко ранен в руку; доктор в настоящую минуту уже, вероятно, вынул пулю. Он будет жив… Мне, впрочем, все равно, жив ли он или мертв! Живого или мертвого вы любите его, а меня разлюбили… Я захотел узнать, насколько он вам дорог… Я солгал вам в первый и в последний раз и несу уже за это жестокое наказание, так как я видел вас так горько рыдающей! Да, жестокое наказание, но я предпочитаю его сомнениям последних дней!.. Пожалуйста, не отвечайте мне… Я вас не виню… Вы сами, может быть, не сознавали, до какой степени вы его любили. Теперь и вы, и я – мы это знаем.
Наступило несколько минут обоюдного молчания. Взрыв отчаяния, овладевший Жюльеттой, когда она сочла Казаля убитым, сменялся каким-то оцепенением, по мере того как говорил де Пуаян; успокоившись на счет исхода дуэли, она, так сказать, была придавлена неоспоримой, неумолимой правдой. Только теперь, после стольких месяцев, их положение ясно определилось, и Жюльетта обличена в своей любви к Казалю, которую она так горячо отрицала. Впрочем, если б даже она не выдала себя своим отчаянием при первых словах графа, он все равно узнал бы всю правду. У нее не стало больше сил лгать ему – так она устала, так изнемогла от долгой внутренней борьбы со своим сердцем. Она продолжала сидеть, опустив глаза, с руками, сложенными на коленях, как преступница, ожидающая своего приговора, – и преступная еще более, чем мог это предполагать человек, стоявший перед ней и не находивший тоже силы продолжать разговор. Есть слова, после которых остается бежать, бежать далеко, не оглядываясь, – так много они приносят непоправимого. А тем не менее не уходят и после подобных слов… но тогда разговор напоминает раненого быка в цирке, мечущегося туда и сюда с ножом в ране и от каждого своего движения вонзающего его все глубже и больнее. Первая заговорила г-жа де Тильер.
– Это правда, – сказала она умоляющим голосом. – Я борюсь столько уже дней с волнением, охватившим мою душу, и не могу совладать с собой. Правда и то, что вы вправе обвинять меня, что я не призналась вам ни в смутивших меня чувствах, ни в моей борьбе с ними. Но правда и то, – продолжала она, возбуждаясь все более, – что ни на минуту, слышите ли, никогда вы не переставали быть дороги мне, так дороги, что малейшее ваше страдание непреодолимо влекло меня к вам, чтоб утешить, исцелить. Ваше счастье было мне необходимо для моего собственного. Я вполне была искренна, говоря вам, что ваши ласки мне так же необходимы, как воздух!.. Называйте как хотите это чувство, привязывавшее меня к вам и приведшее меня к отказу предложенного вами разрыва… Но знайте, что чувство это было и есть искренно и бескорыстно. Поймите хоть это, Генрих! Не думайте, что я играла перед вами комедию…
– Нет, – перебил он ее, – вы испугались моих страданий! Ну, вот я с ними перед вами. Глядите на них… Я все знаю, все понимаю – и все-таки жив и буду жить. Я не в том возрасте, когда не умеют отказаться от счастья. Но и в мои годы жаждут правды; а она в том, что вы меня разлюбили, Жюльетта, и любите другого. И если я пожелал иметь неоспоримое окончательное доказательство тому, то единственно для того, чтобы быть вправе сказать вам без горечи упреков: «Вы свободны! Располагайте вашей свободой, как хотите…» Все, – слышите ли вы? – все предпочтительнее этой душевной слабости, так долго мешавшей вам храбро взглянуть в ваше сердце; все предпочтительнее этому тяжелому состраданию, этим колебаниям между такими противоположными чувствами; это довело вас до того, что вы нанесли мне такую смертельную обиду, – мне, любовь которого вы так знаете и цените.
– Смертельную обиду?… – повторила она. Что же подозревал он в ее отношениях к Казалю? Что скажет он ей больше? И, вся дрожа, она сказала: «Объясните, чем я вас смертельно обидела…»
– Прочтите это письмо, – ответил он, протягивая ей листы бумаги, на котором ее растерянный взор узнал почерк Казаля; это было письмо, с которого она получила копию. – И что вы скажете? Я все могу выслушать, и вы должны мне сказать все. Вы ли просили его написать мне свои извинения? Ведь сам он никогда не принес бы их мне!
– Да это я! – проговорила она с усилием. Простите меня, Генрих, я была, как безумная. Вы так жестоко оттолкнули меня; у меня только и оставалась эта надежда, эта слабая надежда помешать дуэли.
– И вы не подумали, что если б я удовольствовался его извинениями, он мог бы считать меня трусом, упросившим вас добиться их от него?
– Нет, Генрих, – вскричала она, – уверяю вас, что у него ни на минуту не явилась подобная мысль. Он знает, насколько вы храбры, а при этом ему достаточно было взглянуть на меня, чтобы понять, что я обезумела от отчаяния…
– А! – возразил граф, – он с вами вчера виделся?
– Да! – ответила она с новым усилием.
– Здесь? – спросил де Пуаян. Видно было, что ему тяжело было предложить ей этот вопрос.
– Нет, – ответила она на сей раз с решимостью человека, которому надоело притворство и который предпочитает погубить себя, чем продолжать обманывать.
– У него?..
– У него!..
Они посмотрели друг на друга. Ее лицо покрылось смертельной бледностью, а когда она увидела, как от ее ответа выражение мучительной скорби отразилось на всем его существе, она снова уступила чувству неудержимой жалости, так часто останавливавшей ее порывы к откровенности. В этот торжественный час последнего объяснения, так же как и во всю прошлую ночь, она сознавала, что только полною, абсолютною исповедью ей возможно искупить свой грех перед ним. Поступив так благородно, она могла бы еще сохранить к себе уважение. Но как будет страдать от ее признания он, бывший ее другом в течение стольких лет! Вместо признания она с мольбой сказала ему:
– Не судите меня по наружности…
– Жюльетта, – обратился он к ней, схватив ее руку, – поклянись мне, что это неправда, – спросил он таким упавшим голосом, какого она никогда не знала в нем. – Поклянись, что между этим человеком и тобой не произошло ничего такого, чего бы ты не могла мне сказать… Я могу пожертвовать моим счастьем, оставив тебя ему, если ты его любишь. Но не так, не с этой мыслью, что накануне нашей дуэли… Нет, это недопустимо… Поклянись же мне… Поклянись.
– Между нами ничего не произошло. Клянусь вам в этом, – ответила она совсем разбитым голосом.
Граф провел рукой по своим глазам, точно для того, чтобы прогнать это ужасное видение. Затем тихо и с грустью продолжал:
– Вот доказательство, до чего ревность может довести сердце, стоящее однако ж больше этого… Простите мне оскорбительное подозрение… Это будет последнее. Я теперь не имею права так говорить с вами, да и прежде не имел его, так как побуждения, которые могли вас заставить иногда лгать, исходили из такого благородства, что не дозволяли мне так оскорбить вас… Я тоже на несколько минут сделался безумным! Забудьте же эти оскорбления… Я обещаю вам, что сумею быть вашим другом, только другом… Теперь я слишком взволнован… Завтра, если позволите, я приду к вам в два часа. Мы будем оба более спокойны и побеседуем. А пока прощайте…
– Прощайте! – ответила она, почти не глядя на него. Ее все удручало: и только что произнесенная ложь, и ее преступная измена по отношению к человеку, настолько сохранившему благородство, даже при всей своей ревности, что он считал себя виноватым перед нею в самом справедливом из подозрений. Ее угнетали и предчувствие, что за сегодняшним объяснением тотчас последует окончательный их разрыв, и горечь от стольких пережитых сильных испытаний. Когда граф пожал ей руку, он почувствовал, что при этом она осталась холодной и не ответила на него пожатием! То скорбное выражение, которое она в нем заметила прежде, снова вернулось к нему, но теперь в нем было столько нежности, столько смертельной грусти. Глаза его были полны той бесконечной, безмолвной печали, которой отдается человек, когда приносит себя в жертву любимому существу. Господи! Как часто потом она его представляла себе таким, и как всегда при этом ей слышалось его глухое «прощайте!»
– Между тем г-жа де Кандаль, встревоженная, что ее не извещают об уходе графа, решилась приотворить дверь и застала Жюльетту как окаменелую, опирающуюся руками на камин. Она так и осталась, после того как встала, чтобы вернуть де Пуаяна, но потом спросила себя: «Зачем?» и так и замерла, забыв и Габриеллу, и время, сознавая только одно, что она побеждена, сломлена и разбита жизнью.
– Случилось несчастье? – спросила графиня, обманутая ее видом.
– Нет, – ответила Жюльетта, – хотя дуэль состоялась… Но Казаль получил лишь незначительную рану… Через несколько дней он, по всем вероятиям, совсем от нее оправится…
– Вот видишь, как все устроилось лучше, чем мы могли ожидать. Но почему же ты так печальна? Что тебе говорил де Пуаян?
– Не спрашивай меня об этом, – резко ответила ей Жюльетта, – оставь меня, я погибла по твоей вине. Если бы ты не познакомила меня с Казалем, если б не зазывала его к себе, ко мне и не говорила бы мне о нем так, как говорила, могло ли бы случиться все это?.. – И вслед за этими резкими словами, увидя слезы Габриеллы, она бросилась к ней на шею; такая непоследовательность служила новым доказательством ее душевного расстройства, отдающего ее бедное сердце самым противоположным чувствам! Габриелле не удалось ее успокоить самыми нежными ласками; не удалось и узнать настоящую причину ее печали. Но, должно быть, ее разговор с Генрихом глубоко потряс ее, потому что она рассеянно приняла слова г-жи де Кандаль о том, что она пошлет узнать о состоянии здоровья Казаля и тотчас же известит ее о нем… Оставшись одна, она снова отдалась своим мыслям, но теперь не образ Казаля неотступно преследовал ее. Она постоянно видела перед собой де Пуаяна, просящего ее поклясться, что ее совесть чиста перед ним; постоянно слышала его голос, которым он ей сказал: «Прощайте!»
Ей было необходимо вновь увидеть его, переговорить с ним, открыть ему себя. А для чего? Чтоб опять лгать! Чтоб показать ему еще новый оттенок ее преступного двоедушия!.. Нет! теперь все уже сказано, все покровы сняты! Неужели после того, как он решился, наконец, произнести слово «расстанемся», слово, которое она сама так долго не решалась произнести, она может желать возобновления преступных изворотов, тяжелых отговорок? Ведь это будет безумием! Что могла она ждать от Генриха после его сверхчеловеческого отречения? В каких тайниках ее сердца могло возгореться желание вернуться к тому, что так долго тяготело над ней непрерывной цепью страданий, и вернуться именно тогда, когда, отдавшись другому, она могла, наконец, зажить простой спокойной жизнью. Она думала над этими вопросами весь конец дня и всю ночь и ни на чем не смогла остановиться; наконец, наступило время, когда должен был прийти де Пуаян. Час… половина второго… два часа… А его все нет. Страшась, чтоб он не решился на какой-нибудь роковой шаг, она велела запрячь карету и поехала к нему, где ей сказали, что граф вышел и что неизвестно, когда он вернется. Она поспешила вернуться к себе, думая застать его у себя: но его и здесь не было. Тогда она написала ему несколько слов, но ответа не получила. И только на следующее утро, после самой тревожной ночи, ей подали конверт, на котором она тотчас узнала его руку и – о непостижимое противоречие сердца женщины! – принялась читать его письмо с такой же жадностью, с которой двое суток перед этим читала письмо Казаля.
«После 5 часов вечера.
Мой друг!
Чтобы написать вам то, к чему обязывает меня долг перед самим собой и перед вами, мне захотелось вернуться в маленькую квартирку на улице Passy, которую в более счастливые времена вы называли «наш уголок». Мое сердце радостно билось каждый раз, как вы произносили эти два простых слова. Они, увы, так нежно выражали то, что было моей единственной мечтой, грезой, святой надеждой, которую я лелеял в течение нескольких лет, – жить с вами открыто, дать вам мое имя, быть всегда с вами и забыть подле вас мое печальное прошлое, оправиться от страданий и насладиться безграничным счастием… И вот я снова в том уютном гнездышке, которое вы никогда более не назовете «нашим уголком». Я смотрю на все, что меня здесь окружает: эти немые предметы как бы оживают для меня, я рассматриваю обивку на стенах с ее незатейливыми пейзажами – деревьями и колокольнями, маленькую низкую библиотечку с теми книгами, которые мы читали здесь с вами, старинные вазы, которые я наполнял к вашему приходу цветами!.. Да, человек, у которого смерть похитила любовницу, который пришел на кладбище посетить ее могилу, не может страдать сильнее меня; я тоже пришел проститься с могилой нашего общего дорогого прошлого; и может ли сравниться чья-либо скорбь с моей тоской, чья-либо любовь с моей любовью. Мне так хочется, чтобы эти строки, которые вы прочтете, когда я буду далеко и от Парижа, и от нашего заветного уголка, занесли к вам хотя бы слабый отзвук этой грусти и этой любви. Мне так хотелось бы, чтобы в вашей памяти остался образ не того человека, который говорил вам вчера таким странным тоном, а образ того, который думал о вас так, как я думаю в настоящую минуту – с благоговейной любовью, с нежностью и с беспредельной благодарностью за ту долю сердечной привязанности, которую вы отдали мне здесь, перед этими безмолвными свидетелями моего счастья. Вы так широко наделили меня счастьем, что даже теперь, в моей безысходной тоске, я могу только сказать вам спасибо, так живы во мне воспоминания о тех минутах, когда вы принимали мою любовь и когда сами дарили мне свою!
Поймите меня, бесконечно дорогой друг мой, и не считайте меня неблагодарным; уезжая от вас, я уверен, что вам дорог: вы всегда были чистосердечны, говоря мне, что малейшая грусть в моих глазах вам нестерпимо тяжела. Уверен я и в следующем: узнав из этого письма, что я надолго, если не навсегда, уезжаю из Франции, вы будете искренно, глубоко страдать. Вы, надеюсь, не осудите меня, если я добавлю, что именно ваша глубокая привязанность ко мне служит также подтверждением того, как сильно в вашем сердце другое чувство, вспышку которого я видел вчера: новая любовь так овладела вами, что вы не могли вырвать ее из своего сердца, хотя и сознавали, как глубоко я буду страдать. Теперь я понял, какую вы пережили душевную борьбу.
Драма, разыгравшаяся в вашем сердце, осветилась для меня новым светом: я сразу понял, как сильно вы были ко мне привязаны и как мало эта привязанность походит на любовь. Вы были искренни, не желая сознаться самой себе в новом чувстве, овладевшем вами! Вы горды и не могли допустить мысли, что вы изменились; вы добры и не хотели причинить мне горе. Вы искренни и ни на секунду не допускали, что можете изменить человеку, с которым считали себя соединенной на всю жизнь. Увы! Поверьте, Жюльетта, новая любовь ваша очень уж сильна, если даже такие стимулы не смогли ее победить в вашем сердце. Если бы я не слышал вашего вчерашнего крика, не видел ваших слез, когда вы поверили роковому исходу дуэли, то и тогда для меня, который так хорошо вас изучил, все было бы ясно. Но я был свидетелем этих слез, я слышал этот крик. Если я решаюсь уехать, то потому, что сознаю, что не буду в силах смотреть на вашу новую любовь. Будете ли вы продолжать с нею бороться или сдадитесь, я тотчас же это узнаю по вашей грусти, по вашей радости, по вашему молчанию – по тому, как вы будете щадить меня. Я не вынесу этого; я – человек, любящий вас всем сердцем, всеми силами своего существа, – человек, которого и вы любили и от которого не можете, не должны требовать сверхчеловеческих усилий. Да и вправе ли я теперь, когда мне все стало ясно, смущать своей тоской вас, пред которой открывается новая жизнь, вправе ли я смущать вас моей любовью, которую вы уже не разделяете, тревожить вашу совесть и мешать тому, в чем, может быть, заключается ваше счастье? Имею ли я право выказывать свою ревность, которую я не в силах побороть, в чем смиренно сознаюсь. Могу ли я допустить, чтобы на вас отозвалась моя болезненная чувствительность, которая причиняла вам столько страданий и, вероятно, в течение многих лет! Нет, Жюльетта, перебирая в своей памяти все пережитое нами, я сознаю, что нам необходимо расстаться; разлука неизбежна, когда одно из двух любящих сердец разлюбило, а в другом любовь так же сильна, как прежде. Это невыразимо горько! Ах, горше самой смерти! Но только этой ценой можно спасти свое достоинство и уважение к прошлому, которое лишь в том случае останется чистым, если оно бесповоротно станет только прошлым.
Я долго обдумывал все это уже тогда, когда, вернувшись из Безансона, впервые подумал, что вы можете заинтересоваться кем-нибудь другим, кроме меня, но никогда еще не представлялись мне такими все эти грустные мысли, как вчера и сегодня ночью. Я понял, что все перенесенные нами печали являются искушением за то запретное счастье, которым мы наслаждались! Я слишком хорошо знаю, как искренни ваши религиозные чувства, чтобы не догадаться, что за той задумчивостью, причину которой вы мне никогда не говорили, скрывается сожаление и угрызения совести за то ложное положение, в которое вас поставила любовь ко мне!.. А виноват был один я: не будучи свободным, я должен был таить от вас мою любовь, я не имел права насладиться ее радостями. И кто знает? Если бы у меня хватило мужества любить вас тайно, любить безмолвно, благоговейно, страдальческой чистой любовью, близкой к поклонению, быть может, Тот, Который всеведущ, за такое геройское отречение не допустил бы, чтобы угасла ваша нежная привязанность ко мне! Кто знает, не нисходит ли на самоотверженную чистую любовь такая же благодать, какую мы обретаем при глубокой вере и которая делает нас всегда способными молиться. Если это действительно так, и нам обоим грозит неизбежность искупления, я молю Бога, на которого мы так всегда твердо уповали, даже преступая Его законы, чтобы Его правосудие покарало меня одного.
Молю Его сделать достойным вас того человека, который похитил у меня вашу любовь; пусть человек этот поймет, какое прекрасное и благородное существо привела к нему судьба через столько испытаний. Теперь я коснусь самого больного вопроса. При этом позвольте мне вам сказать, что со вчерашнего дня я несколько изменил свой взгляд на вашего нового друга. Когда-то я говорил вам о нем резко и с горечью, предчувствуя в нем благодаря какому-то ясновидению палача своего счастья. Не думаю, что я тогда был вполне прав и что тот, которого вы могли полюбить, таков, каким я его считал. Я хочу, я должен вам сказать, что мое мнение о нем переменилось после его письма, в котором он извинялся, – письма, которое такому человеку, как он, было очень трудно написать; этим он доказал мне, как глубоко он вам предан. Я не сказал вам вчера того, что должен теперь добавить, чтобы быть к нему беспристрастным: он исполнил то, что обещал вам в своем письме, и стрелял на воздух! Пусть все то, что я пишу вам теперь о нем, зачтется мне, как искупление за мое страстное озлобление против него, не позволившее мне принять его извинение и заставившее меня желать его смерти. Пусть все только что сказанное даст мне еще право молить вас хорошенько обсудить – идти ли вам дальше по тому пути, на который вы ступили! Испытайте его, узнайте его чувства к вам теперь, когда вы свободны отдаться своим чувствам. Он свободен, молод, не раб своего прошлого; он может посвятить вам всю свою жизнь и переродиться под вашим влиянием. Если этому суждено совершиться, конечно – мне будет тяжело, что вы именно этим способом начнете свою новую жизнь. Но в настоящее время я люблю вас так бескорыстно, все мучения последнего времени сделали мою любовь к вам такой святой, что вдали от вас я найду силы примириться с этой мыслью, помня слова Св. Евангелия: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, – не так, как мир дает…» Такой мир доступен душе, полюбившей беззаветно и от всего отрекшийся!
А теперь, мой друг, прощайте. Прощайте, звезда моего неба, светившая мне из ясного уголка этого пасмурного неба. Прощайте вы, которая поддержала меня тогда, когда я изнемогал под бременем жизни, вы, благодаря которой я могу сказать: я испытал счастье. Не бойтесь какого-нибудь рокового шага со стороны человека, покидающего вас лишь с одним вашим образом в душе и с одним только желанием знать вас счастливой и не заставить вас никогда пролить ни одной слезы. В эту ночь в моих тяжелых думах я решил, как употребить годы, которые мне осталось прожить. Из моего последнего опыта на политическом поприще я понял, что мне следует порвать и с этой деятельностью, с которой, впрочем, порвать навсегда мне ничего не стоит! Остаток моей душевной энергии я решил посвятить другому делу. Наши личные скорби были бы жестоко бесполезны, если бы не заставляли нас искать забвения в бескорыстном служении идее, в служении общему делу. Вы так хорошо знали мои замыслы в те счастливые дни, когда вы мне позволяли думать вслух при вас! Вы поймете меня, если я скажу вам, что решил ехать в Соединенные Штаты, где займусь моим капитальным трудом по социальной философии, план которого вы так одобряли. А для того, чтобы привести его к концу, нужны многолетние исследования, возможные только там, в Америке. Завтра, когда вы будете читать это письмо, я буду уже в море; предо мной будет только громада волн, все больше и больше отдаляющих нас друг от друга. Я уже подал президенту палаты свою отставку. Самые важные дела были уже приведены мною в порядок еще накануне поединка; а второстепенными согласился заняться наш благороднейший Людовик Аккрань, беспредельную любезность которого вы хорошо знаете; он и дал мне возможность выехать сегодня же. Первое лицо, которое он назвал, узнав о моем решении, были вы. Я ему сказал, что уже обсудил с вами это путешествие и что вы его одобрили; смотрите же, поддержите меня в этом. И вот теперь я могу думать только о вас и с грустью, и с неизъяснимой сладостью. Неправда ли, вы мне напишете? Но только еще не сейчас, позвольте мне выбрать время, когда я буду в состоянии узнать от вас обо всем, не испытывая смертельных мук. Оставьте мне в своем сердце местечко, как другу, чем я не мог бы удовольствоваться, оставаясь с вами. Мое сердце так болезненно уязвлено, так легко обливается кровью! Но разлука излечит и от этого, сохранив одно неувядающее чувство, вся суть которого заключается в этих простых словах: «Будьте счастливы даже не со мной, даже вдали от меня»… Еще раз прощай, дорогой друг мой. Не забывай, как я тебя любил, Что сказать тебе еще? Разве эти трогательные слова всех униженных судьбой, слова, которые говорю тебе из глубины моей души: «Господь да хранит тебя», моя единственная любовь!