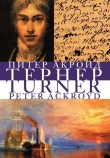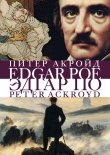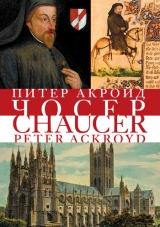
Текст книги "Чосер"
Автор книги: Питер Акройд
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
высшим придворным постам, получая при этом твердую опору и хорошее руководство. При
дворе находился грамотей или священник, являвшийся для пажей “педагогом”, учившим
грамматике и языкам. Впоследствии Чосер освоил и делопроизводство – чтение и
составление деловых бумаг; из дальнейшей его службы ясно, что обучали его и основам
дипломатии. Учтивый придворный, или “джентльмен”, обязан был к тому же “хорошо
говорить” и “иметь в запасе много слов”. Впрочем, свойства эти характеризуют и поэта.
Однако в ранние годы свои при дворе Чосер, почти исключительно прислуживал и
присутствовал. В ходу были своды особых инструкций, раскрывавших юному пажу секреты
благопристойного поведения, того, как следует угождать старшим по возрасту и положению, изобиловавшие пассажами вроде “сплевывай аккуратнее, загораживая рот рукой”, “мясо
режь, держа кусок тремя пальцами, как того требует вежливость”, “не кусай хлеб, но
отщипывай его”. Молодого Чосера обучали искусству беседы на французском и латыни, а
также основам музыкальных искусств, как то пению и танцам. В книге “Двор Эдуарда IV”
молодым сквайрам предписывается умение “играть на флейте или арфе, петь или же
как-нибудь иначе увеселять двор и угождать иностранцам”.
Молодой сквайр из “Кентерберийских рассказов” поет и играет на флейте: Он пел и в флейту дул весь день
Так сладостно…
Нередко делались предположения, что и Чосер отдал дань восхвалению любви и
рыцарских доблестей в песенной форме; одно несомненно: раннее его воспитание не могло
препятствовать ему в этом. Так же несомненно и знакомство его с рыцарскими романами, которыми увлекался двор; его поэзия свидетельствует о присущем ему природном чувстве
ритма и даре рифмовать, а грань между стихом английским и французским он ощущал
достаточно четко. Мир преданий и рыцарских подвигов и приключений был величествен и
театрален, полнился условностями и неукоснительно соблюдаемыми правилами, но чуткий и
умный юноша улавливал в нем и драматизм, и нечто комическое. Собственное его
творчество отразило противоречие между искусством и реальностью. Играть в кости юным
пажам возбранялось, но при дворе существовали и иные, более достойные и благородные
способы проводить свободное время, среди которых центральное место занимала охота – с
соколом или ястребом или же без них. Присущая этому занятию, но строго ограниченная
определенными правилами жестокость отвечала идеалу рыцарства. Сюжет охоты Чосер ввел
в раннюю свою поэму “Книга герцогини”, а встречающаяся там охотничья терминология
свидетельствует о его хорошем знании предмета. В наши дни занятие охотой утратило
популярность, став анахронизмом, но во времена Чосера (и значительно позднее) оно
занимало важное место в культуре и было неотделимо от понятия “хорошее общество”: одно
это указывает на протяженность того обратного пути, который нам следует преодолеть, чтобы понять Чосера и мир вокруг него. Эту сторону рыцарских добродетелей Чосер воспел
в образе рыцаря из “Кентерберийских рассказов” в “Рассказе Рыцаря”, который следует за
“Общим прологом”.
Правда, следует сказать, что рыцарская жизнь на практике не всегда оказывалась
романтичной.
Следующее упоминание фамилии Чосера содержится в документах двора, и
упоминается она в связи с его пленением на поле брани. Вместе с другими свитскими принца
Лайонела он был послан во Францию для скорейшего претворения в жизнь плана Эдуарда
короноваться в Реймсе в качестве французского короля. Отряд принца был невелик и являлся
частью более внушительного воинского подразделения, которым командовал третий из
сыновей Эдуарда, брат Лайонела Джон Гонт. Соответственно и роль отряда в войне была не
столь существенна. Чосер и его товарищи по оружию, по всей видимости, участвовали в
осаде Реймса и отдельных мелких стычках в окрестностях города. Впечатления Чосера от
осады отразились в строках “Храма Славы”, где он вспоминает грохот пущенного из
катапульты каменного ядра:
И с шумом несся камень из машины.
В конце концов отряд Чосера оказался возле Ретеля, городка, находившегося в
двадцати милях от Реймса, где Чосеру не посчастливилось и он был взят в плен в ноябре
1359 года. Автор хроники описывает, как несколько рыцарей и сквайров “были убиты ночью
на биваке, других же захватили, когда они группами мародерствовали в полях”. Весьма
вероятно, Чосер принимал участие в одной из таких вылазок воинов, отчаянно нуждавшихся
в продовольствии и припасах, под снегом и дождем рыскавших по окрестностям.
Четыре месяца спустя из плена его выкупили за шестнадцать фунтов – сумму, вполне
достойную valettus’a, или йомена, которым, надо думать, Чосер к тому времени стал. В
позднейшем творчестве своем Чосер никогда не касался этого эпизода, в отличие от
французских своих современников, нередко пускавшихся в автобиографические
воспоминания о своих военных приключениях. Однако в “Храме Славы” все же есть образ
“стремительно летящего ядра”, и там же поэт пишет о звуках горна и рога, которыми
поднимали дух воинов.
Будь прокляты те звуки горна
И рога, что позвал нас в бой,
В котором столько крови пролилось.
Собственные ли впечатления вызвали к жизни эти строки, или же это всего лишь игра
воображения – вопрос, остающийся открытым. “Рассказ Рыцаря” уснащают староанглийские
обороты и аллитерации. К лично пережитому тут примешивается почерпнутое из книг:
“Скрежещет сабли сталь о сталь кольчуги…” Чосера часто относят к “книжным поэтам”, и
сам он весьма старался представить себя таковым. Он словно бежал от непосредственных
впечатлений, укрываясь в волшебной стране искусства. Вообще поле битвы и гибельные
противостояния кажутся не самым подходящим местом для учтивого и дипломатичного
Чосера. Однако известно, что семь месяцев спустя он возвращается во Францию к принцу
Лайонелю, который вел там переговоры о мире, и, благодаря своему положению и репутации
человека ответственного, выступает его порученцем: доставляет в Англию его личную
корреспонденцию. Несмотря на молодость, Чосер являлся заметной фигурой при дворе. Ему
предстояли успешная карьера и благородное поприще.
Как проходила жизнь Чосера в течение нескольких лет после французской кампании
1359–1360 годов, остается неизвестным, события нигде не зафиксированы. В 1361 году
принца Лайонеля направляют в его ирландские владения, но свидетельств, что и молодой
паж отправляется с ним, у нас нет. Возможно, Чосер остается в Англии, но о его занятиях и
обязанностях с 1360 по 1367 год мы сведений не имеем. Так же скрыты от нас и несколько
лет жизни молодого Шекспира – счастливое совпадение выпавших из поля нашего зрения
лет, призванное напоминать биографам, что не все в человеке доступно пониманию.
Высказывалась догадка, что Чосер в это время поступает на службу к Джону Гонту; тот
факт, что Гонт становится впоследствии его главным покровителем и платит ему ежегодное
содержание, опровергнуть невозможно. Другие полагают, что по отъезде Лайонела в
Ирландию молодой паж стал служить непосредственно при дворе Эдуарда III; в официальном документе от июня 1367 года упомянут “Джеффри Чосер”, йомен на службе
двора – “noster valletus”, то есть наш слуга, но это может означать, что такого звания Чосер
удостаивается лишь в это время. Правда, с тех пор и впредь следуют постоянные
упоминания его в числе “приближенных” суверена, путешествующих всегда под охраной
короны.
Бытует и третье предположение – весьма любопытное, так как оно выводит Чосера за
пределы королевского двора. В XVI веке один из биографов и издателей Чосера Томас Шпет
утверждал, что Чосер изучал юриспруденцию в лондонском Внутреннем Темпле и что
“много лет спустя магистр Бакли обнаружил в архиве заведения запись о том, что с Джеффри
Чосера был взыскан штраф в два шиллинга за побои, нанесенные им проходившему по улице
брату францисканцу”. Предположением, что Чосер обучался юриспруденции, можно было
бы пренебречь, отбросив его как домысел тех, кто верит, что всякая ученость поэта есть
неизбежное следствие благотворного влияния, которое оказало на него систематическое
образование, подобное тому, что некогда получили они сами. Им невдомек, что гений
потому и гений, что может произрасти и расцвесть в условиях, казалось бы, самых
неподходящих. Ведь говорил же Джон Диккенс о знаменитом своем сыне: “Можно сказать, сэр, что выучил он себя сам”. Однако существуют косвенные подтверждения некоторой
двойственности свидетельства Шпета. Бакли на самом деле был хранителем архива
Внутреннего Темпла, а штраф за оскорбление действием, который присудили Чосеру, был в
то время в порядке вещей. Большинство современников Шпета придерживались мнения, что
Чосер обучался в Оксфорде или Кембридже, а Темпл уж конечно учеников не принимал. Так
что сенсационное сообщение Шпета вызывает удивление и интерес, но вовсе не гарантирует
правдивости предоставленной им информации. Бакли мог желать во что бы то ни стало
связать того, кто считался основоположником английской литературы, с учреждением, к
деятельности которого был сам причастен, и мог употребить для этого какие угодно
средства. Оскорбление физическим действием монаха-францисканца вполне соответствовало
бы репутации раннего провозвестника протестантизма, которой пользовался Чосер. Иными
словами, версия эта не вполне убедительна, но, с другой стороны, здравый смысл и
практичность служителей Церкви допускают возможность приема учеников в Темпл XIV
века. Путь в юриспруденцию и овладение всеми ее премудростями были делом долгим, трудоемким и сопряженным с известными опасностями. Сохранились исторические
свидетельства, что в 1381 году толпа недовольных жгла на улице книги “служителей закона”.
Позднее же юридическое образование считалось необходимым условием для успешной
карьеры придворного и даже церковника. Томас Мор, столь похожий на своего великого
предшественника и тем, что был писателем лондонским, и тем, что служил при дворе, проходил обучение в одном из иннов лорда-канцлера.
Тот факт, что Чосера обучали или же он сам обучался искусству риторики, является
бесспорным. Вне всякого сомнения его поэзия строится по законам этого искусства и
соблюдает правила и ограничения, которым риторика учит и которые были изложены в
соответствующих учебниках и пособиях, таких как “Poetria Nova” Джоффри из Винсофа.
Чосер умело использует олицетворения, дополнения и отступления. На некую
сопричастность поэта судейским иннам указывает и его описание “судейского подворья
эконома”, под чьим началом
… тридцать клерков жили,
И хоть меж них законоведы были…
Мог эконом любого околпачить1.
Не так давно распространение получила идея, согласно которой многое в английской
драме и поэзии косвенным образом берет исток в судебных заседаниях иннов, где под видом
рассмотрения реальных дел иногда устраивались целые представления и рассказывались
вымышленные истории на потеху судейским. Первые пьесы разыгрывались в залах иннов, а
мастера прозы, такие как Мор, оттачивали свое искусство в учебных театриках спорных
тяжб и процессов. В этом смысле возможное пребывание Чосера в стенах Темпла являлось
бы историческим и литературным прецедентом. Но доказательств этого пребывания нет. Мы
можем говорить определенно лишь об употреблении Чосером судебной терминологии и о
его знании судебной процедуры.
1 Перевод И. Кашкина.
“Ха-ха! – воскликнул он, —
Недурно вынес суд
Решение по иску!”
Приняв гипотезу о пребывании Чосера во Внутреннем Темпле, биографу легче
объяснить знакомство нашего поэта с другим крупным поэтом эпохи – Джоном Гауэром, который и сам был связан с Темплом. Гауэр, по-видимому, поднимался по лестнице
судейских чинов и, по собственному его признанию, носил “la raye mańce” – полосатую
мантию служителя Фемиды; он был старше Чосера и уже был известен как сочинитель
французских стихов, когда их связало знакомство столь тесное, что последний избрал друга
своим поверенным и наставником в юридических вопросах в период заморского
путешествия по делам короля. Похоже, между ними существовало духовное родство.
Глава третья
Дипломат
Когда имя Чосера в 1366 году вновь появляется в исторических документах, то он уже
дипломат на службе короля. В феврале 1366 года повелением короля Наварры “Jeffroy de Chaus-sere esquire englois en sa compaignie trois compaignons”2 была выдана охранная грамота
для проезда по стране. Высказывалось предположение, что это было паломническое
путешествие и группа направлялась в Испанию, чтобы поклониться там мощам святого
Якова Компостельского и получить особый знак пилигримов – створку раковины, крепившуюся к одежде. Конечно, отправиться в паломничество было тогда заветной мечтой
многих, но только если само путешествие не падало на время Великого поста. Гораздо
вероятнее, что группе этой была поручена секретная миссия, связанная с Педро
Кастильским, ставшим тогда союзником старшего сына Эдуарда III, так называемым Черным
Принцем. Союзу этому в то время мешала грозившая вторжением Франция. Неизвестно, вел
ли Чосер переговоры с королем Наваррским или же убеждал некие круги в Англии оказать
помощь Педро, важно не это, важен сам факт серьезной и, возможно, тайной
дипломатической миссии, порученной двадцатичетырехлетнему придворному. От него
ожидали многого, и по ступеням карьеры к valettus’y и сквайру он, несомненно, поднялся
стремительно и без задержек. Он принадлежал к “новым людям”, выходцам из мира
лондонского купечества, дельцов и финансистов, сумевших проникнуть в другой круг и
утвердить себя среди более древних и развитых служителей короны. И все же положение
Чосера было несколько двусмысленно: считаясь “джентльменом”, он не был признан
аристократом. Можно сделать вывод, что такая неопределенность положения уже сама по
себе давала ему возможность наблюдать и правильно оценивать социальные изменения и
сдвиги, происходившие вокруг. Некоторые из “Кентерберийских рассказов” затрагивают эту
тему: паломники дискутируют о том, благородство ли происхождения или же личные
качества делают из человека “джентльмена”. Поколение Чосера весьма занимала эта
проблема.
Существовали и другие пути снискать себе королевское благоволение и
покровительство.
В начале 1366 года у Чосера умер отец, и, хотя завещания не сохранилось, немыслимо, чтобы единственный сын не получил значительную часть большого наследства. Приобретя
такое богатство, Чосер смог претендовать на руку и сердце Филиппы де Роэт, уже
являвшейся к тому времени фрейлиной супруги короля Филиппы. В королевских счетах
2 Английскому сквайру Жоффруа де Шоссеру и трем его спутникам ( фр.).
упоминается “Филиппа Пэн”. “Пэн” – это вариант имени “Пэон”, отца Филиппы, сэра Пэона
де Роэта.
Женитьба Чосера на Филиппе де Роэт есть, без сомнения, то, что в будущем стало
именоваться “женитьбой из карьерных побуждений”. Ничего необычного в подобного рода
союзах двор не видел: упрочивая такими браками свое положение и еще теснее объединяясь
в кланы, придворные подражали в этом своим патронам, и Чосер в данном случае не
представлял собой исключения, поступая в соответствии с принятым при дворе
обыкновением.
В начале осени того же года Филиппе Чосер, “une damoiselle de la chambre nostre treschere compaigne la roine” 3 , распоряжением Эдуарда III было пожаловано ежегодное
содержание в 10 марок. В качестве камер-фрейлины королевы супруга Чосера могла и
дальше способствовать карьере и упрочивать положение молодого своего мужа. О жизни
Чосера дома и семейных его делах известно мало. Видимо, первым его ребенком была дочь –
Элизабет Чосер, в 1381 году принятая в монастырь Черных Монахинь на Бишопсгейт, а
позднее обитавшая в аббатстве Баркинг. В монастырском заточении следы Элизабет
теряются. О Томасе Чосере нам известно больше. Родился он в 1367 году и еще в раннем
возрасте поступил на службу к Джону Гонту, где, пребывая всю свою жизнь, скопил
состояние и добился всяческого успеха. Его дочь – внучка Чосера – наконец-то смогла
стереть границу между аристократами и отпрысками купеческих семейств, став герцогиней
Суффолкской. Заветное стремление Чосеров считаться “истинно благородными” было
все-таки достигнуто.
К судьбе Элизабет Джон Гонт также проявлял участие, и не кто иной, как именно он, заплатил за постриг ее в черные монахини. Этот акт благодеяния заставляет некоторых из
биографов Чосера предполагать худшее. Был сделан вывод, что оба они – Томас и Элизабет
– на самом деле являлись детьми, рожденными Филиппой Чосер от Гонта, и что поэт
добровольно либо по принуждению признал их законными. Не вызывает сомнений, что
сестра Филиппы, Кэтрин Суинфорд, впоследствии являлась официальной любовницей
Джона Гонта, но все прочие связи остаются в сфере домыслов. Если указанное – правда, то
это обстоятельство чрезвычайно усложняет социальный статус Чосера и положение его при
дворе, а также проливает дополнительный свет на причины характерной для него
иронической отстраненности.
Но все это остается неизвестным, а предположения – бездоказательны. Внешне же
Джеффри и Филиппа Чосер представляли собой “образцовую пару”, являя пример гармонии, и утверждать, что за эту видимость им наверняка пришлось заплатить любовью, доверием и
привязанностью, было бы странно и опрометчиво.
Репутация опытного и умелого дипломата не мешала Чосеру слыть мастеровитым
придворным поэтом. По собственным его словам, он создал “множество песен и пикантных
историй”. Надо думать, что ранние эти стихотворные опусы писались по-французски, поскольку именно французский был языком двора; мы так и видим молодого Чосера
выступающим перед слушателями, как на рисунке к его “Троилу и Хризеиде”, где три дамы
слушают декламацию “geste”, “песни о деяниях” или истории в стихах в зале, украшенном
мозаикой. До нас дошел рукописный сборник французских стихов. Пятнадцать из
включенных туда произведений помечены инициалом “Ч”. Стихи эти достаточно мелодичны
и свидетельствуют об известном мастерстве сочинителя, который, если признать авторство
Чосеpa, брал тогда за образец каноны модной французской поэзии.
Вообще при дворе Эдуарда III во многих сферах властвовала французская мода.
Супруга короля Филиппа была родом из французской провинции Геннегау (Эно), его мать
Изабелла являлась французской принцессой. Плененный король Франции жил в Англии
вольным или невольным заложником и в плену продолжал покровительствовать
3 Камер-фрейлине драгоценной супруги нашей (старофр.).
французскому искусству. При дворе королевы звучали и распространялись стихи Машо и
Фруассара, Дешана и Гронсона. С Фруассаром Чосер познакомился, когда тот стал
придворным королевы Филиппы, и существует свидетельство взаимовлияния двух этих
поэтов. Мы располагаем и другими доказательствами разнообразных связей, родства кланов
и родственных переплетений, присущих поздне-редневековому обществу. Так, отец
Филиппы Чосер, Пэон де Роэт, был рыцарем в Геннегау, а супруга короля, Филиппа, как мы
уже знаем, происходила из той же провинции, откуда родом был и Фруассар. Иными
словами, с Францией у Чосера существовала и тесная родственная связь.
Таким образом, в начале своей поэтической карьеры Чосер сочинял жалобы и
“ронделе”, баллады и послания на темы любви и страсти. Это была литература сетований и
воздыханий, ограниченная рамками придворного этикета и строгими законами fine amour4, того, что в “Легенде о Добрых женах” Чосер назвал “искусством красивых чувствований”.
Его современник Джон Гауэр свидетельствует, что уже “в расцвете юношеских лет” Чосер
наводнил страну мелодиями и счастливыми созвучиями”, часть которых чудесным образом
сохранилась в собраниях его сочинений. Многое из куртуазной поэзии Чосера было утрачено
с естественным ходом времени и как результат небрежности, но такие его произведения, как
“Моление о жалости” и “Моление к возлюбленной”, доказывают природную музыкальность
чосеровского стиха и мастерство поэтического выражения. В раннем своем творчестве Чосер
уже изобретает и экспериментирует. Он ввел в английскую поэзию так называемую
“королевскую строфу” 5 и терцины, он первый прибег к форме французской баллады, изменив французский восьмисложник на прочно укоренившийся в английской поэзии и
ставший для нее столь характерным десятисложный размер.
И свет зажегся в некогда слепых
Очах страдальца, что лишь муки знал…
Он стал создателем английской метрики. Но одно из достижений поэта по своему
значению превосходит все прочие его технические усовершенствования. После первых
штурмов французского куртуазного стиха для аудитории преимущественно придворной, он
предпочел писать по-английски. Он обладал достаточной уверенностью в собственном
мастерстве и достоинствах родного языка, чтобы взять в свой обиход англоговорящую музу.
В этом смысле он стал провозвестником воскрешения английского языка в XIV веке. Время
Чосера было периодом, когда статус родного языка повышался и английский
распространялся все шире и увереннее. При жизни Чосера английский заменил собой
французский в школах. Англофранцузская смесь, бытовавшая еще с периода нормандского
завоевания, доминировала у знати в качестве языка общении, однако при Ричарде II двор, впервые со времен англосаксов, заговорил в основном по-английски. Вся совокупность
обстоятельств способствовала тому, чтоб именно Чосер стал не только самым искусным, но
и самым ярким представителем духа времени среди стихотворцев той поры.
Когда он вступал на поэтическое поприще в качестве придворного поэта, в английской
литературе существовали непререкаемые поэтические образцы, начиная с романов сэра
Орфео и сэра Лаунфала и кончая рифмованными наставлениями и историческими
хрониками, созданными в различных монастырях; бытовала и традиция лирическая – в
литературе как светской, так и духовной, однако традиция умной и изощренной придворной
поэзии, написанной по-английски, отсутствовала. Чосер усвоил стиль и приемы модного
французского стиха и с легкостью перенес их в сферу английского языка и ритмов
английской речи. Для молодого поэта это явилось важным достижением, что не осталось
4 Любви красивой, возвышенной (фр.).
5 Строфа-семистрочник на основе ямбического пентаметра.
незамеченным. Юсташ Дешан, являвшийся одной из несомненных “моделей” для поэзии
Чосера, несколько лет спустя послал ему “балладу”, в которой вознес хвалу молодому
автору, назвав его “великим переводчиком”. Речь шла в основном о сделанном Чосером
переводе “Романа о Розе”, французского аллегорического эпоса на тему любви.
“Роман о Розе”, где я описал
Все тонкости любовного искусства…
Первый раздел монументального произведения из четырех с лишним тысяч стихов был
написан Гийомом де Лоррисом в начале
XIII века, а полвека спустя роман завершил Жан де Мён, школяр, украсив его
многочисленными отступлениями и рассуждениями на самые разнообразные темы. Чосер
предпочел перевести куски, принадлежащие перу первого автора. Остается неясным, выпустил ли он в свет плод своих трудов, но сохранившийся результат несет следы его
остроумия и изобретательности. Со всей очевидностью перед нами предстает полотно, где
он мастерски укладывает слова родного языка, приспосабливая их для избранной им формы: Тех, что у нас русалками зовутся,
Сиренами французы именуют…
Он заражает нас своим искренним удовольствием, получаемым от сравнивания и
смешения в языке элементов саксонских и романских:
Великодушье было ей по нраву.
Подобно Александру, ликовала,
Когда могла сказать: “Бери!”
Можно смело заключить, что даже в самых ранних своих произведениях Чосер
проявляет вкус и тяготение к использованию многообразных и колоритных деталей, чем
достигает большого эффекта. Его картины цветочных россыпей, симфонии из птичьих
трелей и щебета изобильны и в то же время точны. В единении с пышностью и звучностью
“высокого слога” качество это порождает присущую поэзии Чосера умную изощренность.
К тому же его “Роман о Розе” является первым свидетельством обновления и
укрепления английского языка с помощью и посредством искусства перевода; когда
впоследствии Чосера хвалили за “красноречие”, имелась в виду его счастливая способность
привносить великолепие французского и итальянского стиха в собственный стиль и ритмику.
Гений Чосера частично воплотился и в переводах; судя по всему, поэт находил огромную
радость в чтении. Как отмечал он сам, половину пережитого он черпал из книг. Что могло
быть естественнее для него, чем обдумывать прочитанное, а обдумав, неспешно
воспроизводить это, переводя в ткань родного языка?
В этой связи становится понятнее некоторая сдержанность чосеровского темперамента.
В его произведениях автор предстает фигурой скромной и сугубо книжной, что нередко
признавалось лишь хитростью, позой, совершенно не соответствующей его подлинной сути
успешного, сделавшего хорошую карьеру придворного. И все же в созданном им самим
образе должна была заключаться и малая толика правды: к чему бы ему создавать подобный
автопортрет, если он хоть в какой-то степени не отвечает собственным его представлениям о
себе? Чосер стремится спрятаться за словами, а вернее, как личность раствориться в них.
Можно также сказать, что он видел себя переводчиком кем-то уже созданного, не
претендующим ни на власть над тем, что выходит из-под его пера, ни на ответственность за
изображаемое. В “Кентерберийских рассказах” им избрана тактика перекладывания вины, если уместно употребить это слово, на созданных им персонажей: Всевышним заклинаю вас не видеть
Дурного умысла в словах моих…
Ведь я лишь излагаю слова других,
И добрые, и злые…
А выбирать не тщусь,
Раз выбор – ваше дело.
В “Троиле и Хризеиде” он тоже прячется за вымышленным оригиналом: “Что
рассказали мне, то и пишу”. Это манера истинного дипломата – вести дело так, как ему
велено лицом вышестоящим, а порою, словно бы со стороны, шутить и иронизировать.
Риторика диктует повествование, ведет руку Чосера, а он получает возможность как бы
независимости – отвлекаться от текста, высвобождая и уводя из произведения собственную
личность. Умел ли он с такой же легкостью высвобождаться из пут придворной карьеры? В
насквозь театральном мире королевского двора каждый играл определенную роль, но
ценилось мастерство игры.
В июне 1367 года Эдуард III наградил Чосера годовым содержанием в размере 13
фунтов 6 шиллингов и 8 пенсов. Судя по тому, что в документах Чосер именуется
попеременно то “valettus”, то “esquier”, статус его к тому времени еще не был окончательно
определен. В последующие годы ему презентовали зимнее и летнее платье, а также
соответствующее его рангу платье для траура. По-видимому, его ценили достаточно, чтобы
посылать с поручениями за границу. Летом 1368 года ему был выдан “пропуск” в Дувре.
Есть предположение, что направлялся он в Милан, где принц Лайонел (после кончины
первой своей жены) сочетался браком с принцессой Виолантой Висконти. В таком случае
Чосер должен был в каком-то смысле приобщиться там к культу и “славного Фрэнсиса
Петрака” (Франческо Петрарки). Петрарка тогда являлся жителем Милана, впрочем, обстоятельства и подробности этого путешествия Чосера остаются неясными.
Ясно, однако, что на следующий год Чосер едет во Францию в составе свиты Джона
Гонта, направлявшейся туда “в военных целях”. Роль Чосера в истории долгой прерывистой
и бесплодной вражды, названной впоследствии Столетней войной, никак не выявлена.
Однако известно о получении им prest, то есть платы в 10 фунтов за службу. Связь Чосера с
Джоном Гонтом знаменательна, а доказательством ее служит ежегодное содержание, которого его вскоре удостоил Джон Гонт. Последний еще семью годами ранее стал герцогом
Ланкастером благодаря женитьбе на Бланш Ланкастер. Эдуард III после кончины своей
супруги в 1369 году стал дряхлеть и все больше передоверять свои обязанности другим, в
результате чего дворец Гонта в Савойе стал центром придворной жизни Англии; влияние
Гонта так возросло, что каждый желал заручиться его дружбой и покровительством. В
окружение Гонта Чосера вовлекло и еще одно событие. В 1368 году, вскоре после женитьбы
на Виоланте Висконти, принц Лайонель умер, власть же Эдуарда III все больше ослабевала, и Чосеру понадобился новый покровитель.
Визитной карточкой, если можно так выразиться, послужило следующее. В 1369 году
супруга Джона Гонта, Бланш Ланкастер, умерла от чумы, смерть ее пришлась на время, когда сам Гонт еще был на войне, но по возвращении в Англию он немедленно повелел
каждый год отмечать ее кончину поминальной службой в соборе Святого Павла. Некоторые
историки полагают, что умерла Бланш на год раньше, в 1368 году, а значит, военный поход
Гонта был еще и досадным проявлением супружеского невнимания, которое, однако, никак
не отразилось на реакции Чосера на ее кончину. Выразив свое соболезнование в поэме, названной “Книга герцогини”, красиво и элегантно воспев добродетели Бланш, поэт воздвиг
ей памятник в певучих поэтических строках:
Изящество в ней было неизменно,
И равной мудрости у женщин не встречал.
Стиль поэмы заставляет думать о том, что предназначалась она для декламации, и, похоже, она действительно читалась на одной из поминальных служб в соборе. Тон поэмы
весьма уважительный, но притом непринужденный, говорит о близких, хоть и не
обязательно панибратских, отношениях, связывавших Чосера с Гонтом. Это произведение
молодого, двадцати с небольшим лет, поэта, чей талант уже был широко признан, строится в
форме видения или сна, форме, вполне отвечающей особенностям творческой манеры
Чосера, всегда любившего иносказания и некоторую затуманенность смысла – сон – штуку
безответственную, но там, где речь шла о “предметах высоких”, таких как горе, постигшее
герцога Ланкастера, была уместна и желательна почтительная скромность.
Сама поэма принадлежит традиции французской любовной, amoureux, лирики, в
частности, нашедшей воплощение у Машо в “Jugement dou Roy de Behaingne”. Вдобавок
начальные строки поэмы повторяют начало “Parady dAmours” (“Рая любви”) Фруассара.
Надо сказать, что во всем творческом наследии Чосера мы наблюдаем большое количество
заимствований и переработок. Добрая половина его поэзии имеет источником произведения
предшественников. И все же нам следует позабыть и отбросить современные воззрения на
плагиат и пародийные подражания. Факт следования за признанным авторитетом для
средневекового текста являлся гарантией его подлинности и ценности. Оригинальность как
таковая достоинством не считалась, ценились пересказ и переформулирование старых истин.
И все же “Книга герцогини” не есть прямая копия “Рая любви” или же прочих