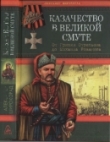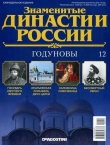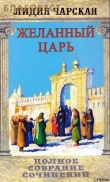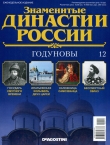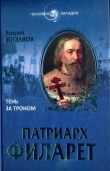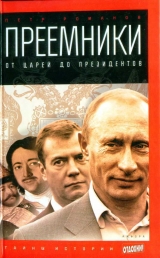
Текст книги "Преемники. От царей до президентов"
Автор книги: Петр Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Всякое правление, основанное на произволе, дурно; я не делаю здесь исключение и для правителя хорошего, твердого, справедливого и просвещенного, ибо такой правитель внушит привычку уважать и преданно служить любому правителю. Он – добрый пастырь, который низводит своих подданных на положение скота, заставляя их забыть о чувстве свободы, которое трудно вернуть, раз оно утеряно. Он обеспечивает подданным счастье на десять лет, но за это счастье потомки будут расплачиваться двадцатью веками бедствий.
Из наставлений Дидро Екатерине Великой
Возможно, во мне говорит любовь к истории, но болезненно задевает, что из нашего прошлого мы постоянно запоминаем не тех, не то и не так. Не говоря уже о том, что устоявшаяся мифология катастрофически забивает реальные факты и события.
Не буду повторять расхожую фразу: «Кто не знает прошлого, не имеет будущего». Хотя бы потому, что это преувеличение. Будущее, конечно, наступит, даже если мы сожжем на костре всех историков, а всеобщую амнезию провозгласим благом. Другое дело, каким тогда станет это будущее. Куда точнее, на мой взгляд, мысль американского философа Джорджа Сантаяны: «Кто не знает прошлого, тот вынужден его повторить». Так уж устроена жизнь. Если ваши предки не смогли преодолеть какое-то препятствие, то этим обязательно придется заниматься вам. Не получится у вас – проблема останется в наследство вашим потомкам.
Серьезно подозреваю, что существует некий исторический код, чем-то схожий с кодом генетическим, только многократно сложнее, причем к его изучению мы даже не приступили. Но из-за этого кода все наши дежавю, смутное ощущение цикличности исторических процессов и схожести нынешних событий с прошлым. Окунаясь с головой в информационный поток, современный человек редко задумывается над тем, что текущая обстановка дает ему обзор лишь по горизонтали. Между тем незнание истории резко сужает обзор по вертикали. Не зная прошлого, человек не способен ни заглянуть в глубь времен, ни предвидеть будущее. К ясновидению это не имеет, само собой, ни малейшего отношения, а вот к сравнительному анализу имеет, и прямое.
Касается все это, разумеется, и России. Тем, кто отчаялся найти ответы на свои вопросы, слушая очередной выпуск новостей, предлагаю поискать подсказки в нашем прошлом. Популярные во времена Ельцина словечки «царь Борис» или «семибанкирщина» (по ассоциации с «семибоярщиной») возникли в людской памяти не случайно, как не случайными были и сами эти феномены – самодержавное самодурство первого президента демократической России и боярская уверенность «олигархов от демократии», что главу государства должны выбирать именно они, а не народ. Это напомнили о себе те проблемы, которые не удалось решить нашим предкам. Это постучался в стену тот самый «исторический код».
На фоне нашей чисто формальной, во многом бутафорской демократии не могла не ожить и тема преемничества. Оказалось, что простого «кандидата в президенты» нам еще недостаточно, нужен именно преемник, наследник. Ну а дальше, само собой, к теме наследования присоединились и другие традиционные для нас проблемы: король и свита, единовластие и народовластие, да и многое другое.
Современность и история сопрягаются в жизни любой страны. Однако в России, на мой взгляд, они связаны даже слишком тесно, чтобы жить комфортно. Как сиамские близнецы. Одна половина России хочет идти вперед, другая тянет назад. Впрочем, и эта проблема не нова. Еще дьяк Иван Тимофеев, историк, написавший в царствование Михаила Романова «Временник», чутко уловил, что русские после Смуты перестали верить друг другу, отвернулись друг от друга: «овии [одни] к востоку зрят, овии же [другие же] к западу». Новый нюанс, пожалуй, лишь один: теперь нас тянут назад под лозунгом продвижения вперед.
Везло ли русским на преемников? Иногда да; чаще не очень. Бывало, что России от преемника приходилось избавляться «хирургическим путем». А бывало, страна десятилетиями терпела такое, о чем и вспоминать стыдно. Обычно подобное случалось, когда на вершине властной пирамиды начинали доминировать интересы свиты. Тогда вопросы ума, профессионализма и порядочности преемника, не говоря уже об интересах государства и народа, отходили на задний план.
Так и появлялись во главе страны юродивые (Федор Иоаннович), бывшие прачки (Екатерина I), не самые образованные правители (Анна Иоанновна), не самые мудрые (Николай II), не самые здоровые (Черненко), не самые трезвые (Ельцин)…
Иначе говоря, если мы хотим понять, что происходит в России сегодня и будет происходить завтра, рекомендую полистать старые фолианты.
Часть I. На пути к империи
От Ивана III до Петра Великого (Антихриста)
Иван III определяет, чьим преемником является он сам
Точка отсчета в истории преемничества, конечно, условна. Можно вспомнить, например, о своеобразной системе преемственности, установившейся на Русской земле в XI веке после смерти великого князя Ярослава Мудрого. Политическое завещание Ярослава остальным Рюриковичам предусматривало, что власть между князьями передается не от отца к сыну, а по старшинству: от старшего брата к среднему, затем к младшему. Только после смерти младшего брата власть могла перейти в руки сына старшего. Каждому из стоявших на этой иерархической лестнице предназначался свой определенный удел, от более доходных мест к менее доходным.
После смерти кого-то из князей очередь передвигалась. Если на этой иерархической лестнице умирал номер первый, то пожитки укладывали буквально все обитатели его вотчины: семья, дружина, челядь и прочие. Номер второй становился номером первым и, соответственно, переезжал из удела номер два в удел номер один. За ним садился на коня номер третий и так далее.
С точки зрения современного менеджмента порядок был, конечно, не безупречен. К тому же в него то и дело вклинивалась сама жизнь с ее страстями, эгоизмом, предательством и доблестью, когда кто-то считал себя обойденным, а другого недостойным. Если представить непростое и извилистое генеалогическое древо династии Рюриковичей, то можно понять, почему механизм то и дело давал сбои и приводил к кровопролитию.
Народу выдерживать эту «правительственную чехарду» было непросто. Все договоренности, с трудом достигнутые с одним из князей, приходилось заново защищать перед его «сменщиком». К тому же менялся ведь не только лидер, но и весь управленческий аппарат, который, как и обычно, сначала долго входил в курс местных дел, а затем пытался вести их на свой лад, на первых порах не очень считаясь с местными условиями и традициями. К тому, что с местным населением выгоднее сразу же договариваться, так сказать, еще не слезая с лошади, князья пришли далеко не сразу. Однако пришли. Это касалось даже самого старшего князя, садившегося на престол в Киеве. Если новый властитель сам не догадывался сразу же определить «правила игры» с народным собранием, умудренные опытом советники-бояре ему об этом напоминали: «Ты еще с людьми киевскими отношения не укрепил».
И все же разговор о преемничестве в отечественной истории стоит, вероятно, начать с великого князя Ивана III. Во времена его правления Москва уже окрепла, подмяв под себя почти все остальные уделы, и освободилась от татарского давления. Наконец, именно Иван первым в нашей истории стал величать себя «государем всея Руси».
К середине XV века Москве впервые пришлось сформулировать общенациональную идею, без которой двигаться дальше, в будущее, русские просто не могли: это была идея национального государства. Она отражала объективную реальность: князь Московский стал к этому времени великорусским государем, а расширившееся Московское княжество граничило уже не с другими русскими вотчинами, а с иностранными державами.
Изменились и внешние обстоятельства. Незадолго перед тем, в 1453 году, пал Константинополь. Ошеломленная Русь вдруг осознала, что оказалась последним бастионом православия в мире. Брак Ивана с племянницей последнего византийского императора Софьей Палеолог легализовал то, что уже произошло де-факто: утвердил за Москвой роль защитницы «истинного христианства».
Не случайно, что именно во времена правления Ивана III у Москвы появляется и полноценная внешняя политика. Именно при нем завязываются сложные дипломатические отношения с Западной Европой, прежде всего с Польшей, Литвой, Швецией, германским императором, с Тевтонским и Ливонским орденами. На смену княжеским войнам между самими же русскими приходят сражения между народами, продиктованные государственными общенациональными интересами.
Сама собой появляется мысль о том, что вся русская земля, в силу обстоятельств когда-то попавшая в руки Литвы и Польши, должна вернуться в конце концов под крыло московского государя, как законная и от века принадлежавшая русским собственность. Помимо земель, собранных в единое целое Москвой и получивших название Великороссии, оставались еще Малороссия и Белоруссия – наши западные земли. В то же время окрепшее Московское государство, внимательно оглядываясь по сторонам, начало задумываться и о большем. На востоке лежали, теряясь в бесконечности (сколько дней ни скачи), земли, пригодные для заселения; на юге соблазнительно бились о берег волны Черного моря, а на западе, перекрыв выход русским к Балтике и Западной Европе, стеной стояли мощные, но уже не казавшиеся непобедимыми противники: Польша, Литва, Швеция.
Василий Ключевский пишет:
Вобрав в состав своей удельной вотчины всю Великороссию и принужденный действовать во имя народного интереса, московский государь стал заявлять требование, что все части Русской земли должны войти в состав этой вотчины. Объединявшаяся Великороссия рождала идею народного государства, но не ставила ему пределов, которые в каждый данный момент были случайными, раздвигаясь с успехами московского оружия и с колонизационным движением великорусского народа.
Впечатляет, насколько стратегически последовательными и решительными были уже первые внешнеполитические шаги Московского государства. Не отвлекаясь на сиюминутное и не пытаясь извлечь второстепенных выгод, всю свою зарубежную стратегию Иван III и его последователи направляли на решение важнейшей задачи, которую они откровенно сформулировали на переговорах с Западом, – возвращение исконно русских земель. Еще в 1503 году Иван III объявил, что у Москвы с Литвой прочного мира быть не может, пока главная внешнеполитическая цель не будет достигнута. Он заранее предупредил, что борьба будет перемежаться только перемириями для восстановления сил, не более того. Этот курс выдерживался Москвой последовательно в течение 90 лет! Между 1492 и 1582 годами не менее сорока лет ушло на борьбу с Литвой и объединившейся с ней тогда Польшей.
Уже первые столкновения Москвы с западными противниками показали отставание русских во многих вопросах военного строительства и боевой техники. Русский солдат сражался не хуже других, но его нужно было грамотно обучить и хорошо вооружить. Долгая изоляция давала о себе знать. Чтобы успешно воевать с Польшей и Литвой, Москве как воздух требовались иностранные специалисты. Решить эту задачу оказалось непросто, учитывая блокаду, организованную на западных границах. Тут же возникала и еще одна сложность: Москва, щепетильно относившаяся к вопросам веры, стремясь получить от Запада современные технологии и знания, категорически не желала проникновения на свою землю каких-либо «крамольных» западных идей.
Так что и здесь Ивана III можно считать первопроходцем. Именно ему первому пришлось искать золотую середину в отношения русских с Западом.
Это только кажется, что все вышесказанное не имеет отношения к преемничеству. Просто если потомкам Ивана III приходилось думать лишь о своих преемниках, то ему самому требовалось позаботиться не только о будущем, но и о прошлом. Менялся старый порядок, потребовалась и новая «легенда». И прежде всего Иван III должен был определиться, чьим преемником является он сам.
Первый русский государь нашел неординарное решение: в вопросе веры твердо сделал ставку на Византию, а вот свои корни, пусть и задним числом, пустил на Западе. В начале XVI века придворными политтехнологами государя – а это древнейшая профессия – создается новая родословная русских князей, ведущая свое начало прямо от римского императора.
Доктрина звучала примерно так: когда император Август стал изнемогать от непосильной ноши огромной власти, он разделил свои обширные владения между братьями. Одного из братьев – Пруса – он посадил править на берегах рек Вислы и Немана. Именно поэтому вся эта земля и стала называться Прусской. Так вот, великий государь Рюрик, утверждала новоиспеченная легенда, потомок Пруса в четырнадцатом колене, и положил начало царской династии на Руси.
На ход мысли тогдашних политтехнологов стоит обратить внимание. При всем уважении к Византии, Москва и Иван III сочли необходимым связать себя пуповиной с Августом, то есть с Западом. Думается, что причина этого кроется не только в желании добавить несколько веков к родословной или украсить мантию хотя бы по краю престижным императорским позументом. Можно было сколько угодно рассуждать о превосходстве православия над католицизмом, но при этом отдавать себе отчет в том, что Запад во многом ушел вперед по сравнению с Русью. Не способная пока еще перебросить мостик в будущее, чтобы догнать Европу (это произошло только в эпоху Петра Великого), Москва выстроила мостик в прошлое – чтобы хоть породниться с Западом.
Кстати, Софья Палеолог привезла с собой в Москву не только двуглавого орла. Вслед за ней из Рима, где она жила до замужества, прибыли мастера, во многом изменившие лицо Кремля: иностранцы построили знаменитый Успенский собор и Грановитую палату; современный по тем временам каменный дворец заменил старые деревянные русские хоромы. Так что и внешний облик политического центра Руси власть поручила менять не византийцам, а представителям западной культуры – итальянцам.
Византийские греки, сопровождавшие Софью, занялись тем, чем владели лучше всего, то есть дворцовым этикетом и искусством интриги. Вторым Царьградом Москва не стала, но некоторые византийские привычки, особенно склонность к придворной интриге, русская элита усвоила крепко. Византийский менталитет как бы прилагался к двуглавому орлу. В нагрузку.
Упоминаю об этом, понятно, не случайно. В вопросе о преемниках интрига и интриганы всегда играли важную роль.
Выбор наследника оказался для Ивана III сложнейшим. В ту пору в единый клубок сомнений и противоречий сплелись как минимум три нити, три проблемы.
Во-первых, само собой, это родственные связи. Брак с Софьей Палеолог был для Ивана вторым. От первой супруги у него уже был сын. Умер он рано, зато успел оставить отцу внука – Дмитрия. От брака с Софьей родился Василий. Так что наследника предстояло выбирать между Дмитрием и Василием. Борьба между двумя этими кланами-партиями велась жесточайшая, одна интрига здесь буквально наслаивалась на другую.
Во-вторых, вопрос о преемнике Ивану III приходилось решать на фоне противостояния со старыми великокняжескими традициями, о которых и шла речь в самом начале. Они, правда, уже ослабли в силу того, что еще предки Ивана III целенаправленно вели дело к укреплению в стране единовластия. Дмитрий Донской оставил старшему из пяти сыновей треть всего своего имущества, возвысив тем самым его над остальными. В свою очередь, отец Ивана III – Василий Темный завещал старшему сыну уже половину имущества. Так постепенно зарождалось на Руси самодержавие.
Тем не менее былые традиции все еще жили, поэтому Иван III, решая вопрос о преемнике, был вынужден подавлять сопротивление сторонников старины и настаивать на том, что ему наследует не просто кто-то из Рюриковичей, а именно его потомок. Своей цели он добивался любыми средствами, поэтому и стал первым в нашей истории Иваном Грозным, о чем большинство наших сограждан давно забыло. (Иван IV оказался гораздо страшнее Ивана III, так что просто «узурпировал» в народной памяти прозвище Грозного.)
В-третьих, Ивану III следовало определиться, кто из двух кандидатов лучше подходит на роль преемника с политической точки зрения. Это было крайне важно. То, что происходило на Руси в ту пору, выражаясь современным языком, можно назвать революционной реформой. Кто из двух наследников сможет успешнее подавить сопротивление не подвластных еще Москве уделов и укрепить в государстве самодержавие? Кто лучше продолжит внешнеполитический курс окрепшей Москвы?
Не удивительно, что Иван III колебался. Сначала преемником был назначен внук Дмитрий, а затем сын Софьи Палеолог – Василий.
Замечу, что торжественное церковное венчание Дмитрия преемником было равносильно по тогдашним меркам изданию основного закона. И все же Иван III, «издав закон», тут же его сам и нарушил. Будущие первые лица России почему-то решили, что это не исключение, а и есть само правило. Не знаю ни одного правителя земли Русской, который бы не нарушал им же самим написанные законы. Кстати, ситуация ничуть не изменилась и после того, когда монархия в России прекратила свое существование, так что не стоит этот грех приписывать лишь самодержавию.
Тот факт, что чаша весов склонилась в конце концов в сторону Василия, объясняется тем, что главным аргументом при выборе преемника стал все-таки аргумент политический. В те времена кровь Палеологов, что текла в жилах Василия, являлась важнейшим политическим фактором. Будучи потомком византийских императоров, легче было и авторитет Руси поднять, и интересы православия отстаивать, и царский титул легализовать.
В своем завещании Иван III позиции преемника максимально укрепил. Умирая в 1505 году, он не только оставил Василию более трех четвертей всех русских городов (остальное получили другие четыре сына), но и завещал лишь ему право чеканить монету и сноситься с иностранными государями. Таким образом, Василий стал реальным политическим преемником, а остальные сыновья – лишь привилегированными землевладельцами.
Именно при Василии завершилось объединение великорусской народности, а московский князь получил значение национального государя. Да и внешняя политика Руси стала еще тверже отстаивать общегосударственные интересы.
В конце концов преемник добился и легализации царского титула. В договоре 1514 года с императором Священной Римской империи Максимилианом I сын Ивана III и Софьи Палеолог Василий назван уже русским царем.
Правда, это была лишь простая констатация факта. Русь стала самодержавной и без благословения императора Священной Римской империи – на тот исторический момент эту почетную должность занимал австрийский император. Более того, русский государь уже тогда получил в свои руки власть, о которой не мог и мечтать ни один из западных королей.
Безоговорочно считать это успехом я бы не стал. Именно Иван III заложил в историю отечественного преемничества традицию, которая в устах тогдашнего первого лица государства дословно звучала так: «Кому хочу, тому и дам княжение». Иногда выбор первого лица оказывался удачным, но нередко приносил России и немало горя.
Как точно заметил Василий Ключевский, «преемникам Ивана III дан был пример, которому они следовали с печальным постоянством, – одной рукой созидать, а другой разрушать свое создание».
Король, свита и «фантомный преемник»
Утверждение «короля делает свита» в России справедливо ровно в той же степени, что и утверждение «король делает свиту». Процесс взаимосвязан. Просто если первое лицо создает для себя безопасное и комфортное окружение плюс, естественно, ищет помощников, то его ближний круг больше всего озабочен сохранением своего привилегированного положения. Ради этого он всегда был готов и в оппозицию перейти, и порядок престолонаследия подправить, и ударить государя в висок табакеркой.
В свою очередь, король тасует свою свиту, как колоду карт, то сбрасывая лишние фигуры, то объявляя их на время, по собственному усмотрению, козырями. Политический покер – явление перманентное: там блефуют, делают ставки, выигрывают и проигрываются до нижнего белья постоянно.
Подлинное единомыслие с первым лицом – явление редкое. Времена, конечно, изменились, но тема преемника по-прежнему всех очень нервирует. Раньше ситуация становилась особенно горячей, едва государь чувствовал серьезное недомогание, теперь – с приближением президентских выборов.
Все отрицательные последствия союза-соперничества «короля и свиты» Россия впервые всерьез испытала на себе в эпоху Ивана IV.
Василий III, долгие годы остававшийся бездетным в первом браке, в конце концов ради продолжения рода женился вторично на Елене Глинской, которая и родила ему Ивана и Юрия. Умер государь, однако, не дожив до шестидесяти, так что наследник в три года остался без отца, а еще через несколько лет, когда скончалась и мать, оказался на попечении ближнего боярского круга своего родителя. История подробно описывает невеселое детство будущего Ивана Грозного. В этот период он сполна испытал на себе все тяготы сиротства, из первого ряда мог наблюдать и боярскую грызню, и самоуправство своих «воспитателей».
Ближний круг наслаждался отсутствием хозяина, как только мог. То есть спал с ногами на хозяйской постели, беспардонно запускал руки в государственную казну, держа при этом даже царевича иногда впроголодь. Этот детский опыт определил и сформировал личность Ивана IV, его живой, но лукавый и подозрительный ум, способный как на величайшие дела, так и на величайшую жестокость.
Не был безгрешным и новый ближний круг, сформированный уже самим Иваном после своего официального воцарения и женитьбы.
Кстати, женился молодой государь по большой любви на простой боярышне Анастасии Романовне Юрьевой. Обратим внимание на это имя.
С точки зрения ближнего круга Ивана IV – а это в основном были знатные бояре вроде постельничего Адашева и князя Курбского, во главе которых стоял священник Сильвестр (близкий к тогдашнему митрополиту), – молодой государь взял жену «не по себе». Худородную или, как, ничуть не стесняясь, пренебрежительно говорили приближенные царя, «рабу». Никто тогда, естественно, не мог предвидеть, что именно род Кошкиных-Захарьиных-Юрьевых-Романовых и сядет после Смуты на царский престол. И что добрый характер и ум «рабы» Анастасии, оставшиеся в людской памяти, сыграют немаловажную роль при выборе царем Михаила Романова.
Первый, «светлый», период царствования Ивана IV запомнился немалыми успехами во внутренней и внешней политике, и, справедливости ради, следует признать, что тогдашний ближний круг монарха ему в этом активно помогал. Судите сами. Исправлен так называемый «Судебник», который предусматривал после реформы даже суд присяжных (тогда их называли «целовальниками»). Составлен сборник правил церковного порядка, который устранил хаос в церковном управлении. С успехом проведена реформа местной земской власти. Серьезно реформирована армия, что позволило Москве завоевать сначала беспокойное Казанское царство, а затем и Астраханское. Эти победы открывали русским дорогу на восток и на юг.
Весь этот благополучный для России период закончился, едва между государем и его ближайшим окружением пробежала черная кошка преемничества. Когда в 1553 году Иван серьезно захворал и, не надеясь уже на выздоровление, захотел оформить завещание в пользу своего сына Дмитрия, то вчерашние царевы единомышленники тут же, у постели, больного своего покровителя предали.
Причиной неповиновения был страх. В случае смерти государя ближний круг потерял бы все свое влияние, поскольку на смену ему неизбежно пришла бы родня царицы Анастасии и наследника Дмитрия. Отсюда и смута. Адашев, Курбский и батюшка Сильвестр не пожелали целовать крест Дмитрию, а прямо заявили, что трон должен наследовать двоюродный брат государя князь Владимир Старицкий. Лишь неимоверными усилиями Иван переломил ситуацию и заставил приближенных исполнить свою, как ему казалось, последнюю волю.
Горький урок был заучен царем накрепко. После смерти Анастасии в 1560 году (при ней государь держал себя в руках) пришел час расплаты, а для страны начался второй, уже «темный» период царствования Ивана Грозного. Сильвестр был отправлен в Соловецкий монастырь, Адашев в Ливонию, где и умер, Курбский сам бежал в Литву, откуда посылал царю обличительные письма. Кое-кто принял и смерть. Этими мерами государь, однако, не ограничился. Нежелание ближнего круга целовать крест преемнику вылилось в то, что хорошо известно в русской истории как опричнина.
Подозрительный Иван расправлялся уже не с бывшими друзьями и помощниками, а со всей великокняжеской аристократией, на которую, как считал, не мог теперь положиться. Впрочем, метла опричнины работала очень размашисто, поэтому под репрессии попадал в ту пору кто угодно, даже простолюдин. Как бы то ни было, княжеская аристократия была разгромлена и унижена, а старые удельные вотчины княжат перешли в собственность государя.
Столь широкими оказались круги от камня, неосторожно брошенного когда-то в спокойные воды ближним кругом Ивана IV. Внимательный исследователь справедливо заметит, что причины опричнины глубже и искать их надобно в глубоких противоречиях тогдашнего общества, с чем и не спорю. Утверждаю лишь, что внешним толчком для появления опричнины и ее эмоциональным фоном, болезненным нервом, стала для Ивана IV история 1553 года – его столкновение со своими ближайшими помощниками по поводу преемника.
Есть во втором периоде правления Ивана Грозного и еще один любопытный момент: феномен, который я бы назвал «фантомным преемничеством».
Речь идет сначала о потрясшем весь русский народ внезапном отъезде в 1565 году «отца-батюшки» в Александровскую слободу. Вопль над страной стоял отчаянный: «Увы, горе! Согрешили мы перед Богом, прогневили государя своего многими перед ним согрешениями и милость его великую превратили на гнев и на ярость! Теперь кому прибегнем, кто нас помилует и кто избавит от нашествия иноплеменных?»
Народные слезы и стенания заставили государя в конце концов смилостивиться и вернуться.
Впрочем, еще интереснее факт появления в 1574 году (в разгар борьбы с аристократией) «фантомного преемника», назначенного самим Иваном из числа самых маловлиятельных и малоприятных для народа своих приближенных. Речь идет о Семионе (Симеоне) Бекбулатовиче, «касимовском царьке», который хотя бы в силу своих корней, восходящих к Золотой Орде, не имел ни малейшего шанса составить Грозному даже видимость конкуренции. При Семионе, официально именовавшемся «великим князем всея Руси» и венчанном на царство шапкой Мономаха, по соседству, преклоняя перед ним голову на заседаниях Боярской думы, скромно существовал «национальный лидер» в звании боярина Ивана Московского. Этот боярин и жил в эпоху Бекбулатовича не во дворце, а на Петровке, и ездил по городу в обычной телеге, и на рынке торговался, как простой.
Реальное управление осуществлялось с помощью челобитных. Подавали их «фантомному преемнику», естественно, многие, а вот удовлетворял он «нижайшие просьбы» лишь Ивана. Так Грозный и подгреб под себя все, что еще недогреб: уже абсолютную, непререкаемую власть и остатки имущества своих противников из числа бояр. Причем сделано это было – в чем, собственно, и заключался смысл оригинальной политтехнологической задумки – чужими руками. Примерно через два года, когда последние противники «Ивана Московского» были повержены и разорены, касимовский царек отправился в Тверь. Формально в ссылку, а на самом деле – в подаренную ему за верную службу вотчину (к Твери добавили еще и Торжок), где о нем быстро и забыли. Ну а Иван IV снова переехал с Петровки во дворец.
(История уникальная, однако, как показали не столь уж давние события, возможность появления в России своего рода «фантомного преемника» до сих пор реальна. Таким был, например, тандем Медведева – Путина, где формальный президент всего лишь давил на педали, а фактически рулил страной премьер. До следующих президентских выборов.)
Репрессии окончательно деформировали личность государя. Одно здесь цеплялось за другое, и все шло от плохого к худшему. Несчастный случай (Дмитрий утонул в Шексне) и болезненная вспыльчивость грозного царя (официально признанная версия гласит, что именно роковой удар отцовского посоха убил наследника – сына Ивана) лишили Россию здорового преемника, приведя в конце концов на трон добрейшего, но слабоумного Федора Иоанновича.
Время династии Рюриковичей подошло к концу. А на горизонте маячила уже страшная Смута.
Грязные предвыборные технологии XVI века
Известна теория, что, в отличие от Запада, который в своем развитии шел от несвободы к свободе, Россия проделала обратный путь – от относительной свободы в раннем Средневековье к несвободе. Согласно этой теории, русский народ ради национального могущества, сознательно или бессознательно, раз за разом поступается собственной волей. Этот так называемый «московский психологический тип» отличается особой жизнестойкостью и немалым консерватизмом. Согласно теории, именно на такой психологии и базировались сначала московское царство, затем российская и советская империи, а ныне выстраивается у нас формальная демократия. Теория, впрочем, далеко не бесспорная, поскольку игнорирует многие исторические факты. Речь, естественно, не о «русской воле» без конца, края и тормозов, а об опыте отечественного народовластия. Всякое у нас дома бывало. И преемников, случалось, выбирали без подсказок сверху.
Первый опыт народовластия на Руси связан с избранием русскими городами «князей-контрактников». Властные полномочия у князя в разных вотчинах были разные, но тяжелее всех приходилось, конечно, новгородскому князю. Это только де-юре князь в республиканском Новгороде был высшей военной и правительственной властью, а на самом деле – лишь обычным наемником, которому вече могло в любой момент указать на дверь. И селили «князя-контрактника» в пригороде, и новгородскую землицу прикупить (даже через посредников) он не мог, да и шагу ступить без новгородского соглядатая-посадника не имел права. Со скандалом Новгород расставался даже с такими личностями, как Александр Невский. Выиграть Ледовое побоище ему было куда проще, чем переспорить новгородское вече.
К выборам царя Русь подходила постепенно, примерно так же, как Советский Союз – к первым президентским выборам. И Горбачев стал президентом страны не в ходе прямого всеобщего голосования, а через собрание выборщиков – на Съезде народных депутатов. Вот и Бориса Годунова царем избирал собор. На Съезде присутствовало 1500 человек, на соборе – примерно 500.