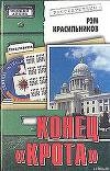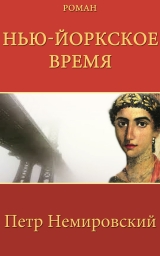
Текст книги "Нью-Йоркское Время (СИ)"
Автор книги: Петр Немировский
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Вернулся ее муж, мальчик-интеллектуал. И сразу потребовал денег. Потому что водитель «жигуленка» вел машину пьяным. В случае отказа угрожал судом. Михаил продал свою квартиру. Муж взял деньги и потребовал еще. Потом еще…
Михаил – без квартиры, без машины, в долгах. А в ящике стола пылилось разрешение на въезд в Америку, и срок его действия скоро истекал...
За неделю до отъезда в Нью-Йорк Михаил подкараулил мужа Оли у подъезда. Бросил его на землю и швырнул ему в лицо скомканный доллар. Сорвал накипевшее зло и отомстил этому торговцу несчастьем.
Оля уже была дома. Она ходила. Пока на костылях, но врачи обнадеживали.
3
– Завтра иду в Бруклинский суд.
– В Бьюклинский суд? Что, уже вызывают? – мрачно пошутил дядя Гриша.
Он сидел напротив Михаила в расстегнутой рубашке, изредка почесывая грудь. Морщинок на его лице – тьма. Непонятно, откуда у этого маленького человека берутся силы вкалывать по десять часов в день, обустраивать дом дочки в Нью-Джерси и удовлетворять во всех отношениях необъятную Еву. Железный.
– Сейчас новые правила. Вэлфер нужно отрабатывать, – пояснил Михаил.
– А ты закоси. Скажи им, что страдаешь хроническими мигренями. Чуть что – пойдешь к врачу, заплатишь ему сто долларов, он тебе выпишет любую справку.
– Здесь такое проходит?
– Почему нет? Это же Амейика, свободная страна… Ну что, племяш, давай еще по рюмочке. Завтра Йом-Кипур. Весь Нью-Йорк – выходной. На улицах не увидишь ни души, все – в синагогах, – сказал дядя Гриша, любивший преувеличения.
Выпили. Закусили.
– Ты ешь, Михась, бо завтра будем голодать. До звезды.
…Йом-Кипур для Михаила был связан с дедом. С дедом Самуилом, который погиб в лагере. За что его посадили? Кто знает? В справке о реабилитации сказано: «Постановлением Тройки УНКВД от 9 декабря 1938 г. Чужин С. С. осужден на 10 лет лишения свободы за антисоветскую агитацию». Непонятно, зачем деда отвезли из Биробиджана в Кемерово? Ведь и возле Хабаровска было полно зон. И против чего дед Самойло агитировал?
Он приехал вместе с семьей из Бершади на Дальний Восток. Семейное предание хранит историю о каком-то родном брате деда Самуила – тот якобы уехал в Америку после революции, стал там фермером. Писал на родину письма, звал к себе. Но дед Самуил был помоложе и понаивней. Как всякий образованный человек, он слишком серьезно относился к идеям. Поверил, что сможет стать фермером в биробиджанском колхозе.
В итоге – батрачил на холодной земле Дальнего Востока, искал правду на колхозных собраниях. Родил еще одного сына. Попал в лагерь. Погиб.
– Ты знаешь, я пытался здесь разыскать наших дальних родственников, отправлял запросы, – рассказывает дядя Гриша. Он окосел как-то сразу, после второй рюмки, но остановился на определенной точке. Морщинки его разгладились, глаза заблестели. – Представляешь, Чужиных в Америке – полмиллиона! Оказывается, Чужины могут быть и Чазанами, и Казанами, и Каганами. Очень древняя фамилия, библейская…
От деда Самуила не осталось ни единого фотоснимка. Только рисунок, который спустя годы нарисовал отец Михаила простым карандашом.
Дед сидел на стуле вполоборота. Ничего героического. Никакого величия. Ничего библейского. Угловатая фигура, угловатое лицо со впавшими щеками, съехавшая набок кепка. Отец запомнил деда таким. Таким, быть может, он сидел и на допросе. Таким, наверное, его видели в последний раз в бараке, перед тем, как всех зэков-евреев этого барака повели убивать за отказ работать в Йом-Кипур. Их убили возле скалы, размозжив им головы кирками. Живых и мертвых сбросили в траншею и присыпали землей.
В соседней траншее лежали православные, убитые за отказ работать на Пасху.
Все эти подробности рассказал лагерник, вернувшийся в 1954-м в Бершадь из Кемеровской зоны.
Дед Самуил и Судный день для Михаила были связаны в единое целое. Потому что в этот день все мужчины в семье Чужиных постились в память об умерших и погибших, и дед Самуил в семейном мартирологе значился отдельно и чтился особо. Высоколобый идеалист. Мученик. С дедом как-то соединялось несоединимое: теплое местечко на юге червонной Украйны – и мерзлая земля Дальнего Востока; телега с развеселым балагулой – и вагоны с вохрой и зэками. Дед – это Пост. Стакан воды и баланда. Пение шофара – и лай овчарок. Дед – это лагерь и синагога. Дорога за счастливой долей. И дорога в зону. И на Тот свет. И с Того света...
Отец в Йом-Кипур постился тайно, никому не говорил об этом. Он не любил все эти «синагогальные штучки», но в Судный день постом отдавал дань памяти ушедших. Дядя Гриша постился открыто, демонстративно, вплетая в Йом-Кипур и некоторый политический мотив. Для него еврей, идущий в синагогу, – это еврей, выступающий против советской власти.
А для Михаила Йом-Кипур – это страшный день. В кровавом закате. В стонах на пепелище. В звоне последней трубы.
Он помнит, как дядя Гриша, приехав из Бершади в Киев к ним в гости, взял двенадцатилетнего племянника с собой в синагогу. В единственную тогда ветхую синагогу на Подоле.
…Талесы, ермолки, кивот со свитками. Бородатые старики на сиденьях. Гул, как в улье. Происходит что-то непонятное, все чего-то ждут. Волнуются.
А на улице стоят женщины и мужчины. Негромко переговариваются. Достают конверты. Читают письма о какой-то Валечке, что устроилась клерком в тель-авивском банке, о каком-то Диме в Чикаго. Всех что-то объединяет. Полушепот. Акцент идиш. Страх. Кровь. Что-то сильнее, чем кровь.
Михаил слушал обрывки разговоров, снова возвращался в синагогу. Протискивался между пиджаками, плащами, талесами. Вот раввин развернул свиток, читает громко, и голос его дрожит: «Шма, Исраэль!» И оживают, нарисованные на колоннах, львы и орлы. «Шма, Исраэль!» – раввин кашляет, задыхается, читает из последних сил.
Михаэль снова выходил на улицу. Разговоры о какой-то звезде, о Книге, в которую страшный и грозный Бог впишет судьбу каждого еврея на грядущий год. И поставит Свою печать.
«Шма, Исраэль!» – прокричал раввин и воздел руки над свитком. Затем поднес к губам позолоченный рог. Мертвая тишина. «У-у-у…» – протрубил рог. Все. Запечатано. Какой-то тысячелетний еврей, стоящий рядом, радостно затряс седой головой и потянулся к Михаилу с поцелуем…
4
Показались два зеленых светящихся шара у входа в подземку. Через турникеты Михаил прошел более уверенно, чем в первый раз. Уже знал, что пули в метро не свистят.
Выйдя на улицу, долго спрашивал, как попасть в Бруклинский суд. Спешащие прохожие улыбались, но пожимали плечами. Михаил не уставал повторять «волшебные» слова: sorry, please. Без толку.
– ….ь! – выругался он в сердцах.
Идущая мимо женщина остановилась:
– Какие-то проблемы? – спросила она по-русски. – А-а… Вам нужно проехать еще две остановки.
Через час он вошел в здание суда. Высоченные потолки, ковры на сверкающем полу. Мужчины в костюмах-тройках, с дипломатами в руках. Женщины – ухоженные, в деловых костюмах. Словом, все чинно, официально. Михаил достал из кармана бумажку, где было указано, к кому обратиться. Мистер Джек Уайт.
Наверное, мистер Уайт – важный судебный клерк, и Михаил должен будет ему помогать. Что ж, научится работать с деловыми бумагами, подтянет английский. Неплохо для начала. Сразу получил чистую работу. Босс уважает. «Мистер Майкл Тчузин?» – «Да, мистер Уайт». – «Бросайте работать. Время ленча».
…В подвале воняло хлоркой. Три негра, сидя на корточках возле урны, курили. Мистер Уайт, черный, как антрацит, вручил Михаилу швабру. Указал на пластиковую посудину на колесиках, с ручкой сбоку и валиками для отжимания воды. Мистер Уайт с плохо скрываемым наслаждением в голосе произнес: «Сэр, ваши туалеты – на первом этаже. За два часа сегодняшнего опоздания с вас вычтут десять долларов». Негры умолкли, с любопытством смотрели, как поведет себя этот белый.
Михаил глуповато улыбнулся. В армии салагу отправляли мыть парашу в первую же ночь, а за отказ избивали. Главное было – сразу не сломаться. Пусть бьют – говори «нет». А здесь – не Советская армия. Здесь – Бруклинский суд. Все вежливо. Без рукоприкладства. Светлую сторону при желании можно найти во всем.
– Sorry, – Михаил отдал швабру, развернулся и ушел.
Судя по всему, вэлфер ему теперь не дадут.
В сквере он сел на скамейку, закурил. Чего же он хотел? Приехал в Америку – без полезной специальности, без денег, с плохим английским. И сразу все получить? Слава богу, есть дядя Гриша, который согласился устроить в бригаду маляров. Хорошо, что отец когда-то научил малярничать. Он здоров, молод, полон сил. Не ной! И забудь. Забудь про дачи, про костерки, про утренние туманы над старым Днепром...
Михаил выпустил пару дымных колечек. Сигареты, кстати, стоят дорого, курить придется поменьше. И квартиру нужно найти поскромнее. От покупки машины тоже придется отказаться. Аскетизм. Воздержание. Готовься, Михась, проливать трудовой пот. Он хмыкнул. Обозленный и в то же время жалкий зашагал к метро.
ххх
Вскоре он снял крохотную квартирку на первом этаже ветхого двухэтажного дома. В коридоре в бойлерной гудел мотор, оттуда тянуло мазутом. В комнате по стенам ползла плесень, линолеум на полу был разорван.
Мебель подбирал на улице. Вечером брел вдоль тротуаров, где рядом с мусорными мешками валялись разбитые стулья, диваны, телевизоры. Нашел почти новый матрас. Втащил матрас в квартиру, бросил на пол и прикрыл шерстяным одеялом. Завтра его ждал первый рабочий день в бригаде маляров.
Лежал и курил. Раскаивался в том, что приехал в Америку. Обвинял Олю, ее мужа, всех. Плакал. И презирал себя за эти слезы.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
...Свечка догорала, голубой шарик скатился по фитилю и погас. Алексей обмакнул палец в расплавленный воск, посмотрел, как медленно застывает теплая матовая пленка. Алексей еще ясно не видел Героя своего романа. Лишь один раз, когда дописывал последнюю строку, почудилось, что рядом промелькнул какой-то парень, вернее, чья-то тень оторвалась от одной стены и вошла в другую. И в этот миг сквозь сердце Алексея прошла крепкая цыганская игла. Боль уже была не сладкой, как в прошлый раз, а, напротив, саднящей и острой.
Н-да, этот Михаил – сильный. У него хватает мужества презирать собственные слезы. Алексей же своими слезами дорожил.
Нью-йоркская жизнь Алексея складывалась куда печальней – стонал и жаловался. Пил водку и не пьянел. А когда нервы не выдерживали, выходил из дома и шел к Гудзону. Благо, быстрым шагом до реки можно было добраться за полчаса.
Тяжелые яркие звезды горели над черной беспокойной водой. Волны разбивались о мшистые валуны, в лунном свете возникали пятна пепельной пены. Шум, плеск волн, далекий гул возвращали сиюминутное вечному, напоминали о других берегах, не утраченных навеки, а иных – которые будут когда-то обретены…
В единственную тогда в Нью-Йорке русскую газету Алексея не взяли. Ничего другого, кроме как писать статьи, он делать не умел. Пробовал устроиться консьержем или швейцаром. Нигде не брали. То ли неубедительно врал, что имеет и такой опыт работы, то ли по незнанию претендовал на прибыльные места швейцаров, куда простых смертных, с улицы, не берут. А не брали, наверное, еще и потому, что Алексей сам не хотел ни таскать чемоданы туристам, ни открывать двери, произнося холуйское «please». Даже за пристойную зарплату и хорошие чаевые. Негибкий он человек, Алексей. Не американец.
Его жена быстро поняла, что к чему. Она не мучилась роковыми вопросами. Сразу пошла в бюро по трудоустройству, заплатила десять долларов, и ей дали адрес богатой еврейки. В первый же день получила за уборку дома пятьдесят долларов. Деньги, правда, пропали – ее оштрафовал полицейский за курение на платформе в метро, когда возвращалась домой.
А русский Нью-Йорк тем временем быстро разрастался, приезжали сотни тысяч русскоязычных иммигрантов. Открывались новые магазины, мастерские, рестораны.
Появилась новая русская газета, в которую Алексея, слава богу, взяли. Напротив редакции стоял высокий католический собор. Бил колокол, созывая прихожан на утреннюю мессу. Густой колокольный гул долетал и до окон редакции, проникал в душную комнату, где сидели трое затравленных журналистов, у которых не было сил ни надеяться, ни любить, ни верить в Бога. Они были обязаны безостановочно писать, заполняя газетную бумагу необходимым набором слов. В конце недели появлялся босс и вместе с излюбленной шуткой «Вы уволены» выдавал каждому мизерный чек.
Вечером снова с колокольни плыл звон, в храме начиналась вечерняя служба. Закрывались банки, магазины, пиццерии. А в прокуренной редакционной конуре все еще сидели три журналиста, обезумевшие от бесконечного писания. У них уже не было сил чувствовать собственную боль. И лишь когда поздно вечером они возвращались домой, они могли позволить себе задуматься.
Каждую пятницу Алексей выпивал дома стакан водки и валился на диван. Жена, вернувшись с работы, еще смотрела телевизор, «мыльные оперы» ей помогали учить английский язык, а заодно и вникать в тонкости американской жизни. Она обладала уникальной пластичностью психики, схватывала на лету нюансы и обертоны американского характера, манеру поведения: эти мимолетные, но ядовитые шуточки, якобы невинные ужимочки, безошибочные хватательные рефлексы. Ей удавалось вполне натурально изображать восторг, удивление, сочувствие – при полнейшем безразличии к происходящему. Словом, она уходила в Америку, в американский Нью-Йорк, в то время как Алексей безнадежно хирел в русском гетто Бруклина.
В субботу, свой единственный в неделю выходной, он спал. Не было ни сил, ни желания даже разговаривать с женой, слушать, какие скидки на покупку одежды дают работникам магазина «Мэйсис», куда она недавно устроилась продавщицей.
Зачем он ей был нужен в Нью-Йорке? Зачем? С жалобами и стонами. С больными старыми родителями. С нищенской зарплатой, которой едва хватало на оплату квартиры. Без перспектив. Да еще с этим бесконечным воем – «Хочу написать роман».
Утром, в воскресенье, он снова отправлялся в редакцию. Скрипел снег под подошвами. Улицы были безлюдны, Нью-Йорк еще спал. И жена еще обворожительно лежала под одеялом, досадуя на такое недолгое блаженство утренней поспешной любви...
Алексей замедлял шаги. Он знал, что у него остается лишь маленький отрезок заснеженной дороги – от дома к метро, мимо старого еврейского кладбища. И за эти пять, точнее, семь минут он должен успеть продумать и прочувствовать многое.
Шапки снега лежали на черных гранитных кубках скорби. Цветы на еврейское кладбище приносить запрещается. Об этом сообщали таблички, написанные специально на русском языке – вдоль высокой ограды уже потянулись свежие могилы русских евреев. Несмотря на запрет, цветы все же приносили. Раз в неделю бригада веселых поляков убирала кладбище – сгребали цветы в кучу, грузили на трактор и вывозили их за ограду.
Алексей проходил мимо, стараясь не наступать на оброненные сломанные розы. Видеть эту уборку было больно. Но он старался не растрачивать боль, потому что хотел ВСЮ свою боль, без остатка, отдать герою своего будущего романа, а времени оставалось лишь несколько минут – уже виднелись зеленые шары подземки.
Однажды в пятницу, поздно вечером, он выпил водки, чтобы быстрее заснуть, рухнул на диван и, закрыв глаза, не увидел ничего, кроме густого мрака. Он открыл глаза, но мрак не рассеялся, хотя в комнате горела настольная лампа, и работал телевизор. Алексей понял, что он сам становится мраком. Он уткнулся лицом в подушку и долго плакал, а жена сидела рядом и не знала, чем ему помочь. Ей самой было тошно.
…А ночью пошел снег. Мело, мело по всему Нью-Йорку. Пушистые хлопья ложились на асфальт, на крыши домов, на ветки елок. Снег покрывал пеленой старое кладбище, бейсбольную площадку, рельсы метро. Под снегом скрывались автомобили, вагоны в депо, взлетные полосы в аэропортах... Утром на работу никто не пошел. Люди лопатами расчищали дорожки от домов, откапывали автомобили. Вертолеты разыскивали пропавших на шоссе. А ночью снова сыпал снег...
Все эти три дня Алексей читал, а по ночам смотрел в окно. Напротив, на крыше соседнего дома, чернела труба, из которой струился дым. И казалось, что рай – он такой же: снег, пушистые елки, дым из печной трубы…
Потом открылась еще одна высокопрофессиональная русская газета, где требовался репортер. Алексея взяли с испытательным сроком. Его первые репортажи с места аварии водопровода и с пожара на текстильной фабрике понравились. Но этого было недостаточно.
2
Убили русского боксера, мастера международного класса Александра К. На рассвете в квартире на Брайтоне прогремело три выстрела. Киллеры – их было двое – сбежали по лестнице дома, вскочили в машину и скрылись. Об этом сообщили утром в теленовостях.
Алексей был в похоронном доме, оттуда гроб с телом убитого боксера увезли на кладбище. Алексей попытался провести собственное журналистское расследование, по крохам собирал все, что так или иначе относилось к трагедии. Спортсмены и тренеры – все, кто близко знал погибшего и догадывался о причинах убийства, умолкали, как только Алексей включал диктофон. Боялись.
Алексей тоже боялся. Он чувствовал себя мерзавцем, потому что от этой статьи зависел его завтрашний день – работа, зарплата, медстраховка.
Складывалась такая картина: русский боксер приехал в Нью-Йорк на соревнования и здесь остался. Мечтал пробиться в большой спорт. Через год к нему из России приехала жена с годовалым ребенком. Отметили день рождения сына. Вечером он ушел на работу и не вернулся. За что убили? Кто? Неизвестно.
«…У Томаса было агрессивное, тренированное тело, но лицо оставалось таким же чистым, мальчишеским...» Эта строка из романа Ирвинга Шоу почему-то вертелась в голове, когда Алексей ходил по спортивным клубам и русским кабакам, расспрашивая об этом убийстве. Когда-то в юности он несколько раз перечитывал роман «Богач, бедняк», больше других героев Алексей, – наверное, как и сам Шоу, – любил Томаса. Сильный характер, прямой, благородный, он начал свою жизнь уличным хулиганом, стал боксером и погиб как герой, спасая от мафии жену-алкоголичку. В романе, однако, все было трагично, но и красиво – ринг в «Мэдисон-гарден», яхты, роскошные отели.
Здесь же правда была в самом убогом виде. Талантливый русский боксер грузил овощи всего лишь за два доллара в час, жил в подвале, затем стал вышибалой в русском кабаке, а потом – телохранителем хозяина того кабака. Свои последние 25 долларов потратил на такси, чтобы из аэропорта привезти жену и сына.
В него всадили три пули. Две – в грудь, третью – в голову. Третий выстрел, контрольный, был главным – предупреждение хозяину кабака, что если он не заплатит кому нужно, то следующей жертвой станет он.
Все это Алексею рассказала жена убитого спортсмена – миловидная блондинка, Алексей разыскал ее в трущобе на Брайтоне. Вдова говорила полушепотом, потому что рядом, на одеяле, расстеленном на полу, спал ребенок. Она уже не плакала, в ней угадывалась волевая натура. Лишь один раз на глаза выступили слезы, когда она делилась недавними надеждами на будущее в Америке: «Думали, Саша пробьется в спорте, я – в медицине, родим второго ребенка…»
Еще она попросила не упоминать в статье ни названия того кабака, ни имени хозяина. «Чтобы не бросать тень на репутацию бизнеса». Да, она все понимает, но хозяин дал деньги на похороны, купил ей и ребенку медстраховку, обещает оплатить памятник. Она показала рекламные буклеты памятников: «В Нью-Йорке, оказывается, памятник можно устанавливать через месяц после похорон».
Алексей кусал губы. Почему она не выставит его за дверь? И почему так быстро она согласилась благодарить того, кто должен был лежать в земле вместо ее мужа?!
Он зашел в тот кабак. Доложили боссу, что пришел какой-то русский журналист. Их короткий разговор проходил в закрытой комнате. Хозяин кабака предложил деньги, а после того, как Алексей отказался, сказал: «Напишешь в своей сраной газете лишнее слово – ляжешь рядом с Алексом, на том же кладбище, понял?»
Статья все же вышла. Получилось весьма проникновенно, со слезой, но туманно. Если бы Алексей решился добавить одну лишь подробность – назвать кабак и имя босса, чьим телохранителем был убитый, – многое стало бы ясно.
Через пару дней в редакцию позвонила вдова убитого, сказала, что какая-то женщина привезла ей детскую одежду и игрушки. Отдала и уехала, даже не назвав своего имени. «Представляете, я четыре раза спускалась к машине за вещами. Почти все новое и аккуратно упаковано, – звенел голос на том конце провода. – Незнакомый человек – и вдруг… Не думала, что в Америке такое бывает…»
Алексей молчал. Потому что знал, кто была эта великодушная незнакомка, – вдова другого русского боксера, убитого на Брайтоне год назад.
Это убийство, кстати, подтверждало догадки властей о происходящих изменениях в русском Нью-Йорке. В Департаменте нью-йоркской полиции и в ФБР уже создавались специальные отделы по борьбе с русской организованной преступностью.
…... ………… ……………. …………………………………………………...
Потом еще не раз Алексей проводил журналистские расследования. Порою выдавались недели, наполненные событиями, а порою – относительно спокойные.
Потом от него ушла жена. Им даже не нужно было разводиться, так как их брак в нью-йоркском Сити-холле не был зарегистрирован. Просто отныне они должны будут заполнять отдельно свои налоговые декларации. Всех-то дел. Об этих тонкостях жена заблаговременно узнала у адвоката.
Алексей слушал эту юридическую ерунду и думал о том, как далеко она зашла в своей мнимой американизации: советуется с адвокатом, который взял за консультацию, наверное, долларов триста. Неужели зря прожили вместе пять лет?.. Мелькнула моторная лодка, распушенные волосы на ветру. Все это умерло. А может, никогда и ничего и не было. Было, есть и будет – промозглый ветер за окном, мусорные мешки на тротуаре. Больные родители. Тоска. И неизбывная боль писательства.
В общем-то, никто не виноват. Нужно было бороться с нуждой, свыкаться с новой жизнью, учиться, вкалывать. Жалеть друг друга не хватало сил. Они оба поняли, что выползать, выкарабкиваться им будет легче поодиночке.
Они встретились случайно два года спустя. В автобусе. Алексею показалось, что она подурнела. Он даже заметил морщинки у ее глаз. Боже, неужели он мог когда-то любить эту женщину? Этот манекен из витрины магазина «Мэйсис»?! В ее глазах он, правда, тоже был не Львом Толстым – все тот же репортер русской газетки, с нищенской зарплатой и плохим английским.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Аллея Центрального парка. Под высоким кленом сидит художник. Смуглолицый армянин. Высохший, в морщинах. Жесткая, в пол-лица борода.
– Здравствуй, Акоп.
– Здравствуй, Алексей-джан.
Перед Акопом этюдник. Кисточка окунается в черную краску, ударяет по белому листу. Потом идет плавно, плавненько. Появляются чьи-то глубокие глаза, горбатый нос, высокий мученический лоб. Алексей улавливает свое отдаленное сходство с этим, эскизным.
Акоп – гордец, презирает всех уличных художников. Он – гений, а они – ремесленники. Но, увы, ему тоже приходится подхалтуривать портретами на улице. В глазах его – что-то жаркое, черное. Алексею порой кажется, что Акоп когда-нибудь напишет картину «своей жизни» в духе Эль Греко и сойдет с ума.
– Не сойду, Алексей-джан. Дочки не позволят. Как твои дела?
– Нормально.
Алексей посмотрел вглубь вечерней аллеи. Несколько одиноких художников еще сидели там возле своих этюдников, рассчитывая на последний заказ от прохожих.
– Лизы сегодня в аллее не было, – сказал Акоп, не поворачивая головы. – Вчера она такой портрет написала... вах! Вокруг собралась толпа, аплодировали ей.
Алексей вздохнул.
– Я скажу Лизе, что ты приходил. Скажу, что ты хотел ей па-а-зировать, – Акоп поднял кисточку вверх и рассмеялся.
ххх
С Лизой он познакомился прошлой осенью здесь же, в аллее.
В редакцию тогда позвонил Акоп:
– Полиция всех арестовывает. Приезжай!
Алексей подоспел к самой развязке, когда полиция сажала художников в полицейский автобус. Некоторые были в наручниках. За заградительными перегородками мигом собралась толпа. Вечно спешащие, чрезвычайно занятые жители Нью-Йорка обычно имеют уйму свободного времени – случись на улице что занимательное, они готовы часами стоять и комментировать.
Акоп шел без наручников, в сопровождении полицейского. Упрашивал, чтобы его отпустили, от волнения смешивая английские слова с армянскими. Увидел Алексея.
– Алексей-джан, скажи им, что я не знал о новом указе.
Полицейский равнодушно выслушал этого незваного заступника с удостоверением репортера русской газеты.
По опыту Алексей знал, что на журналистов нью-йоркская полиция смотрит, как на мух: не церемонясь, могут вытолкнуть за ограждения, отобрать «корочки» и даже проехаться дубинкой по спине. Правда, крайние выходки в отношении журналистов полицейские себе позволяют лишь в экстремальных ситуациях, скажем, в случае беспорядков на параде или во время облав.
Алексей упрашивал отпустить Акопа. Упомянул, что про этого художника писали городские таблоиды, его фотографию поместили даже в ежегодном цветном альбоме «New York», на одном развороте с мэром. Полицейский нахмурился, – видимо, упоминание про мэра зародило у него некоторое сомнение. Но в автобус завели стоящего перед ними парня в наручниках и, дабы не создавать «затор», полицейский отрезал «no» и подтолкнул Акопа в спину. Вскоре автобус покатил в полицейский участок. Толпа зевак быстро растворилась.
…Возле забора стояла высокая черноволосая женщина лет тридцати пяти. В синем длинном платье. Вид у нее был довольно жалкий.
– Не думала, что в Нью-Йорке такое возможно, – сказала она. – Пришла сюда сегодня в первый раз. А тут такое… Хорошо еще, что меня тоже не арестовали. Вовремя отошла в сторону и меня приняли за прохожую, – она подняла с асфальта сумку, из которой выглядывал рулон белой бумаги. – Ты не знаешь, почему их арестовали?
– Если я правильно понял, вышел новый указ. Теперь, чтобы рисовать на улице портреты, нужно покупать специальное разрешение. Художники, видимо, посчитали, что платить не обязательно. И ошиблись. В Америке такие штуки не проходят.
– Их оштрафуют и отпустят?
– Кого-то отпустят сразу. А тех, у кого проблемы с документами и просрочены визы, наверное, подержат подольше... Меня зовут Алексей.
– Лиза.
– Ты давно живешь в Нью-Йорке?
– Год.
– Ты откуда родом?
– Из Киева.
Он посмотрел ей в лицо. Большие карие глаза, персиковый пушок щек, сухие губы. Поцеловать бы…
– Помнишь Сэлинджера «Над пропастью во ржи»? Там парнишка терроризировал окружающих дурацким вопросом: «Улетают ли на зиму утки из Центрального парка?» Эти утки – рядом, минут десять ходьбы отсюда.
Она усмехнулась, отдала ему сумку.
– Пошли.
Они стояли на берегу озера, кормили серых уток и селезней. Лиза их назвала «утками Сэлинджера». Потом смотрели, как мальчишки играют в бейсбол на зеленом поле. Лиза призналась, что, сколько ни пыталась, не может понять правил этой игры. Зато заметила, что бейсбол уродует мужские фигуры. Нашли несколько грибов.
…Шуршали листья под ногами. Алексею казалось, что он с Лизой уже когда-то давно, лет сто назад, гулял по осеннему лесу, где тоже крякали утки на озерах, пахло сосновой смолой и грибами… И не было ни иммиграции, ни Нью-Йорка. Не болели родители, не уходила жена. Все это – бред, чепуха…
2
Они часто встречались в аллее этого парка, потом гуляли по городу. Лиза мало рассказывала о себе. Окончила Институт легкой промышленности, но вскоре поняла, что работа технолога – не для нее. Затем работала в Музее русского искусства, готовила экспозиции. Что потом? – «Ничего интересного...» А год назад встретила одного мужчину, иммигранта, приехавшего в гости в Киев из Нью-Йорка. Он предложил ей выйти за него замуж и уехать с ним в Америку. Она согласилась. Он – программист, работает в одной солидной фирме...
Поначалу для Алексея многое оставалось непонятным в этой женщине. Скажем, ее нарочито грубоватая манера одеваться: простые длинные платья, обычные ветровки. Волосы, густые и черные, Лиза стягивала жгутом или связывала «бабушачьим» узлом и лишь изредка распускала.
Но в ее самоогрублении чувствовалась какая-то вымученность, искусственность. Алексей догадывался – в душе ее что-то надломлено, и она продолжает гнуть и доламывать себя. Порою она забывалась и, увлекшись своим рассказом, могла вдруг протанцевать и застыть в грациозной позе. И тогда ее тело вдруг обретало свободную волнующую плавность.
Вскоре Алексей уже был уверен в том, что своего мужа она не любит. Кто спорит? – ее муж – весьма порядочный человек, работает с утра до вечера в солидной фирме и мечтает о недельном отпуске во Флориде. У него свой дом, машина. Денег для Лизы не жалеет, в азартные игры не играет, в стриптиз-клубы для джентльменов не ходит. Словом, о такой американской партии можно было только мечтать...
Все это Лиза повторяла не раз. Но, перечислив все достоинства своего чудесного мужа, умолкала и грустно улыбалась.
...А под Рождество Нью-Йорк, заснеженный и холодный, затопили огни. Ветер гнал поземку по асфальту, с синеватых пушистых елок осыпался снег. Все куда-то спешили, и румянец играл на щеках, и хрустели плотной бумагой пакеты с подарками… Канун Рождества в Нью-Йорке – месяц над Рокфеллер-центром, елочные шары и прозрачные ангелы, трубящие в хрустальные трубы…
Возвращались поздно вечером. Поезд мчался экспрессом, минуя остановки. Лиза впервые вошла к Алексею в дом, раскрасневшаяся от мороза. Когда он помогал ей снять пальто, она слегка наклонила голову и как-то странно взглянула на него из-под длинных ресниц. Алексей ощутил томительную дрожь в кончиках пальцев, и холодная волна прокатилась по его животу.
Лиза прошла в комнату. Остановилась у стены, где висел его портрет.
– Это рисовал Акоп, ведь правда?
– Да.
– Мне не нравится, как он пишет портреты. Вычурно, манерно.
– А как нужно?
– Нужно просто.
Она обернулась к нему. Одним движением сняла с себя платье. Осталась в белой шелковой рубашке с глубоким вырезом. И в ложбинке между грудей поблескивал крестик.
…Ночью он проснулся и обнял рукой холодную пустоту.
Лиза сидела в кухне, набросив на плечи шерстяной плед. Дрожала. Увидела его и отвернулась. Алексей приблизился к ней, хотел обнять. Поднял было руки.
– Не надо, – она отпрянула от него, как от чужого.
– Что случилось? – спросил он неестественно спокойно, закурил и сел напротив.
За окном завывал ветер. Сквозь щель в металлической раме пробивалась струйка морозного воздуха.
– Я не должна была к тебе приходить.
– Почему?
– Это никому не нужно.