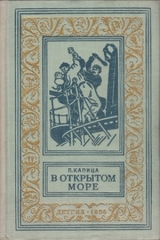
Текст книги "В открытом море(изд.1956)"
Автор книги: Петр Капица
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
У лаза в пещеру, пока Витя давал тревожные звонки, он быстро отвязал тюки, посбрасывал их в одну кучу и, захватив всех лошадей, ускакал назад.
Обратный путь Пунченок преодолел еще быстрее.
Привязав лошадей у деревца в ложбине, партизан не вышел на тропу, а стал подниматься вверх в стороне от нее, чтобы моряки не приняли его за противника, заходящего с тыла.
На старом месте друзей не оказалось, они отбивались где-то за скалистым выступом. Оттуда доносились одиночные выстрелы.
«Нет гранат, и патроны кончаются», – установил Пунченок.
Он перебежал тропу, по-кошачьи вскарабкался на выступ и осмотрелся. Левее от него неровной цепью передвигались фашистские солдаты. Они строчили из автоматов во все стороны.
При вспышках видны были их лица, каски и белые точки пуговиц на шинелях. «Боятся темноты, – решил партизан. – От страха стреляют. От таких нетрудно уйти».
Стараясь не шуметь, он сполз ниже и, взглянув направо, похолодел от неожиданности. Метрах в сорока от него, где тропа делала неполную петлю, оголенную и узкую полянку перебегали какие-то одиночные, сгорбленные фигуры. Они скапливались в выемке у кустарника.
«С тыла заходят, – понял партизан. – Те бессмысленным треском внимание отвлекают, а эти хотят живьем сцапать. Надо предупредить».
Он снял с себя автомат, вытащил три гранаты, нащупал для ног попрочнее место, поднялся и, вспомнив единственное морское слово, крикнул: «Полундра!»
Затем метнул одну за другой все три гранаты в выемку у кустарника.
Взрывом ослепило Пунченка. Ничего не видя перед собой, он скатился на тропу и, строча во все стороны из автомата, перебежал к камням, где, по его мнению, должны были укрываться моряки. Здесь он приник к земле и стал вслушиваться. От скалистого выступа доносились стоны и хриплый вой какого-то раненого, а с другой стороны – улюлюканье и усилившаяся стрельба.
Партизан отполз еще дальше и вдруг услышал приглушенный голос Чижеева:
– Стой!.. Кто здесь?
– Свой… Я – Пунченок!
– Какого ж дьявола ты вернулся? Ведь сказано было коней угонять, а он полундру кричит.
– Не ругайся, уже угнали. Я в оба конца успел. Давайте скорей в лощину.
В лощину они не сбежали, а почти скатились. Быстро разобрав коней, друзья припали к их гривам и понеслись.
Колеблющийся свет ракет временами выхватывал их из темноты. Трассы взвизгивали над головами. Но всадники не останавливались – им нечем было отбиваться.

У лаза в пещеру их встретили взволнованные Тремихач, Калужский и Костя Чупчуренко. Все трое были вооружены автоматами.
– Все целы? – спросил Тремихач.
– Целы, – ответил Чижеев. А когда спрыгнул на землю, то чуть не вскрикнул: по всей ноге, словно ток, прошла острая боль. В горячке боя он не заметил, как его ранили.
– Снимайте седла и угоняйте подальше коней, – приказал Тремихач. – Надо пожертвовать ими. Вас теперь по следу найдут. Придется вход завалить.
Он сам отхлестал прутом освобожденного чижеевского коня.
– Живей действуйте и проходите вглубь. Через три минуты подорвем. Здесь останется один Калужский.
Молодежь, отогнав подальше коней, подобрала седла и, оглядев площадку, не осталось ли чего-нибудь подозрительного, скрылась в проходе. Стрельба приближалась. Свет ракет уже захлестывал кусты дикого шиповника.
– Кончилось наше хождение по суше, – сказал Калужский.
Тремихач вздохнул, подобрал белеющую бумажку, которая могла навести на мысль, что где-то здесь есть ход, и, по-стариковски согнувшись, ушел в сырую мглу прохода. За ним последовал Калужский.
Засветив фонарь, инженер проверил закладку взрывчатки, затем поджег бикфордов шнур и поспешил по проходу вниз, к укрытию за поворотом.
На нижней площадке пещеры друзей встретила Катя.
– Ух, какие нарядные!
– Приоделись малость, – не без самодовольства сказал Восьмеркин.
Клецко, услышав голоса, присел на постели. Он уже мог вставать без посторонней помощи.
– Где пропадали? – спросил он придирчивым боцманским голосом. Брови у мичмана смешно топорщились, а лицо было непроницаемым. Пойми: сердится он или шутит.
Восьмеркин, рассудив, что Клецко по случаю выздоровления должен быть в веселом настроении, с подчеркнутой лихостью щелкнул каблуками:
– Так что, товарищ мичман, регулировщиками состояли при фашистах. Гвардии матрос Чижеев всем парадом командовал. Каждой машине с начальством ножкой шаркал и вот так ручкой: «Пожалте-де на минированную дорогу»…
– Почему брюки не навыпуск? – вдруг осадил его Клецко. – Коменданта нет, так форму можно нарушать?
– Так мы же кавалеристами. По-иному несподручно.
– Вижу, что не моряками стали, а ковбоями какими-то. Живо привести себя в надлежащий вид и доложить как следует.
«По-старому придирается, – значит, дело пошло на поправку», – подумал Восьмеркин и отчеканил:
– Есть доложить по уставу.
Но он не успел доложить. Послышался глухой и тягучий треск, словно кто-то вверху раздирал на части крепкую материю. В пещеру ворвался клуб глухого и душного воздуха. Огни в лампах присели, затем подпрыгнули, в пещере заметались фиолетовые и красные тени.
– Кончилось хождение по суше! – объявил с верхней площадки Тремихач. – Проход завален. Теперь у нас дорога – море.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Чижеев был ошеломлен вестью об исчезновении Нины.
Моряк представлял себе суровый берег со зловеще нависшими глыбами скал и черноту ночи. Он как бы видел перед собой бледное, настороженное лицо девушки, ее хрупкую фигурку.
Сеня на время даже забыл о раненой ноге. Боль была пустяком по сравнению с тем, что переживал он.
«А может быть, она жива? Может, поймали днем, на людной улице? О, черт! А я застрял колченогим. Надо что-то предпринимать. Только бы не заметили хромоты».
Чижеев тайно отозвал Катю и шепнул ей:
– Поклянитесь, что не скажете никому ни слова.
– Для этого нужно знать, о чем идет речь, – ответила девушка. – Почему вы так бледны сегодня?
– Я ранен. Понимаете? Рана пустяковая: сквозная дырка в мякоти. Ее надо смазать йодом и перевязать. Но чтоб никто не знал.
– Понимаю. Какой-нибудь новый сумасшедший поход?
– Я хочу найти Нину, – сказал Чижеев. – Из-за ноги меня не отпустят.
Девушка колебалась.
– Покажите рану.
Стиснув зубы и морщась, Чижеев снял сапог с простреленным голенищем. Бумажный носок и портянка насквозь пропитались кровью. Запекшаяся кровь мешала разглядеть рану.
Катя пощупала ногу и нахмурилась.
– Если не хотите остаться без ноги, – сейчас же ступайте за мной и всякие разговоры о тайнах и походах бросьте.
– Не пойду, – наотрез отказался Чижеев. – А если вы скажете Тремихачу или мичману, то поступите… нехорошо, так как помешаете выручить вашу подругу.
И он с решительным видом начал натягивать на рану заскорузлый носок.
Девушка перепугалась; она сходила за санитарной сумкой, тщательно обмыли ногу спиртом, смазала рану и, наложив мягкие тампоны, аккуратно забинтовала.
– Вам нужен покой, – объяснила медичка.
– С горя ошалел, коротыга, – ворчал, поглядывая на своего друга, Восьмеркин. Никогда еще он не видел его в таком возбужденном состоянии. – Примочку бы ему на затылок и кувалду на язык.
Чижеев не понимал, почему других не волнует судьба Нины. Даже отец, который должен был бы рвать на себе волосы и уговаривать всех броситься на выручку, спокойно подсел на койку к Клецко и обсуждал с Калужским, какой режим завести в пещере. Бесчувственные люди! Война всех испортила.
В конце концов он не вытерпел и, решительно подойдя к старикам, спросил у Калужского:
– Как вы с Ниной условились? Может, она не поняла вас, пришла позже? Всю ночь прождала и еще ждет. Надо сегодня же переправить Пунченка и заодно проверить…
– Только не торопитесь, молодой человек, – остановил его Калужский и с обычной неторопливостью начал рассуждать: – Сегодня патрули еще разыскивают нас. Рыщут с собаками. Они могут очутиться и над обрывом. Выскочивший из-под скал катер натолкнет на мысль совершить поиски с моря. Вы понимаете, чем это кончится? Мы очутимся в каменной мышеловке. И Нине тогда уже никто не поможет.
– Виктор Михайлович, вы также намерены опасаться? – не без едкости поинтересовался Чижеев. – А дочь пусть одна на ночном холоде? Пусть гибнет? У ней ведь ни одежды, ни еды.
– Вот что, товарищ Чижеев, ты брось играть на отцовских чувствах! – резко прервал его рассвирепевший боцман. – Я твою заинтересованность понимаю. Довольно нам людей попусту губить. Мы не для того здесь, чтобы в прятки играть – один другого разыскивать. Из-за твоей и восьмеркинской разболтанности девушка и пострадала. Приди вы вовремя – сидела бы она с нами.
Чижеев возразил:
– Мы не гуляли. Мы фашистов били.
– Тогда связного надо было б прислать с донесением. К тому же не ваше занятие на берегу околачиваться, для этого есть сухопутные люди. Наше дело – море! В море мы должны не давать фашистам покоя. А вы вот душу захотели потешить и девушку сгубили.
Такого кощунственного обвинения Чижеев не мог простить даже Клецко.
– Не прогуляйся я с Восьмеркиным на берег, чтоб вас разыскать, – сказал он вызывающе, – полагаю, и вид был бы у товарища мичмана совсем другой. Жаль, что гитлеровцы с первого раза память отшибают.
– Это еще что?! – вскипел Клецко. – Прекратить разговоры!
– Есть прекратить, – ответил Чижеев, темнея. – Разрешите идти?
– Идите, – сказал мичман официально. – Только не куда-нибудь, а в камбуз. Наряд вне очереди даю – посуду мыть и лагунки чистить, чтоб морской порядок не забывался.
Чижеев покорно отошел к кирпичной печурке и загремел сковородами, потом вспомнил о Пунченке.
– Тарас, подойди на минутку! Будь другом, – шепотом сказал он партизану, – когда попадешь на берег, пройди той же дорогой, где Нина шла. Разыщи хотя бы след ее и дай знать. Должником буду…
– Понимаю, – сказал партизан. – Считай меня как бы самим собой.
* * *
Девушек угоняли на север, не давая ни присесть на повозку, которую тащил ослик, ни остановиться. Только один раз в пути был непродолжительный отдых.
Конвоирам, видимо, надоело шагать пешком. У какого-то селения они согнали девушек с дороги в поле и, оставив лишь одного охранника, пошли рыскать по дворам.
Вскоре один из них привел трех тощих крестьянских лошаденок, а другой притащил бутыль с красным вином и мешок со снедью.
Расстелив плащ, конвоиры уселись на землю и принялись пожирать лепешки, брынзу с маслом и яйца. Громко чавкая, гитлеровцы по очереди прикладывались к бутыли. Ни у одного из этих красномордых обжор даже мысли не возникло, что русские девушки голодны и нужно их накормить.
Нине пришлось развязать мешок и поделить свои припасы, захваченные из пещеры, с новыми подругами. Девушки с трудом жевали сухую пищу. Им хотелось пить, а конвоиры никого не отпускали к колодцу.
Охмелев, конвоиры сделали из ремней подобие кнутов и, взгромоздившись на коней, с пьяным гоготом погнали девушек на дорогу.
Это был самый мучительный переход. Одуревшие гитлеровцы хлестали отстающих как попало. Наезжали конями, норовили попасть в лицо окованным носком сапога. Временами приходилось не идти, а бежать.
К вечеру Нина так устала, что, когда их загнали в машинный сарай совхоза, она свалилась в углу на прогнившие доски и тотчас уснула.
Под утро она почувствовала, что ее толкают. Она приподнялась, в сарае еще было темно. Не сразу она разглядела свою новую подругу Нату.
– Быстрей поднимайся, – шепнула Ната. – Очкастый ногами дерется. Сейчас подойдет сюда.
– Пусть только тронет. Я его застрелю, мерзавца, – сказала Нина и тут же спохватилась: «Какая невоздержанная, меня же раскроют. Сумею ли я вынести пытки?»

Преодолев недомогание, она поднялась. Голова кружилась, ноги дрожали от слабости. Она видела, как в другом конце сарая гитлеровцы пинками гнали девушек на улицу.
– Выйдем скорей во двор, – торопила ее Ната. – Я помогу, пойдем.
Она подхватила Нинин мешок и потащила ее к выходу.
Утро было холодное, промозглое. У сарая появились широкие семитонные немецкие грузовики. На одной из машин уже сидело человек тридцать каких-то незнакомых девушек.
– Откуда вы? – спросила Ната.
Одна ответила:
– Из разных мест, вчера пешком пригнали, а сегодня точно на бойню везут: не повернешься и ног не вытянешь.
Ната помогла Нине взобраться на кузов передней машины. За ними полезли и другие девушки. Скоро их набралось столько, что невозможно было сесть.
Машины, одна за другой, тронулись со двора. Свежий ветер, бьющий в лицо, подбодрил Нину, но головокружение не проходило. «Только бы не заболеть, не свалиться в пути», – твердила она себе и крепче держалась за стоявшую рядом подругу.
– Куда нас везут? – недоумевали девушки, вглядываясь в шоссе. – Вчера же вели по этой дороге. Неужели обратно? Может, домой отпустят?
– Как бы не так, – сказала Ната. – Просто мучают, сначала в один конец гонят, потом в другой.
«Этой девушке можно довериться, – подумала Нина. – Расскажу ей про пистолет и про все. Вместе убежим».
К обеду пленниц привезли в портовый поселок за мысом. Грузовики свернули на школьный двор и остановились. Конвоиры приказали девушкам все личные вещи побросать в одно место. Потом им выдали ведра с тряпками, голики и повели в здание.
– Мыть лютше! – сказал гитлеровец с санитарным значком. – Это есть госпиталь.
– Видишь, сколько чеемы фашистов набили, – шепнула Ната. – В старом госпитале места не хватает. Школу берут. Мину бы им подложить.
Нине после нескольких часов, проведенных на свежем воздухе, стало лучше. Она вместе с другими разулась и, засучив рукава, принялась скрести затоптанный пол. Но Ната не давала ей утомляться. Эта крепконогая девушка с забавно вздернутым носом так ловко орудовала голиком и скатывала водой пол, что Нине нечего было делать. В порыве благодарности она шепнула подруге:
– Мы с тобой убежим. У меня пистолет спрятан.
После уборки девушек согнали в подвал и велели устраиваться среди сваленных в груду парт. Потом, впервые за сутки, накормили бурдой, сваренной из кормовой свеклы. Дали по крошечному кусочку хлеба.
Нина с Натой устроились в полутемном закоулке среди поломанных шкафов и досок. Боясь, что гитлеровцы нащупают в рюкзаке пистолет, Нина вытащила его, завернула в тряпочку и запихала в угол за доску. Ната в это время пугливо поглядывала по сторонам: не наблюдает ли кто? Она раскраснелась от волнения. А после, когда убедилась, что Нина все проделала незаметно, сказала:
– Я сразу почувствовала, – ты особенная. У партизан, наверное, жила?
– Н-нет… Впрочем… Ладно, от тебя не буду скрывать: я с чеемами в одном месте находилась.
– Правду говоришь? – Ната не могла поверить. Пытливые глаза ее как-то по-птичьи округлились. – Почему же ты спрашивала о них? – Но, видя, что Нина не оправдывается, а лишь внимательно следит за ней, обрадовалась:
– Ох, какая ты хитрая, Нина!.. И бесстрашная, как парни!
Теперь связанные общей тайной девушки старались не разлучаться. Услышав гудение моторов за стенами, они выбрались из своего закутка и подбежали к решетчатым окнам. Во двор школы то и дело прибывали либо грузовики с койками, матрацами и бельем, либо санитарные машины с ранеными.
Позже в подвал пришли конвоиры, построили девушек в одну шеренгу, пересчитали всех, повесили каждой на шею номер-жестянку и увезли в закрытых машинах в солдатскую баню.
В раздевалке Нина неожиданно увидела одну из Катиных подруг: хохотушку Мусю Кирикову. Она с какой-то пожилой женщиной стояла у дегазационной камеры и принимала одежду. Еще недавно эта девушка любила закидывать голову и, заливаясь смехом, показывать свои сверкающие белые и ровные, как зерна кукурузы, зубы. Сейчас же рот ее был по-старушечьи сжат и в уголках губ появились жесткие черточки.
«Наша ли теперь? – думала Нина, вглядываясь в Кирикову. – Как она изменилась!» Муся, наконец, ощутила на себе ее взгляд и повернула голову. Но ни одним мускулом, ни одним движением лица не дала она понять, что узнаёт Нину, только в глазах блеснул прежний радостный огонек. «Наша», – поняла Нина.
Улучив момент, когда пожилая женщина ушла в глубь камеры, Нина подошла к Кириковой и молча подала свою одежду. Та с обычным безразличием начала поддевать на металлический крюк вещь за вещью и лишь на мгновение успела незаметно сжать Нине пальцы и шепнуть:
– Я твою одежду потеряю… Придешь искать в камеру.
И в этот момент Нина заметила, что у Муси не хватает верхних передних зубов: розовели голые десны. От этого девушке стало не по себе.
После горячего душа у девушек взяли кровь на исследование, записали номер жестянки и разрешили одеться.
Нина нашла в раздевалке свободное место и попросила у Кириковой свою одежду. Та ушла в камеру, повозилась некоторое время и, вернувшись, с наигранным раздражением заявила:
– Не могу найти ваших проклятых тряпок; если вам некогда, то можете поискать сами.
Смерив приемщицу презрительным взглядом, Нина пошла в камеру.
– Одной запрещается, – с угрожающим видом остановила ее Муся. И сама прошла следом за ней.
Избавившись от посторонних ушей и глаз, Муся оттащила Нину в самый темный угол и спросила с волнением:
– Как ты попала в эту партию?
– Случайно, – вернее, глупо… по пути забрали.
– Значит, они не догадываются, кто ты такая?
– Нет. А где ты зубы потеряла?
– Об этом сейчас не время. В общем, после исчезновения Кати меня допрашивали… Кто-то донес: мол, была в дружбе с ней. Но никаких улик. Удалось доказать, что я не причастна к исчезновению Штейнгардта. Меня выпустили и перевели на грязную работу. И сейчас всё следят…
– А ты не сможешь передать нашим обо мне?
– Ну конечно! Тося вне подозрений. Мы каждый день с ней видимся. Она и тебя в госпиталь устроит. Сейчас и русских в санитарки берут, – гитлеровцы совсем с ног сбились. Над санитарками чех начальник. Он согласится похлопотать.
– Не надо, – замотала головой Нина. – Я не смогу фашистскую грязь убирать.
– Как хочешь, Нина. Боюсь, – пожалеешь. Здесь позавчера прошла такая же партия девчат. Мыли, осматривали и от всех, даже у молоденьких, по шестьсот граммов крови для переливания взяли, а потом – кого в Германию, кого в солдатский дом. Это, я думаю, пострашнее будет.
– Как же мне быть? Я с одной девушкой подружилась. Подло ее бросать.
– Быстрей решайся, мы и так слишком задержались, – торопила Муся. – Тосе я передам записку. Может, еще сегодня она успеет поговорить со своим начальником чехом.
– Ладно, – решилась, наконец, Нина. – Ради наших, чтоб ближе к ним… Буду, как вы. Но сумею ли?
– Сумеешь, – уверила Кирикова и, сунув ей неприятно пахнувшую одежду, уже громко проговорила: – Вот они, ваши драгоценные наряды. Могли бы не грубить. Никому они не нужны!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Третий день подряд уже по-зимнему раскатисто ревел шторм. В пещеру вместе с брызгами и пеной врывалось холодное дыхание разбушевавшегося моря.
В первую ночь всех пришлось поднять на авральные работы: одни, при свете факелов, отводили по руслу речки в, глубь пещеры шлюпки и крепили у пристани катер, чтобы его не било, другие отепляли кабины, заделывали подсушенной морской травой щели, сколачивали плотнее двери, щиты, пилили и рубили дрова.
Всеми работами, покрикивая, как на корабле, руководил Клецко. Он постепенно забирал власть в свои руки: налаживал строгую морскую дисциплину, каждому определял участки деятельности, завел расписание и суточные вахты. Теперь без боцманской дудки нельзя было ни отдыхать, ни обедать.
Сеню иссушили мысли о Нине. Он похудел, в глазах появился беспокойный огонек. Чижеев прислушивался к гулу ветра и с нетерпением ждал, когда хоть немного стихнет шторм. В такую погоду нечего было и думать о высадке Пунченка на берег: катер не мог даже выйти из пещеры.
Рана почти не болела, и, хитря, Чижеев продолжал скрывать ее от Клецко. В этом помогала ему Катя. Она тайно делала ему перевязки и просила поменьше двигаться.
Только на четвертый день рев прибоя несколько ослабел, а затем неожиданно прервался. В небе проглянули звезды. На юго-западе, правда, еще клубились облака и горизонт был зловещим, но волны уже не разбивались с грохотом о скалы, а лишь, шипя, пенились у камней и были пронизаны каким-то внутренним сиянием, напоминавшим свечение свежеразрезанного свинца.
– Подготовить катер и шлюпку к выходу в море, – просвистев в боцманскую дудку, объявил Клецко. – В поход отправляются Виктор Михайлович, Восьмеркин и Чижеев. Пассажиром – Пунченок. Витя несет наружную вахту.
– Разрешите и мне в море? – попросился Костя Чупчуренко. Ему уже осточертело сидение в закупоренной пещере.
Мичман смерил молодого матроса критическим взглядом. И, видя, что Чупчуренко уже достаточно окреп, что сероватая бледность его лица – лишь отпечаток долгого пребывания в сырой пещерной полумгле, после некоторого раздумья сказал:
– Добро! Просолитесь на ветру. Для сигнальщика полезна свежая погода.
А про себя подумал: «Пушчонку бы нам. В набег уже можно, все в строй входят».
«Дельфин» вышел из пещеры ровно в полночь. За рулем и телеграфом сидел Восьмеркин. Рядом с ним, в роли обеспечивающего командира, находился Клецко. У боцмана еще сильно болели руки, и он не решался дотрагиваться до штурвала и рычажков машинного телеграфа.
– Идти по затемненной части моря. Прибавить ход, – приказал Клецко.
Восьмеркин щелкнул ручками телеграфа. Катер вздыбился и, казалось, минуя провалы, понесся лишь по верхушкам волн.
В машинном отделении вместе с Сеней хлопотал Тремихач. Старик извелся, заметно постарел за эту неделю, но упорно отмалчивался – ни слова не говорил о дочери. Взявшись обучить Сеню самостоятельно запускать и обслуживать на ходу механизмы сложной конструкции, он обменивался только деловыми, односложными фразами. Всякие посторонние разговоры мгновенно обрывал.
«Дельфин», отойдя подальше в море, развернулся почти на сто восемьдесят градусов и, как бы выскочив из свинцовой клубящейся мглы, с приглушенным рычанием проскользнул к трем высоким скалам и застыл в их тени.
Убедившись, что вокруг спокойно, Клецко приказал спустить шлюпку. Посадив с Пунченком одного лишь Виктора Михайловича, он вполголоса подал команду:
– Отваливай!
– Товарищ мичман, разрешите и мне, – обратился к нему выбравшийся наверх Чижеев.
– А кто в случае опасности двигатель запустит? – буркнул Клецко. – Довольно глупостей, правьте вахту!
Шлюпка отвалила от катера и ушла в темноту. Здесь, за прикрытием скал, море было спокойное. Оно лишь глухо рокотало у береговой кромки.
Тремихач беззвучно поднимал и опускал весла. Только слабое журчание и всплески о днище говорили о том, что шлюпка движется.
Путь до берега занял немного времени. Вытащив шлюпку на сушу, Виктор Михайлович вместе с Пунченком тщательно обследовали узкую полосу прибрежной гальки, выемки в скалах, расщелины. В юго-восточном конце они обнаружили затиснутый между камнями, полузасыпанный песком и галькой тузик, перевернутый вверх дном. Тузик был прочно привязан. В шторм накатная волна, видимо, обтекала его, не выталкивая из гнезда.
– Не приходила Нина, – заключил отец. Пунченку он сказал: – Когда доберешься до обрыва, поглядывай вниз: не сорвалась ли она. На ней был серенький жакетик, юбка защитная и рюкзак.
Старик проводил партизана до ручья, обнял его и, пожелав счастья, горбясь поплелся к шлюпке.
Он с ожесточением столкнул на воду легкое суденышко, пробежал по шипящей пенистой воде и, вскочив в шлюпку, заработал веслами.
Шквалистым порывом ветра сорвало кепку. Но он не подобрал ее, а продолжал налегать на весла.
Когда Чижеев, с нетерпением поджидавший его, спросил: «Ну, как? Нашли хоть след?» – старик только безнадежно махнул рукой и молча, словно боясь разрыдаться, спустился к другому своему детищу – в тесный отсек машинного отделения, к приборам и механизмам, ждавшим прикосновения его жилистых рук.
Катер, мелко дрожа металлическим телом, заурчал, развернулся и легкой птицей помчался по вспененным волнам ночного моря.
Клецко любил быстроту, тугой встречный ветер и необъятные просторы. Это была его родная стихия, с которой он сжился за долгие годы службы на военных кораблях, без которой не представлял своего существования. Даже непогода веселила сердце старого моряка, заставляла по-молодому гнать по жилам кровь, наполняла мускулы животворной силой.
У Кости Чупчуренко после долгого сидения в пещере с непривычки немного кружилась голова, а от оседающей на ресницы водяной пыли всюду мерещилась радужная мошкара. Он жмурился, стряхивая с ресниц влагу, и до боли в глазах всматривался в узкую полосу теряющегося горизонта. Там, как ему казалось, возникало и пропадало бледно-желтое сияние. Но вот оно застыло блеклым пятном, стало шириться, расплываться во мгле.
– Слева по носу огонь! – неуверенно доложил сигнальщик. Бинокль Клецко мгновенно направился в указанную точку. Действительно, далеко в море почти без мигания сиял непонятный огонь.
– Что бы это могло быть? – не понимал мичман. – Судно горит, что ли? А ну, курс на огонь! Поближе взглянем, что там делается.
Восьмеркин переложил руль и повел катер прямо на желтоватое сияние, которое, приближаясь, становилось все более ярким.
– Сбавить ход… Глушители в воду! – скомандовал Клецко.
Он уже ясно видел силуэт низкосидящего катера без мачты и надстроек, освещенный слабым прожектором другого корабля.
– Никак буксиришка у торпедного катера крутится? Ишь, как их сносит! Сдается, буксирный трос лопнул, заводят теперь. Ну конечно! – вслух убеждал себя Клецко, заметив на раскачивающемся катере одинокую фигуру, которая безуспешно пыталась закинуть бросательный конец двум другим человечкам, суетившимся на приплюснутой корме однотрубного кораблика.
«Катер без хода, – соображал Клецко. – Значит, серьезная поломка. А может, в бою подбит? Иначе зачем его буксировать, да чуть ли не в шторм? море, видно, подобрали. Торпедные катера вооружены либо тяжелыми пулеметами, либо автоматической пушкой. Не плохо бы поживиться. Но если на торпедном люди?.. Нет, – уверил он себя, – если цела команда, то не один человек должен с буксирным тросом возиться. И в рубке никто не торчит. Рискнуть, что ли? На буксирах народ пустяковый – на абордаж возьмем. Э, была не была, пойду! – решился мичман. – Ход у них не ахти какой. В случае осечки удеру в темноте».
«Дельфин» свернул вправо и, не видя никаких других кораблей поблизости, стал подходить к буксиру с затемненной стороны моря.
– Вызвать наверх Чижеева, – вполголоса приказал Клецко. И, переменившись с Восьмеркиным местами, сам повел катер. Он забыл на время о больной руке.
Когда на верхней палубе появился Сеня с автоматом, Клецко отдал новую команду:
– Чупчуренко по первому сигналу прочесать из пулемета корму буксира и мостик. По второму – перенести огонь на торпедный катер. Восьмеркину и Чижееву приготовить по паре гранат, автоматы и с ходу прыгать на борт буксира. Бить всех без разбору, помня, что нас меньше. Ясно?

– Ясно! – буркнул Восьмеркин, закладывая запал в гранату.
С буксира заметили приближающийся катер. С мостика замигал фонарь, видимо, сообщая, с какой стороны лучше всего подходить для оказания помощи. У гитлеровцев и мысли не могло возникнуть, что на них осмелился напасть вблизи от базы какой-то «рейдовый» катер.
Когда расстояние до буксира сократилось до тридцати метров, Клецко крикнул:
– Огонь!
Чупчуренко одной пулеметной очередью разбил прожектор и принялся, как из брандспойта, поливать горячим свинцом заметавшихся гитлеровцев. Он бил по мостику, по корме, по надстройке, пока не израсходовал всю ленту.
Катер почти впритирку подошел к борту буксира, и Клецко подал второй сигнал. Восьмеркин с Чижеевым без промедления вскочили на палубу и, застрочив из автоматов, разбежались в разные стороны. Сеня поспешил к люку машинного отделения. Там еще горел свет. Он одновременно бросил две гранаты и захлопнул крышку. Двойной взрыв тряхнул закачавшийся буксир, и сразу все стихло.
– Можно швартоваться! – крикнул Восьмеркин.
– Осмотреть помещения! – скомандовал Клецко. – Все пригодное тащить на верхнюю палубу.
Мичман направил «Дельфин» к беспомощно дрейфующему торпедному катеру и, убедившись, что он совершенно безлюден, вернулся к буксиру. Здесь Восьмеркин ему доложил, что на буксире было всего лишь семь человек. Из них в военной форме только два.
Приняв на «Дельфин» полдюжины глубинных бомб, ракеты, дымовые шашки, баллон с кислородом, ящик с продуктами, бинокли и кожаные регланы, Клецко приказал:
– Открыть кингстоны затопления! Только без возни, задерживаться и шуметь нам нельзя.
Море вокруг по-прежнему было пустынно. Притихший на время ветер вдруг вновь взвихрил волны и засвистел, подвывая, в снастях.
Буксир начало кренить и разворачивать. Боясь, что неуправляемый корабль раздавит «Дельфина», мичман велел Косте Чупчуренко освободить швартовы и, дав задний ход, отошел в сторону.
– Почему задержка? – спросил в переговорную трубу Тремихач.
Его обеспокоило странное маневрирование катера и долгое отсутствие Сени. К тому же старик жалел механизмы: частая смена ходов отзывалась на их чуткости.
– Вынужден пиратствовать, – ответил Клецко. – За вашу дочь мстим.
Дольше задерживаться было опасно. Мичман вновь подошел к борту буксира и крикнул:
– Кончай! Сейчас отходим!
– А как же с торпедным? – поинтересовался Восьмеркин, спрыгнув на катер.
– На буксир попробуем взять. На нем одна торпеда уцелела и пушка-скорострелка. Может, приспособимся.
Чижеев последним покидал тонущий буксир. В горячке боя он ушиб в темноте колено и теперь заметно волочил раненую ногу.
– Чижеев, почему хромаете?
– Подбит в икру и коленку, – ответил Сеня. Ему уже не к чему было скрывать ранение.
Боцман взглянул на свои бинты и, разглядев в темноте, что они окрашены кровью, сокрушенно покачал головой.
– Сможешь сидеть за рулем? Я, кажется, тоже навредил себе.
– Смогу, – ответил Чижеев. – Только помогите сойти.
Восьмеркину одному пришлось перебираться на изувеченный осколками и пулями торпедный катер.
– Ишь, как его прошили! – удивлялся он, ощупывая обшивку рубки. – Видно, наши самолеты в море подловили. Крепко давали жизни – все дырки сверху.
– Отсеки не затоплены? – поинтересовался Клецко.
– Не очень. Вода чуть-чуть поблескивает… Дотащим.
– Тогда поторапливайся!
Степан, приняв от Чупчуренко бросательный конец, в три приема вытащил тяжелый буксирный трос, закрепил его и махнул рукой:
– Можно натягивать!
«Дельфин», содрогаясь от напряжения, сначала клюнул носом, зарылся в волны, потом дернулся раза два в стороны, сдвинул изувеченное судно с места и, набирая скорость, легко потянул его за собой.
– Идет… Пошел! – выкрикивал Восьмеркин, следя за натянутым тросом. – Давай на полный!
Чижеев, прибавив ход, взял курс на пещеру. Он ни разу не обернулся, ни разу не взглянул на тонущий фашистский буксир. Его ничто не радовало. Он действовал как во сне.






