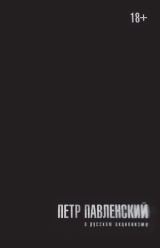
Текст книги "О русском акционизме"
Автор книги: Петр Павленский
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Петр Павленский
О русском акционизме
Интервьюер – Анастасия Беляева
Все иллюстрации предоставлены Петром Павленским
Издательство выражает благодарность Оксане Шалыгиной
© Павленский П. А., текст
© Беляева А. А.
© ООО «Издательство АСТ»
Разговор первый
– У тебя есть дети?
– Да, две девочки. Они в принципе так или иначе часть процесса. Они находятся рядом во время каких-то подготовок, каких-то еще вещей. Хотя я им изначально не объясняю, что и зачем. И конечно, я их никогда не беру именно на акции, потому что, когда все начинается, никогда не знаешь, чем это может закончиться. И вообще странно было бы брать детей для участия в том, что правоохранители упорно называют противоправным деянием, организованным по предварительному преступному сговору. Дети, конечно, в этом случае будут отвлекающим фактором. Но потом я показываю им всю документацию. Мне интересны их вопросы, какой у них будет ассоциативный ряд, как они воспримут происходящее.
Самое важное – то, что их никогда ничего не пугало. На самом деле эти бесконечные разговоры о том, что кто-то может испугаться, что эти сцены жесткости и так называемого насилия над собой, что это издевательство над собой и над чувствами горожан или гостей города… Это, конечно, вранье. Я смотрю на реакцию обеих, но ни одна никогда не была напугана. Им интересно, что там происходило, было больно или не было.
Им интересно, что осталось за кадром, как дальше развивались события. Что происходило в отделе и т. д. У них вопрос может быть – как ты это сделал? Она как-то видела, например, старший ребенок, «Фиксацию». Смотрела. А потом через полгода, спросила: «Как ты приколотил?» – «Взял и прибил. Это же кожа». Я ей спокойно говорю, что это кожа, ничего такого. Она просто не поняла, как я это сделал. Просто вопрос: «Тебе больно? – «Нет».
– Как ты им это объясняешь?
– Я как историю рассказываю: поехал туда, сделал то. Я могу сказать: чтобы показать положение людей. Но и это уже будет сложное объяснение.
– Самое сложное объяснение, что ты им давал: в стране все так плохо, и я протестую?
– Я не говорил даже так. Я могу сказать, скорее, что я показываю, в каком положении находится человек, который боится. Человек, который зафиксирован и позволяет с собой это делать. Нет, я так не делаю. Скорее как историю рассказываю. Они подошли туда…
– Если говорить про старшую дочь, она в первом классе, как я понимаю?
– Нет.
– Почему?
– Потому что детей принуждают носить школьную форму. Всех унифицируют по брюкам и юбкам одинакового цвета. Это верный признак наползающего тоталитаризма.
– Ты серьезно?
Школьная форма – да это признак. Не важно, в какой стране и в каком заведении этот признак присутствует. Это же унитаризм. Он есть и в религиях.
– Школьная форма – признак наползающего тоталитаризма, так?
– Да.
– В Англии тоталитаризм?
– Бывшая адская империя. Это один из признаков. Sex Pistols там до сих пор запрещают. Почитай про Маргарет Тэтчер, например.
– Я знаю про Тэтчер, ну была железная леди, теперь ее нет, а форма как была, так и осталась.
– И про то, как она реагировала на Ирландскую республиканскую армию.
Тэтчер нет, а Sex Pistols запрещают.
– Хорошо, а в Америке тоже тоталитаризм?
– Если система капиталистическая, это не значит, что в ней не присутствуют зерна тоталитаризма. Посмотри, что в Америке делали с чикагскими анархистами. И как оттуда выслали Эмму Гольдман. Я тебе сейчас еще вспомню про пару диагнозов психиатрических, которые там придумали: драпетомания, дизестезия.
– Я просто хочу сказать, что гарвардская форма, по-моему, никак не связана с проявлениями тоталитаризма. Понимаешь?
– Да, я абсолютно уверен, что у любой формы прямая связь именно с тоталитаризмом. Это прямое стирание идентичности и подчинение общему, просто в некоторых режимах это более явно читается, в некоторых рассеивается.
– Гарвардская форма – это не общее. И оксфордская тоже. Ты знаешь, кем становятся их выпускники? Ни разу не заурядными серыми подчиненными мышками. Их форма – это как значок «я один из самых умных и перспективных людей своего поколения».
– Ну, форма СС тоже была значком – я самый умный и перспективный из всего человечества.
– Это не совсем так, в СС все было сложно. Значение формы Гарварда всегда одно и то же.
– Я говорю про признаки. В профессиональной армии не может не быть формы. А любая армия – это жесткая тоталитарная структура. Расстрельная дисциплина – это основа ее жизнеспособности во время боев. Как называют государство, которое начинает жить по простому армейскому принципу расстрельной дисциплины?
– Значит, все государства, где есть школьная и университетская форма, живут по этому принципу?
– Большая тоталитарная система складывается из признаков. Это один из них. Чем их больше, тем более тоталитарна эта структура. Очевидно, в Северной Корее этих признаков несколько больше, чем в Америке, поэтому она и выглядит более тоталитарной.
– Тогда, как в эту теорию встраиваются африканские республики?
– Так же, только картинка другая. Лени Рифеншталь очень интересовалась как белой, так и черной эстетикой. За что и получала всевозможные обвинения, сама знаешь в чем. Слушай, и с Африкой это вообще край. Я смотрел кино про неоколониализм. В Африку едут западные колониалисты вместе со своими миссионерами, и начинается цивилизаторский ад. Через год такой работы африканские дети сидят в школьной форме за партами. Африканские мужчины маршируют строем в форме. А женщины напяливают белые лифчики поверх своих украшений и повязок.
– Ты не думаешь, какой у твоей дочки может возникнуть конфликт со сверстниками?
– Я не думаю. И мне, честно говоря, наплевать. Какой может быть конфликт? Если у нее конфликты будут возникать, я думаю, она их сможет решить, наверное. Конфликт какой? Непонимания?
– Да, непонимания. Дети все-таки очень жестокие. Они могут начать издеваться, когда в какой-то момент войдут в то информационное поле, где делаются твои акции. Все-таки для большинства населения, детьми которых будут являться одноклассники твоей дочери, это будет дико, непонятно, просто городской сумасшедший. И дети будут транслировать позицию собственных родителей. Они скажут: «Мы учимся с дочкой современного художника». Родители ответят: «А, это тот, который прикрепляет яйца к Красной площади?». И дальше твои дети будут с этим сталкиваться. Ты об этом думал когда-нибудь?
– То, о чем ты сейчас говоришь, это область перспективы, это в полиции любят обсуждать. Это как выстроить себе преграды на пути к своему же действию. Я могу сказать, по большей части я сталкивался со многими ситуациями, и я примерно представляю, как это воспринимают люди. Такая переизбыточная эмоциональная реакция, как правило, ее только в Интернете много. В реальной жизни, когда я где-то пересекаюсь с людьми, как правило, я вижу, что люди понимают все очень хорошо.
Один раз только в метро у меня была стычка с каким-то человеком, даже не стычка, а у него началась истерика, когда он меня узнал. Он узнал меня в вагоне метро, достаточно молодой парень. И он начал сверять с Интернетом, потом начал бегать по вагону. Мы едем, поезд едет. Он бегает по вагону и призывает людей восстать против меня, как-то объединиться.
Его ни один человек не поддержал. Он лез к людям с этим телефоном, от него просто отмахивались, типа гражданин бегающий. Я наблюдал, как люди реагируют. Не добившись поддержки, он стал меня обвинять, что я страну унизил, его унизил, площадь, что-то еще. По глазам людей было видно, что если даже они меня и узнали… Я не увидел среди этих людей какого-то непонимания или желания напасть. Люди скорее понимают, чем не понимают.
А дети, жестокость детей… Я не знаю.
– А ты как-то особенно воспитываешь детей, чтобы они могли противостоять тому, с чем они, скорее всего, столкнутся?
– Я даю им, может, какие-то необходимые навыки. Старшая, поскольку они не ходили в детские сады и такие структуры не посещали, она занимается шахматами и боксом. Младшая только боксом, для шахмат ей подрасти немного надо.
– Я так и подумала, что твои дети должны заниматься борьбой.
– Просто это, скорее, связано с тем, что это две девочки, как раз, скажем так, это некое размышление на тему положения женщин и навязывание некоторыми институтами, в частности феминизмом тем же, женщине положения жертвы. Феминизм тоже во многом этим педалирует – вот, женщина всегда жертва, а мужчина может побить. Да никто никого не может побить. Это просто вопрос отношения к этим вещам. Бьют, если один человек дает себя бить. И поскольку это девочки, я бы очень не хотел, чтобы они позволяли себя бить.
Когда между двумя людьми начинается конфликт и они начинают что-то друг другу говорить, пока дело касается только слов, один говорит, другой отвечает, у них происходит стычка. Когда начинается какой-то физический конфликт, то это уже навязанные обществом такие рамки, что один человек должен забиться куда-то под стол. Ничего подобного. Он не должен никуда забиваться.
– У тебя есть жена?
– У меня нет жены. Нет жены в том смысле, что это же позиционно. Что такое жена? Это начинается…
– Гражданская жена?
– Есть женщина, с которой мы вместе работаем, можно назвать ее другом, соратницей, при этом у нас все равно свободные отношения, потому что мы принципиально не являемся собственностью друг друга.
У нас много там выстраивается по такому принципу.
– А ты готов морально, что тебя могут отправить в колонию, в психушку?
– Как морально?
– Ты понимаешь, что каждой акцией ты рискуешь туда попасть?
– Да, я не исключаю такой возможности.
– Тебя не останавливают дети, за которых ты несешь ответственность?
– Нет.
Вся эта тема – не останавливают ли меня дети? Если бы меня останавливали дети, то это были бы не дети, которым я могу что-то дать, они из детей превращаются в средство контроля и управления. Если я буду опираться в этих решениях на детей, на то, что дети вообще есть, то дети превратятся в инструмент контроля моих действий, и все.
– Я лично не верю, что тобой нельзя никак манипулировать с помощью детей. Приходят к тебе из опеки: ты, чувак, вообще асоциальный, мы твоих детей сейчас заберем и поместим их в детский дом. Это же вполне реальная ситуация.
– Не так просто это все будет им сделать. Они не могут просто так прийти. Я найду способ противостоять этому.
– А как ты найдешь способы противостоять?
– В частности, с помощью тех же адвокатов. Это все тоже поле перераспределения бумаг.
– Ты же понимаешь, что если они захотят, то они сделают.
– С большим очень шумом. Я не думаю, что шум, который начнется вокруг зверского нападения исполнителей из комитета на невинных детей, будет оправдан их желанием доставить мне какие-то мелкие неприятности. Не думаю. Тут причины должны быть реальные. Все не совсем так происходит. Я действительно знаю, что когда государству надо, оно приезжает на другую территорию, Украину, и похищает там людей. На самом деле я не знаю, что там и как было. Но суть в том, что когда надо, государство берет и делает, и потом его ничего не интересует.
– Если ты почувствуешь угрозу, ты как-то…
– Я предприму другие меры. Я не прекращу деятельность сам, потому что есть поле борьбы с этими бюрократическими, с этим аппаратами власти. Это область именования, это их слабое место, через это они начинают работать против самого субъекта власти, скажем так.
Прежде всего, правоохранителей волнует именование, чем это назвать, не политическим искусством, а называть это преступлением или психической патологией. Это первое.
А второе – нейтрализация, каким образом ликвидировать это. А ликвидировать можно несколькими способами. Можно каким-то образом припугнуть или еще как-то надавить, может быть, создать какую-то тяжелую атмосферу или обстановку.
Первое – человек сам прекращает. Второе – такой способ, его иногда применяют, но он менее нежелателен – изолировать, посадить куда-то человека. Почему они сами стараются его избежать, особенно в этих случаях? Так будет шума больше. Лучше, чтобы человек сам прекратил, без шума.
Хорошо. Сам не прекращает. Второй метод не очень желателен. Третий – человек эмигрирует. Это для них самый хороший выход, добровольная самонейтрализация. Ты эмигрировал, где-то в новом контексте, у тебя новые проблемы, тебе надо как-то осваиваться. Ты сам себя ликвидировал, как проблему. Ты там где-то очень далеко. Ну и все, замечательно. Все очень рады.
Я действительно думаю, что самый нежелательный способ – закрыть человека, посадить, изолировать. И, поэтому, может, это и не происходит? Поэтому, если будет какое-то давление, я сам не прекращу. Я найду, что сделать с детьми, еще что-то, как эту атаку на меня превратить в проблему для власти, буду способы искать.
– Давай поговорим про твоих зрителей. В одном из интервью украинскому телеканалуты говорил, что искусство должно формулировать, потому что самим людям тяжело формулировать, так как государство их забивает. Твоя миссия – формулировать?
– Происходит рассеивание. Мы все, именно политически, находимся в схожей ситуации. В принципе с нами происходят какие-то конфликтные вещи, достаточно неприятные вещи. Вопрос в том, что происходит, что и каким образом. Все это так или иначе ощущают. Но проблема формулирования, то, что делают власти, – они рассеивают это. Человек читает новости, идет в магазин, на улицу или обязательную работу, и он видит, что почему-то все это плохо, но это «плохо» у него рассеяно.
– Ты формулируешь это для своей аудитории?
– Да просто для тех, кто это увидит и услышит.
– Когда ты формулируешь, если ты хочешь, чтобы твой посыл услышали, ты должен делать какую-то поправку на стереотипы людей, на культурный код, на то, к чему они готовы. Мне кажется, что в итоге получается, что те люди, которые нуждаются в каком-то объяснении, они просто не способны считывать твой посыл, а те, кто способен, не нуждается в объяснении. И получается некоторая бессмыслица, что ли.
– Те, кто способен, не нуждаются в объяснении, а те, кто не способен…
– Зрители федеральных каналов, увидев твои акции, максимум испытают неприятныеэмоции – неприятно, противно. Потом им скажут, в связи с чем ты это сделал. И это «неприятно и противно» как-то совместится с тем, для чего ты это делал.
– Я для этого как раз и работаю. У меня эти временные разрывы предполагаются, этот прецедент остается, а потом что-то происходит, и человек к этому возвращается. Мне писал один пользователь социальных сетей – в какой-то момент он был против, крайне против всего этого. Я что-то написал ему в ответ. И он рассказал в письме, что раньше много писал против, но потом столкнулся с какими-то ситуациями в жизни. Видимо, аппарат придавил где-то. Он теперь с этим действием согласен и стал извиняться.
– Тебе было приятно?
– Конечно, он подтверждает какие-то мои идеи.
– Это удивительный случай или такое периодически случается – я тебя понял наконец-то?
– Случается периодически, да. Тут работает диапазон человеческих реакций. Я могу сказать, что иногда я чувствую на себе весь этот диапазон. Когда готовится акция какая-то, у меня проносятся в голове разные общественные реакции в моменты большого напряжения. И когда ты как-то от него отстраняешься, есть понимание до какой-то степени. Почему даже в голове я могу это увидеть? Потому что одни и те же источники – Интернет, может, телевизор, газеты, еще что-то. Мы все питаемся из одних и тех же информационных источников. И с этим же диапазоном я позже сталкиваюсь, когда акция уже осуществилась. И там есть как положительные, так и какие-то негативные реакции, естественно.
– А пока оно остается где-то в одинаковом…
– Оно всегда так будет оставаться, ты начала говорить – этот вопрос, что кто-то понимает, кто-то нет. Такая вещь, что если я начну мыслить такой категорией, что сделать тут надо понятным, а тут я должен так, то это будет популизмом. Я начну ставить задачу кому-то понравиться. Я не ставлю такую задачу.
– Это не задача. Это задача донести в какой-то минимальный срок, с ходу, на понятных символах.
– Тело, замотанное в колючей проволоке, что может быть понятнее? Ты понимаешь, что тут дальше некуда идти в смысле понятности, если так говорить.
– Мне кажется, когда среднестатистический русский видит, как человек на Красной площади прибивает мошонку, первая реакция необоснованная, он называет его эксгибиционистом или гомосексуалистом. Это будет первая русская реакция – с ним что-то ненормально. Он извращенец, а потому однозначно еще и гомосексуалист. В таких акциях ты не думаешь, не ощущаешь, что с самого начала суть куда-то замывают?
– Если ты о том, как пытаются влиять СМИ, то они без конца качают этот маятник между уголовщиной и безумием, поэтому всегда можно ожидать непонимания. Но другое дело, как это влияние отражено на людях, которые оказались рядом. Во время Фиксации одна женщина постоянно спрашивала: «Он что, больной?». Конечно, это довольно печально, что культ психиатрии имеет такую власть над общественным сознанием. Однако если действительно начинается разговор о психиатрической норме, то просто замечательно. Это то поле, которое должно прорабатываться. Это первое. Второе. За этим жестом… Я стараюсь по возможности не изобретать сам, не придумывать. Жест прибивания мошонки, в принципе достаточно основательно укоренен в культуре. Это жест, которые используют зеки.
– В связи с чем они это делают?
– В связи с разными ситуациями.
– Протест.
– Да. Доводят до крайности свое ограничение свободы. Невозможность движения. Там же часто полы деревянные. И они вбивают. И куда ты его сдвинешь? Человек и так сидит, а тут он еще себя прибил. И это фиксация. И понимаешь, когда я говорю в тексте про превращение страны в зону, про полицейский режим, это же не просто так говорится. 10 ноября – День полиции. Каждый год везде баннеры висят по городу – 10 ноября, да здравствует наша любимая полиция!
Все эти маркеры на поверхности. Я работаю с этими маркерами, потому что это часть культуры. Важно то, откуда это взято, если говорить о работе с контекстами. Без этого жест заключенных остается за этими заборами, дверьми и еще одними заборами. Из-за обилия заборов информация просто сюда не доходит, даже фотографии не найти, потому что их на зоне никто не будет делать. Все знают, что это где-то делают, но где-то за огромным количеством дверей. А тут это происходит в самом центре. Хотя, по большому счету, была убрана очень условная граница.
10 ноября, баннеры, книги с воспоминаниями диссидентов и заключенных – это маркеры, которые все связывают в одно высказывание. Если этого нет, то проходящий мимо начнет думать: Красная площадь, голый, я не знаю… Я бы поспорил, голый эксбиционист, может быть… Я не знаю, насколько это работает – голый, почему голый, голый – человек, который лишен всего, даже одежды. Степень обнищания, показатель отсутствия.
– Беззащитности?
– Нет, не беззащитности. Там об этом не говорится. Голый – как выражение состояния, ободранный, голый, лишенный всего. Это, с другой стороны, тело вообще, это то, что находится под любой одеждой. Все равно одежда всегда тебя маркирует, это какая-то одежда. Какую-то идентичность начинает выстраивать. А тело – это тело. Все тела так или иначе похожи.
– Насколько полиция является частью твоих акций?
– Вообще очень важной частью. По большому счету, они сами все делают, они выстраивают все это. Там же все меняется местами.
– Когда тебя арестовывают?
– Нет, как они это воспринимают. Не мое тело оказывается жертвой. Все строится на том, что исполнители власти на самом деле жертвы ситуации, потому что они находятся в наиболее подчиненном положении. Они должны подчиняться регламенту. Это работа с субъект-объектными отношениями. Правоохранители пугаются прежде всего, но они обязаны реализовать свои полномочия.
– Они обязаны тебя освобождать.
– Что-то делать – или освобождать…
– То, что они власть и обязаны тебя освобождать, это является переворотом или что-то еще?
– Они становятся объектами этой ситуации. То есть они… Я думаю, что это важный момент: власть объективирует людей, заставляет подчиняться регламентам, как-то двигаться в диапазоне дозволенного и как бы недозволенного, находиться в этом коридоре. Человек подчиняющийся – это объект. Когда осуществляется акция, они становятся объектами, возведенными в степень, может быть.
Помимо того, что изначально они объекты, исполняющие функцию, они еще становятся объектами искусства. Они хотят нейтрализовать, к этому их обязывают полномочия. У них задача нейтрализовать событие, ликвидировать, зачистить улицу или площадь. Но это вынуждает их служить противоположной цели. Они начинают конструировать событие. Они становятся действующими лицами. На них это все построено. У меня действие сведено к минимуму. Я просто сижу, ничего не делаю или стою.
– А если бы они не пришли, ты так бы и сидел на Красной площади?
– Да. Неизвестно, как событие будет развиваться, пока оно еще не произошло. Достаточно обозначить фигуру молчания. И сама ситуация конструируется вокруг этого молчания. Потому что полиция, «Скорая помощь» или просто люди, которые бы на меня напали или что-то еще, это все часть социального тела. Что-то происходит, отторжение – это тоже взаимодействие. Бессмысленна герметичная ситуация – сам пришел, сам ушел. Следующий важный момент. Я говорю со всеми одинаково. Я говорю с журналистами, с психиатрами, со следователями одинаково. Там есть определенные правила того, как это все выстраивается. Если придерживаться правила фигуры молчания и не давать отклик власти, то там не должно быть никакого взаимодействия. Я остаюсь статичным, а в тот момент, когда этап акции заканчивается, когда двери закрылись, тогда я начинаю говорить, и говорить со всеми одинаково. Я не делаю разницы между журналистом, которому я буду рассказывать все, и, например, следователем. Я могу, конечно, как бы издеваться над следователем, но это скорее не издевательство. Это я его в процесс искусства затягиваю. Что было с этими диалогами? Кто добился своих целей в той, этой ситуации – искусство или бюрократический аппарат? И я своим делом…
– А если бы в стране было все хорошо, что бы ты делал?
– Я не знаю.
– Получается, что, чем в стране все хуже, тем тебе больше работы?
– Я понимаю. Ситуация какая? Это несбыточная утопия. Никогда не может быть такого идеального общества и государства. Мне кажется, в природе людей есть определяющие вещи, субъектно-объектные отношения, понятие власти, эти вещи все себе подчиняют.
– Тебе кажется, что власть не может быть адекватной, хорошей? Власть может быть хорошей?
– Я думаю, что нет, потому что задача власти – создать полностью предсказуемого индивида. Потому что непредсказуемый индивид – опасный индивид. Чем больше человек приближается к состоянию субъекта, чем больше он выходит из каких-то границ, ищет новое, он является опасным для власти, потому что он становится неуправляемым в этом случае.
– Ты протестовал бы в любой стране мира?
– Не так. Понимаешь, это разные контексты. Я не занимаюсь протестом.
– Протестное искусство?
– Политическое искусство. Я не занимаюсь протестным искусством. Политическое искусство и протестное искусство – это далеко не одно и то же. Протестное искусство – это вышел с плакатом. Там «НЕТ», а тут «ДА». Это было бы чрезмерным обобщением. Я исхожу из того, что политическое искусство – это работа с механизмами управления.
– Хорошо. Политическое искусство. Ты везде занимался бы политическим искусством?
– Я не знаю. Если бы я жил в другой стране, может, и не занимался. Исходя из того, как я сейчас мыслю, я бы, наверное, нашел чем заниматься. Но по форме, может, что-то близкое, потому что разные страны, разные системы контроля порождают разные способы подавления человеческого воображения.
– А есть модель или режим в государстве, который для тебя является идеальным? Может быть, анархия?
– Наверное, анархия – идеальная модель. Я отдаю себе отчет, что ее идеал держится на неосуществимости. Вряд ли человечество решится принести в жертву утопическому безвластию преимущества научного и технологического прогресса. Анархия – освобождение от каких-то парадигм, это сопротивление, опровержение тех или иных навязываемых правил. Анархия – как раз работа с понятием власти.
– Анархия наиболее тебе близка? Или еще что-то?
– Анархия в каком смысле есть повстанческий анархизм, есть какой-то еще анархизм. Наверное, близка в каком-то смысле. Анархокоммунизм – это какой-то бред противоречия. Диктатура равенства против диктатуры свободы. Или одно, или другое. Сложно представить возникновение панк-культуры в режиме диктатуры всеобщего равенства.
– Ты хотел бы жить в государстве, где царит анархия?
– Не может быть государства, где царит анархия.
– Город. Где так все выстраивается. Есть анархия. И там все равно что-то выстраивается.
– Безусловно. Поэтому я и говорю, что анархия. Жизнь человека проходит в перманентной борьбе за свою субъективацию, за отстаивание себя, потому что всевозможные ресурсы, силы, интересы, в конечном итоге, других людей или кого-то еще, группы людей работают на эту объективацию, на подчинение. Даже если выстроится псевдоанархическая структура какая-то… То все равно появятся группы или структуры, которые начнут все это превращать…
– Систематизировать.
– Да, превращать все это в костную массу. И лучше опровергать эти догмы, пока они не успели стать политическим разочарованием. История убеждает, что урок ХХ века не помешал кибуцам совместить светлую идею общности имущества и оборону разрастающейся и священной границы государства Израиль. И это надо опровергать. Это постоянное отстаивание себя. Это как бесконечный процесс.
– Возможна ли какая-то идеальная модель существования человека? Так, как видишь ее ты: никто тебя никак не узурпирует, ты не пересекаешься никак ни с чем?
– Мне сложно сказать. Это все от человека зависит. Человек должен преодолевать эти навязываемые ему…
– Глобально
– Глобально – это движение к анархической модели.
– После чего все опять запустится по кругу?
– Безусловно. Есть некий диапазон, конечно. Как в песне:
«Все, что не анархия, то фашизм».
Мы все находимся между двумя этими точками. Фашизм, понятно, не в смысле итальянского или еще чего-то, а как имя нарицательное. Фашизм как абсолютный диктат, абсолютный контроль тотальный, и другая точка – анархия, некий абсолют свободы. На самом деле между ними – все колебание.
– А посередине – нормально идет, между этими двумя крайностями?
– Я никогда не задумывался, что посередине находится. Посередине – не знаю. Посередине унылый либерализм с его убогой политкорректностью.
– Я просто пытаюсь понять, какая цель у тебя в этом замкнутом, по сути, круге, ты понимаешь, что так, как было бы замечательно, не будет никогда?
– На самом деле, что меняет общество и что вообще дает какое-то преобразование? Не какие-то политические шаблоны и схемы, потому что как раз работа с культурными кодами – это и есть самое важное. Смысловые прецеденты влияют на то, как человек относится к происходящему вокруг, это его рефлексы, выработанные по отношению к различным ситуациям. Какие у него ассоциативные модели на это срабатывают и какой он дает ситуативный ответ. Он просто может давать быстрый ответ, а может, подумав, принять решение. И это поле, на котором происходит борьба. Режимы, понятно, меняются. Был «совковый» режим, до этого была держава, империя, сейчас такой режим. При любом режиме силовики у власти. В 17-м была революция, были изменения, и в культуре были значительные изменения. И в искусстве, и в том, как отношения между людьми выстраивались. Лет 15 все двигалось, а потом реакция, большевики всех задушили, откатили назад очень сильно.
– У тебя есть какая-то сверхидея в том, что ты делаешь, ты к чему-то это все ведешь? Какая точка межу фашизмом и анархией кажется тебе наиболее подходящей?
– Толкать все нужно в сторону анархии, безусловно, потому что…
– Чтобы что-то чуть-чуть сдвинулось?
– Чтобы хотя бы оставаться на месте, на самом деле уже нужно усилие. Но если сделать сверхусилие, можно немного больше сдвинуть. С другой стороны, в сторону фашизма и абсолютного подчинения двигает очень большая сила. На это работает большой ресурс аппарата, целая система органов. Это столкновение постоянно. Оно не прекращается. Для меня на этом отрезке и происходит лобовое столкновение. Смешно мечтать, что те силы, которые препятствуют, в конечном итоге растворятся, куда-то денутся, и мы тут резко окажемся в анархии разом и тогда будем жить в другой модели. Мне кажется, это более реалистичный взгляд на вещи. Но если рассуждать теоретически, конечно, когда ты расшатываешь какие-то рамки, отодвигаешь какую-то границу, то очень помогаешь другим, тем, кто приходит следующим.
– А ты работаешь на общечеловеческую эволюцию? Типа всеобщее принятие чужой самоидентификации, что-нибудь такое.
– С этой точки зрения общечеловеческой эволюции я не рассматривал. Потому что, безусловно, все эти смысловые прецеденты и то, что происходит в областях культуры и искусства, все это работает с коллективной памятью. Я думаю, что, возможно, это имеет место быть. Я просто не задумывался. Понятно, что это эволюционные процессы, наверное. Не знаю. Интересно. Что вообще является эволюционным процессом?
– Когда мы перестаем травить гомосексуалов, когда мы окончательно отходим от дискриминации расовых меньшинств, когда стремимся к сокращению разницы между самыми богатыми и самыми бедными…
– Я просто не знаю, какое это отношение имеет к эволюции в том смысле, как эволюции именно развития. Понятно, что у нас влияет на развитие – научный прогресс. Но на научный прогресс, в свою очередь, влияет военная угроза. Или непосредственно война. Она заставляет науку открывать новое. Наверное, рынок тоже влияет, но война как-то открывает больше возможностей для прогресса научной мысли. Если вопрос отношения к пристрастиям в сексе, то это вообще не имеет какого-то движения от и до. Это касается каких-то областей контроля, просто политических режимов, идеологии. Это если исходить из того, что была Древняя Греция, Древний Рим, они были язычниками, и в отношении секса у них были одни обычаи. А потом пришла пасторская власть, христианство и его проповедники. Тут это не связано с историческим развитием, просто другая идеология.
– Тебе не кажется, что есть какие-то явления, например расизм, которые весь мир переживает, и к этому невозможно вернуться, так все сильно это пережили?
– На самом деле никто еще не пережил.








