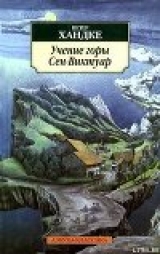
Текст книги "Учение горы Сен-Виктуар"
Автор книги: Петер Хандке
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Похожих портретов на той выставке было так много, что я уже не мог воспринимать другие картины. – В отдельном зале, который казался круглым, смыкающейся цепью шли по окружности вершины горы Сен-Виктуар, которую художник писал с самых разных точек, но всегда – снизу и в удаленной перспективе. Он ведь сам говорил: «Один и тот же предмет, увиденный под разным углом зрения, представляет собою интереснейший объект для изучения и заключает в себе такое многообразие, что, мне кажется, я могу заниматься им на протяжении нескольких месяцев, не меняя позиции, а только лишь смещая направление взгляда чуть вправо или чуть влево».
Тогда, на выставке, остановившись ненадолго подле горы, я отправился дальше. Но с течением времени ее образ, сохранившийся во мне, все темнел и темнел, пока не настал момент, уже значительно позже, когда я мог сказать: у меня появилась цель.
Возвышенность цвета
Гора Сен-Виктуар не является самой высокой точкой Прованса, но, говорят, она самая крутая. При этом она представляет собою не одну-единственную вершину, а длинную цепь, из которой складывается ровный хребет, высотой около тысячи метров над уровнем моря, идущий почти по прямой.
Одинокой крутой горой этот массив кажется только со стороны Экса, который расположен по отношению к ней почти строго на западе и от которого до нее полдня ходу: то, что со стороны Экса выглядит самодостаточной вершиной, является на самом деле лишь началом отрога, который тянется дальше на восток и до конца которого еще полдня ходу.
Эта цепь, мягко поднимающаяся с севера в сторону юга, где она резко обрывается, упираясь отвесными склонами в каменное плато, представляет собой известняковое образование, по гребню которого проходит его продольная ось. Особого драматизма исполнен вид, открывающийся на треугольник горы с западной стороны, поскольку этот вид словно бы дает срез всего массива, обнажая его складки и слои, так что даже тот, кто ничего не знает о горе, может получить общее представление о ее происхождении и проникается ощущением, что видит перед собою нечто особенное.
Вокруг этой глыбы, вырастающей из равнины и доходящей до самого неба, разместились другие, более плоские, разделенные трещинами и отличающиеся цветом породы, а также рисунком камня, – все они, хотя и сплющились когда-то, имеют те же складки и повторяют в миниатюре формы большой горы, словно ее растянувшееся продолжение.
Самым удивительным и странным в Сен-Виктуар была, однако, яркая высветленность сверкавшей, как доломиты, известняковой породы, которая названа в одной специальной брошюре «породой превосходного качества». Ни одна дорога не ведет туда наверх. Никакая трасса не проходит через этот массив, и даже на более пологом северном отроге нет ничего – ни путей, ни жилых домов, ни хозяйств (лишь на самом гребне стоит заброшенная монастырская часовня семнадцатого века). Южная стена годится только для альпинистов, но со всех других сторон можно спокойно подняться на вершину и потом еще долго идти по самому гребню. Все это путешествие, даже если начать его от ближайшей деревни, находящейся у подножия, займет не больше дня.
И вот когда я шел тем июльским днем по «тропе Сезанна», двигаясь на восток, в моей голове начали складываться, едва я только вышел из Экса, разнообразные фантазии, и я стал представлять себе, какие бы советы я мог дать неопределенному числу путешествующих здесь (ведь я был не единственным, кто с начала века двигался этим маршрутом).
Мысль о том, чтобы увидеть эту гору собственными глазами, тоже оставалась долгое время просто игрой фантазии. Разве это представление, будто предмет, который так любил изображать художник, уже сам по себе представляет собою нечто особенное, – разве это представление не похоже на навязчивую идею? – Но только когда эта мысль, рожденная фантазией, в один прекрасный день утвердилась в моем воображении, ко мне пришло окончательное решение (а вместе с ним и чувство удовлетворения): я все-таки увижу Сен-Виктуар вблизи! Попав туда, я не столько выискивал мотивы Сезанна, большая часть которых, как я знал, за это время уже оказалась закрытой различными постройками, сколько следовал своему собственному чувству: гора – вот что привлекало меня, как не привлекало до сих пор ничто другое в моей жизни.
В Эксе, под платанами на бульваре Мирабо, ветви которых сплелись наверху в сплошную плотную крышу, было, несмотря на утренний час, сумрачно-угрюмо. На выходе, в конце аллеи, белели струи фонтана, слепя глаза, словно солнечные зайчики, пущенные зеркальцем. Только когда я оказался за городской чертою, вокруг разлился мягкий дневной свет.
Было жарко и душно, но это воздушное тепло не мешало мне идти. Гора еще пока была не видна. Дорога сначала петляла, холмилась и в целом шла немного под уклон. Она была узкой, пешеходная полоса оборвалась еще на окраине города, так что расходиться с машинами было тут нелегко. Но через час ходьбы, за Ле-Толонель, машин уже почти не встречалось.
Несмотря на движение транспорта, у меня было ощущение, будто я окружен тишиной; такую же тишину я ощущал за день до того, среди шума Парижа, на улице, где мы когда-то жили. Я еще думал, не взять ли мне кого-нибудь с собой, теперь же я был рад тому, что один. Я шел по «дороге». Я видел в тенистой канаве «ручеек». Я стоял на «каменном мосту». Там – трещины в скале. Там – пинии, обрамляющие уходящую в сторону тропинку, в конце дороги, большим черно-белым пятном, – сорока.
Я вдыхал аромат деревьев и думал: «навсегда». Я остановился и записал: «Какие возможности заключены в остановившемся теперь! Тишина на тропе Сезанна». Пробежал летний дождик, с раздельными, поблескивающими на солнце каплями; после него только дорога выглядит влажной, а камешки на асфальте – очень пестрыми.
Для меня это было межвременье: целый год без определенного места жительства. Историю человека со скрещенными руками я написал в основном в номере американской гостиницы, и оттого, что я каждый день глядел на небольшой пруд, вся история окрасилась утренней серостью этой воды (потом у меня было такое чувство, будто «я пахал под землей»). Течение этого рассказа подвело меня к решению вернуться в мою исходную страну, хотя меня не оставляла в покое одна фраза, сказанная философом: «Лишать корней других – величайшее преступление, лишать корней себя – величайшее достижение».
До Австрии у меня оставалось всего лишь несколько месяцев. Все это время я нигде толком не жил или жил у других. Предвкушение радости и тревожное ощущение стесненности сменяли друг друга.
Ведь я уже нередко сталкивался с тем, что какое-нибудь совершенно чужое место, не связанное ни с какими особенными или счастливыми моментами, впоследствии дарило успокоение и простор. Вот здесь, сейчас, я открываю воду, и передо мною простирается широкий серый бульвар у Порт-де-Клиньянкур. Вот так во мне родилось непреодолимое желание, говоря словами Людвига Холя, «вернуться домой, описав дугу», и очертить свой круг в Европе.
К тому же мой герой, как и для многих до меня, был подобен гомеровскому Одиссею: как и он, я надежно укрылся (временно), имея возможность сказать, что я – никто; а размышляя как-то о главном персонаже моей истории, я представил себе, будто он, как некогда Одиссей при помощи феаков, перенесся во сне в свою родную страну и сначала ее не узнал.
Впоследствии я действительно провел одну ночь на Итаке, в бухте, от которой начиналась дорога, уходящая куда-то в кромешную тьму, вглубь острова. И плач ребенка, который будет еще долго слышаться, уносится туда, в темноту. Сквозь листву эвкалиптов просвечивают электрические лампочки, а утром от деревянных досок, покрытых росой, идет пар.
В Дельфах, считавшихся некогда средоточием мира, на стадионе, заросшем травой, порхали бесчисленные бабочки, которых поэт Кристиан Вагнер называл «освободившимися мыслями почивших святых». Однако, когда я стоял перед горой Сен-Виктуар, на тропе между Эксом и Ле-Толонель, среди красок, мне подумалось: «Не является ли то место, где работал великий художник, в большей степени средоточием мира, нежели Дельфы?»
Плоскогорье философа
Гору уже видно не доходя Ле-Толонель. Она вся голая и почти однотонная; в ней больше сияния света, чем цвета. Иногда линии облаков можно спутать с линиями гор, достающими до небес: здесь же, наоборот, поблескивающая гора кажется на первый взгляд творением неба, чему в немалой степени способствует будто только что остановившееся движение параллельно ниспадающих отвесных скал и растянувшиеся по горизонтали у их основания слоистые складки. Такое ощущение, будто гора излилась с небес, из недр атмосферы почти одного с ней цвета, и, очутившись внизу, уплотнилась, превратившись в небольшой сгусток вселенной.
Вообще, на удаленных поверхностях можно иногда наблюдать необычные явления: задний план, каким бы бесформенным он ни был, изменяется, едва только перед ним на ничем не занятом участке пролетит птица. Плоскости удаляются, но одновременно обретают зримую форму, а воздух между ними и воспринимающим глазом становится материальным. И тогда все то, что уже до боли знакомо, то, что нерасторжимо связано с данным местом и к тому же давно лишено предметности из-за какого-нибудь вульгарного названия, – все это вдруг оказывается удаленным на правильное расстояние и сразу превращается в «мой предмет», который к тому же выступает под своим собственным именем. Для меня, пишущего здесь эти строки, это относилось не только к той сверкающей снегом поверхности склона далеких «Тенненгебирге», но и к тому загородному кафе на берегу Зальцбаха, которое из-за кружившихся над ним чаек сразу превратилось в «Дом за рекой», точно так же, как в другой раз «Капуцинерберг», с од-ной-единственной ласточкой перед ней, неожиданно распахнулась и явилась новоосмысленной «Домашней горой» – всегда открытая, ничем не укутанная.
Великая нидерландская империя семнадцатого века культивировала особый тип картин – «мировые пейзажи», которые призваны были уводить взгляд в некую бесконечность, и некоторые художники использовали для этой цели трюк с птицей, которую они помещали на среднем плане. («И нет ни одной птицы, которая спасла бы ему пейзаж», – говорится в одном из рассказов Борхеса.) А разве не может точно так же приблизить далекое небо какой-нибудь автобус, едущий через мост, с силуэтами пассажиров и окантованными окнами? Не достаточно ли одного только коричневого цвета ствола, чтобы из просвечивающей синевы сложилась форма? – Сен-Виктуар, без всяких птиц (или чего бы то ни было еще) между нами, была одновременно удалена и все же – прямо передо мной.
Только после Ле-Толонель становится видно, что за треуголкой горы начинается гряда, идущая с запада на восток. Дорога еще какое-то время сопровождает ее понизу, без всяких извивов и поворотов, а затем поднимается серпантином к известняковой платформе, которая образует нечто вроде плато у подножия отвесной стены, и дальше идет по ней прямо и прямо, вдоль хребта, словно бы параллельно его протянувшемуся в вышине гребню.
Был полдень, когда я поднимался по серпантину наверх, и небо было синим. Стены скал образовывали ровную ярко-белую полосу до самого горизонта. На красном мергеле высохшего русла ручья следы детских ног. Ни единого звука, только истошный стрекот цикад далеко окрест. Капли смолы на стволе пинии. Я откусил от нежно-зеленой шишки, которую уже успела поклевать птица, – шишка пахла яблоком. Глубокие трещины на серой коре дерева сложились в естественный геометрический узор, который я уже однажды видел на берегу реки и который повторялся не только в тех линиях, прочерченных на пересохшей глине, но и в других местах. Где-то совсем рядом пронзительно стрекотало, но разливавшаяся в руладах цикада была такого же ровного серого цвета, что и кора, и потому я заметил ее только тогда, когда она шевельнулась и начала спускаться по стволу, двигаясь задом наперед. У нее были прозрачные длинные крылышки с черными уплотнениями. Я бросил ей вслед щепку и вспугнул не одну, а сразу двух цикад, которые тут же вспорхнули и улетели, отчаянно голося, как привидения, которым нигде нет покоя. Глядя им вслед, я обнаружил на каменной стене, покрытой трещинами с пробивающейся из них темной травой, такой же узор, какой был на крыльях цикад.
Наверху, на западной оконечности высокогорья, расположена деревня Сен-Антонен. (Сезанн, уже на склоне лет, как-то раз тоже «приблудился» сюда, как он говорит в одном из писем.) Здесь есть кафе, в котором можно сидеть на улице, в тени деревьев («Relâche mardi» [4]4
Выходной день – вторник (фр.).
[Закрыть]); густая акация со спутанными ветками закрыла ажурным ковром поблескивающий сквозь листву отвесный склон горы.
Плато, по которому проходит дорога № 17, уходящая дальше на восток, словно в неизведанные дебри страны, – это плато кажется совершенно бесплодным и почти необитаемым. На всем участке, представляющем форму эллипса, на его западной оконечности отмечена лишь одна-единственная деревня, именующаяся Сен-Антонен-сюр-Байон. Следующий населенный пункт называется Пюилубье, и находится он в двух часах ходьбы, уже за пределами плато, на склоне, ведущем к равнинной части Прованса. Эту горизонтальную плоскость, нависающую мощной плитой над ландшафтом, я буду называть здесь «Плоскогорьем философа».
В некоторой нерешительности я шагал по пустынной дороге. (Автобусы отсюда в Экс не ходили.) Но скоро уже сомнения были отброшены, и я продолжил свой путь в Пюилубье. На трассе ни одой машины. Тишина, в которой каждый шорох воспринимается как звучное слово. Вокруг одно сплошное тихое брожение. Я шел, удерживая все время в поле зрения гору, иногда непроизвольно останавливался. В просвете корытообразной выемки на гребне хребта, там, где небо было особенно синим, я увидел идеальный перевал. Выжженные луга тянулись до самого подножия отрогов и казались выбеленными от домиков улиток, облепивших стебли. Они придавали всему ландшафту какую-то ископаемую допотопность, в которую теперь вдруг неожиданно включилась и гора, явившая в одно мгновение свою исконную сущность, представ в виде монументального кораллового рифа. Уже перевалило за полдень, и солнце сместилось в сторону; с противоположной стороны дул ветер. Написанное прошлым годом под землею плугом дало ростки и воссияло могучим светом. Стебли по краю дороги величественно пролетали мимо. Я замедлил шаг, не торопясь расстаться с белизной горы. Что это было? Ничего. Ничего не происходило. И происходить не должно. Я освободился от ожидания и не впал в возбуждение. Размеренность шагов уже давала ощущение танца. Растяженное тело, заменившее собою меня, будто мягко покачивалось на паланкине, который несли мои ноги. Этот танцующий путник был мною, превратившимся в частный пример, каковой выражал «бытийную форму растяжения как особого измерения и саму идею этой формы», что, по мысли философа, «представляет собой одну и ту же сущность, явленную двояким образом», – хотя я, в этот совершенный час, выражал ее не двояко, а целокупно-однородно: как правила игры и как игру правил, подобно тому ходоку из Верхней Австрии, в болтающихся брюках. Теперь я и сам знал, «кто – я», и как следствие – ощутил смутное движение неопределенного императива. Труд философа представлял собой как-никак этику.
На одной из фотографий Сезанн стоит, опираясь на толстую палку, с рисовальными принадлежностями за спиной, готовый отправиться, как гласит мифическая подпись, «На поиск мотива». Отдаваясь радости движения по этому высокогорному плато, я не помышлял ни о каких поисках и ни о каких мотивах, – ведь мне было прекрасно известно, что художнику не нужны особые «стаи птиц» для того, чтобы не дать распасться явленному нам в его картинах царству мира. Единственные животные, которых он еще в самом начале как-то допускал, были собаки, присутствующие на демонических пикниках и в сценах купания: их трактовали как символ неприятия духовного томления, что якобы прочитывалось по гримасам на их мордах.
И все же потом я был рад оказаться наконец в Пюилубье, где я мог, сидя под платанами провансальской деревушки, в обществе незнакомых мне людей, насладиться пивом. Крыши домов перед линией гор действовали успокаивающе. Одна из залитых солнцем улиц называлась «Полуденной». Какой-то старик, похожий на ветерана, любовно демонстрировал собравшимся на террасе посетителям свою можжевеловую палку и почему-то напомнил мне знаменитого режиссера Джона Форда. Две девушки с рюкзаками и в тяжелых ботинках, направлявшиеся в горы, где они собирались пройти по западному склону, будто вышли из его старых фильмов.
Прыжок волка
Именно в Пюилубье, однако, у меня произошла история с «моей» собакой. И теперь я не могу двигаться дальше, пока не избавлюсь от нее.
В нашем доме собак никогда не держали; только однажды к нам приблудился какой-то пес, к которому я потом очень привязался. Как-то летом он угодил под машину, и прошло несколько дней, прежде чем мы собрались его отвезти на тачке к живодеру в соседнюю деревню. Это мероприятие превратилось в долгую экспедицию: то и дело кто-нибудь из нас не выдерживал и убегал от невыносимой вони, так что в результате нам пришлось бросить тачку в чистом поле. (В тот день я впервые, будучи ребенком, испытал нечто вроде отчаяния.) Много позже, в Цюрихе, я оказался свидетелем того, как один огромный черный дог и такой же черный доберман набросились спереди и сзади на белого пуделя, которого они растерзали на части.
Однако совсем уже непреодолимое отвращение собаки стали вызывать у меня с тех пор, как я начал много ходить пешком. Отныне в любом открытом месте я невольно готов был встретить такое же чудовище, с каким я столкнулся в Пюилубье. Кошки притаились в траве, сидят, словно отрешенные от мира; рыбы в ручьях разлетаются темным веером; жужжание пчел – знак предостережения; бабочки появляются и исчезают – «мои усопшие»; стрекозы предпасхально-го цвета; утреннее море птиц, откатившееся к вечеру в шуршащие папоротники; змеи как змеи (или просто змеиная кожа), – и только там, во тьме, застывшая в неподвижности собака, вблизи – всего лишь кол от забора, хотя нет, все же – собака.
На самом краю Пюилубье расположена казарма Иностранного легиона. На обратном пути, когда я решил сделать небольшой крюк и обойти деревню, я проходил как раз мимо нее. Вся занимаемая ею площадь залита бетоном, ни деревца, ни кустика, только колючая проволока по кругу. На плацу никого, в зданиях – тоже, казалось, будто солдаты только что покинули гарнизон.
И все же до меня донесся металлический звук, словно кто-то бежит и на ходу передергивает затвор. Потом к этому добавился рокот или даже скорее далекий зловещий шепот, заполнивший воздушное пространство, и почти одновременно я ощутил, совсем уже близко, чей-то рык: самый злобный из всех самых злобных звуков – клич смерти и клич войны одновременно, вонзающийся прямо в сердце и на какое-то мгновение представляющийся воображению ощерившейся кошкой. Конец всем краскам и формам пейзажа: только белизна зубов, а за ними – синеватый пурпур отверстого зева.
Да, передо мной, за забором, стоял огромный пес – нечто вроде дога, в котором я сразу же признал своего врага. И вот уже со всех сторон бегут через двор другие, бегут, стучат когтями по бетону и останавливаются на некотором расстоянии от меня и от того, первого пса, который, судя по рыку и повадкам, вожак этой своры.
Все тело у него кажется пестрым, а голова и морда – черными. «Вот оно, воплощенное зло», – подумал я. Массивный череп, несмотря на висящие складчатые брыли, выглядел словно бы усеченным; короткие уши торчали остриями кинжалов. Я посмотрел в глаза: в них тлели огоньки. Последовала пауза, рык прекратился, пес переводил дыхание, бесшумно капала слюна. Зато начали лаять остальные, хотя их лай воспринимался скорее как риторическая фигура, лишенная какого бы то ни было чувства. Сам вожак был короткошерстным, гладким, с рыжими подпалинами, хвост – голый, под хвостом – светлый круг цвета блеклой бумаги. Следующий выплеск злобы окончательно поглотил пейзаж, который исчез в гигантской воронке, образовавшейся от разрывов бомб и гранат.
И снова взгляд на собаку: я вижу, что стал объектом ненависти. – Но кроме этого, я вижу еще и страшные муки животного, будто раздираемого какой-то дьявольской силой. Ни одна частица его тела не знала в этот момент покоя. Только один раз, сделав вид, будто я ему бесконечно наскучил, он прервался, притворно скосил глаза и даже как будто принялся снисходительно играть со своими приятелями (которых он точно так же мог загрызть до смерти), – чтобы потом, в следующее мгновение, прямо как в кино, кинуться на забор, встав на задние лапы, так что я непроизвольно отпрянул.
Он угрожающе молчал, внимательно и долго изучая мое лицо, в котором его интересовало только одно – признаки страха и слабости. Я понял: он не имел в виду лично меня, просто его жажда крови здесь, на территории Иностранного легиона, где действовало лишь одно-единственное право – право войны, была надрессирована на всякого, кто был без оружия и без формы, то есть был в чистом виде только тем, кем он был. («Должен быть хоть кто-то, кто остается безоружным», – было сказано однажды в связи с этим одним таким чистым «я».) Он, сторожевой пес – на замкнутой территории; а я – в чистом поле (чего он естественным образом не видит, ибо вся его реальность исчерпывается огороженным клочком земли); и между нами колючая проволока, как в одном старом стихотворении – словно «вечный, проклятый, холодный, тяжелый дождь», сквозь который я, будто здесь и не здесь, разглядываю своего врага, наблюдая за тем, как он, одержимый неистребимой жаждой убийства, только приумноженной, наверное, жизнью в гетто, теряет на глазах все признаки благородной породы и опускается до подлого отребья, стаи палачей, среди которых он – первый из первых.
Мне вспомнился урок, который преподнес мне дед, когда мы с ним ходили нашими путями: он показал мне, как нужно избавляться от собак, если какая-нибудь попадется на дороге. Даже если поблизости не было никаких камней, он наклонялся, будто поднимал с земли увесистый булыжник, и всякий раз зверюги действительно отставали. Однажды он даже швырнул в пасть одной такой псине горсть земли; собака проглотила землю и пропустила нас.
Подобное же я попытался проделать с догом из Пюилубье, который в ответ на это только приумножил свое многоголосное рычание. Когда я наклонился, из кармана пиджака у меня выскользнул желтый билет парижского метро, уже использованный и с какими-то записями на обратной стороне: вот его-то я и перебросил через забор, почувствовав на какое-то мгновение собственное превосходство, – пес тут же превратился в куницу, которая, как известно, жрет все подряд, и проглотил мою бумажку, с жадностью и отвращением одновременно.
Мое воображение сразу нарисовало жуткую картину: как черви, живущие у него внутри, устраивают ночную свалку, набрасываясь впотьмах на лакомую добычу, – и вот уже действительно из дога исторглась густая масса, которая шлепнулась на землю пирамидкой с заостренным навершием, которое напоминало острые кончики его ушей; только после этого я заметил, что вся бетонная площадка – в похожих засохших выцветших фигурах, которые будто сбились в свою очередь в кучу – (все вместе они напоминали какие-то размашистые каракули) – и явно служили отметинами, маркировавшими границы сферы публичного влияния пса – границы его власти.
Перед лицом такой бессознательной воли ко злу всякие уговоры бессмысленны (как и всякие разговоры вообще), вот почему я просто уселся на корточки, и дог Иностранного легиона сразу затих. (В этом было скорее просто изумление.) Затем наши физиономии приблизились друг к другу и словно бы окутались одним общим облаком. Взгляд собаки померк – никаких огоньков, и темная голова совсем почернела, тронутая тенью траура. Наши глаза встретились – точнее, один глаз встретился с другим: превратившись в одноглазое существо, я смотрел ему в глаз, – теперь мы оба знали, кто – мы, как знали и то, что навеки останемся смертельными врагами; тогда же я понял, что этот зверь уже давно безумен.
Следующий звук, который издала собака, был не лаем, а хрипом, который пробивался сквозь частое дыхание и становился все сильнее, сильнее, пока не стал похож на шум хлопающих крыльев, будто только что выросших у него за спиной – еще секунда, и он перелетит через забор, под оглушительный вой всей своры, который относился уже не только ко мне, но и к белизне той горной гряды, что вытянулась позади меня, или, быть может, ко всему свету по ту сторону вольера: да, теперь ему нужна была моя жизнь, но и я не желал ничего другого, кроме как уничтожить его на месте одним-единственным властным словом.
Ненависть лишила меня слов, и я оставил территорию, испытывая одновременно чувство вины: «При моих замыслах – ненависть непростительна». Я проделал весь этот путь, но больше не испытывал благодарности, красота гор утратила действительность, действительно было только зло, и оно было реальным.
Немота, сковавшая меня, мешала мне идти. Враг, поселившийся внутри, продолжал биться в судорогах, и скоро уже распространилось зловоние. В природе – ничего узнаваемо-различимого, осталась одна безымянность, повергшая меня в недоуменное, воинственно-оцепеневшее созерцание, которому более всего, как мне кажется теперь, подходит заимствованное из немецкого слово «вас-ист-дас»: говорят, оно обязано своим происхождением пруссакам, которые, оккупировав в 1871 году часть Франции, все дивились на маленькие окошки, проделанные в крышах некоторых парижских мансард.
Выйдя из Пюилубье, я присел в небольшой, поросшей травой ложбине, которая протянулась через виноградник, и подставил лицо солнцу. Наверное, я устал, и от ходьбы, и от всего остального, и потому ненадолго заснул. Мне снилась собака, которая превратилась в свинью. В этом обличье – светлая, плотная, круглая – она уже не была уродцем, выведенным человеком, она была настоящим животным, каким и положено быть животному, и я проникся к ней симпатией и даже приласкал, хотя проснулся по-прежнему непримиренный, готовый, говоря словами философа, «после очистительных оргий познания к великим свершениям, которым уготована участь священных деяний».
День еще не угас, а на небе вышла луна. Мне представилось, будто я вижу на ней «Море молчания», и флоберовское «умягчение» проникло в мое сердце. От мягкой глины в ложбине пахло дождем и свежестью. Белизна березы выглядела по-новому. Ряды виноградника были дорогами, уходящими в никуда. Лозы стояли светильниками покоя, луна белела извечным символом фантазии.
Я шел в лучах последнего солнца, навстречу живительному ветру; синий цвет горы, коричневый цвет лесов и ярко-красный – мергелевых впадин были цветами моего знамени. Временами я пускался бежать. А в какой-то момент, оказавшись на мостике, переброшенном через овраг, даже прыгнул – довольно высоко и далеко, потом злорадно рассмеялся и назвал это место «Прыжок волка» («Saut du loup»), после чего уже спокойно продолжал свой путь, радуясь предстоящему ужину в Эксе.
Когда я поздним вечером добрался дотуда, я увидел рачков, карабкающихся по разворошенной куче булыжников на бульваре Мирабо, а еще – синий воздушный шар, который плавал в воздухе на ночном ветру, как дым от сигарет, и в голове у меня от усталости ничего не осталось, кроме «Блюза долгого дня».








